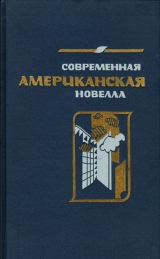
Текст книги "Современная американская новелла (сборник)"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: Трумен Капоте,Джон Апдайк,Уильям Сароян,Роберт Стоун,Уильям Стайрон,Артур Ашер Миллер,Элис Уокер,Сол Беллоу,Энн Тайлер,Сьюзен Зонтаг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 38 страниц)
Форрест кивнул.
– Верю, верю. У тебя теперь целый домище. – Он улыбнулся и обвел рукой просторную, залитую светом комнату.
– Для меня это тьфу!
– А для меня – нет, – отозвался Форрест. Он слушал старика, слегка приподнявшись на постели. Потом сел, натянул ботинки и принялся старательно шнуровать их. Поднялся, сделал несколько шагов к двери (теперь он был ближе к ней, чем Банки, который все еще стоял на коленях) и тут вдруг обернулся и сказал: – Прости меня, Банки. И спасибо за доброту. Домой я пойду один… – на-конец-то один. Я надеюсь.
Он сказал это и вдруг подумал, что и прошлым вечером говорил, что идет домой, но теперь-то это прозвучало совсем по-иному, будто речь шла не о конечном пункте, а о воротах, о шлюзах.
– Ив моей будущей жизни ты мне не помощник. Да и я тебе тоже.
– Мне помощь и не надобна. Я сам могу помочь. – Банки поднялся, посмотрел на Форреста и в подтверждение простер к нему руки – вот его сила, достойная любого мужчины, и стариковская мудрость, незамутненная, неодеревенелая – только бери.
И, хотя Форрест не знал этого и никогда не узнает, он взял уже то, чем мог воспользоваться, – откровение, рожденное историей Банки и явившееся ему во сне, в том самом сновидении (погребенном сейчас в глубинах его памяти) о его собственном потерянном отце, брошенном, угасшем. Форрест сунул руку в карман, вытащил бумажник и протянул старику доллар.
– За хлопоты, – сказал он.
Банки укоризненно покачал головой и не двинулся с места; не мигая, широко раскрытыми глазами он смотрел на Форреста, а тот еще раз сказал «спасибо», повернулся, взял саквояж и быстро вышел.
Джойс Кэрол Оутс
Агония
Аркины жили в дощатом трехэтажном доме. Когда-то дом был белый, но уже много лет напоминал неуютным, унылым видом нахохлившегося в стужу воробья. Долгими зимами снег злобно сек беззащитные высокие стены, залеплял окна; весной и осенью по ним хлестал дождь, и вода, переполняя ржавые, забитые листвой водосточные трубы, стекала на землю по вылизанным непогодой доскам. К дому была пристроена веранда, она давно осела, но из года в год в теплую погоду там сидели дети разного возраста и смотрели на дорогу; малыши постепенно подрастали, подростки куда-то исчезали, старики тоже исчезали, и наконец осталось только четверо: мать и трое детей. Проезжие невольно вздрагивали, внезапно увидев этот дом посреди жалкого, вклинившегося в лес клочка земли: не дом, а какая-то нежилая развалина на отшибе, даже изгороди нет. Под стенами раскиданы кучи гнилого сена, потрескавшиеся или пустые окна третьего этажа забиты кусками картона. Сзади – небольшой сарай, приспособленный под гараж, и приземистое сооружение из старых бревен – бывший курятник, а весь двор, как метастазами рака, изъеден грязными, без единой былинки пятнами, будто почва заражена.
Как-то октябрьским вечером Джин Аркин, глядя из окна машины на выплывавший из-за чахлых деревьев дом, призадумалась: как же ей жить дальше? Ее подвез знакомый, парень двумя-тремя годами старше; он работал в городке на заправочной станции, а она уже почти пять месяцев служила там на почте. Оба бросили школу, и у каждого были на то причины. У Джин по нелепой случайности погиб отец – трактор перевернулся на склоне, и он лежал под ним придавленный, пока не истек кровью. Случилось это весной. И вот Джин сидела в грязной машине и смотрела, как последние деревья убегают назад, открывая старое, похожее на деревянный череп сооружение.
– Как там Тимми? Еще не сбежал с фабрики? – поинтересовался парень.
Он был высокий, крупный, неуклюжий и грубый; при нем она ощущала опасность – утомительный, неослабевающий холодок внутри.
– Пока работает, – ответила она. Тимми, ее старшему брату, было восемнадцать.
– Во флот не собирается? – опять спросил парень.
– Вроде собирается. – Джин вдруг резко выпрямилась: в их дворе стояла машина, значит, приехал мамашин ухажер. – Если бы мать его выставила, – протянула она, – если бы могла достать денег где-нибудь еще…
Не отрывая глаз от машины, она беззвучно шевелила губами, грязно ругаясь про себя. Сердце у нее колотилось.
– А… этот, – сказал парень и ухмыльнулся.
Всего восемнадцать лет, а у него уже морщинки на лице, забитые то ли грязью, то ли салом. Щербатые зубы, огрубевшая кожа, нескладная звериная голова; и все-таки Джин знала, что по-своему он красив, что-то в ней тянулось к нему, несмотря на неприязнь.
– Что тут смешного? – спросила она.
– А я ничего и не сказал. Неплохой мужик этот Уоллес, насколько мне известно.
Джин почувствовала, что ее лицо одеревенело. Вокруг рта, наверное, собрались складки. Стареть не хотелось – во всяком случае, не так скоро. Теперь, когда мать опять «полюбила», Джин казалось, что сама она стареет. Зато мать молодела на глазах: все что-то напевала в кухне и завивку себе сделала мелким бесом.
– Моя-то по крайней мере не пьет, – сказала Джин. Лицо у парня напряглось. – Сука, конечно, но не пьет. Они с Уоллесом сходят иной раз в бар или дома пиво тянут, но больше всего ей по душе мороженое в стаканчиках… Да что с тобой?
– Зачем ты завела об этом?
– О чем?
– Сама понимаешь – о чем.
Джин знала Боба давно, но никогда о нем не задумывалась, не обращала на него особого внимания. Жил он в нескольких милях дальше по дороге, почти в таком же доме, как и она. Большинство домов в округе были как у них, только поуютнее: и краска свежая, и гаражи отстроены заново, и клумбы разбиты. Хотя на кой черт эти клумбы? Она вот тоже давно собирается навести порядок во дворе, да руки не доходят. А надо бы убрать хлам, оттащить старые, проржавевшие сани Энди на задний двор, посадить хоть несколько цветков вдоль дорожки… Никак руки не доходят, да и отец ведь только весной умер.
– Нечего ему у нас делать, – прошептала Джин.
– Чего-чего?
– Это я не тебе.
– Так и свихнуться недолго.
– Заткнись.
– Может, пешком пойдешь, если уж ты так…
– Отстань от меня.
– Слушай, а он мужик ничего, этот Уоллес.
Игривый, двусмысленный кивок взбесил Джин. Она замахнулась, чтобы влепить пощечину, но, смутившись, не ударила, а прижала холодную ладонь к его лицу и ногтями мягко нажала на щеку.
– Ты же говорил, что ничего о нем не знаешь. А ну выкладывай, – с деланным нетерпением сказала Джин.
– Родом он из Репидса, есть ферма, без долгов. Что еще? Да откуда мне знать?
– Твоя сестрица знает все сплетни на свете. Это-то тебе кто рассказал?
– Сестра.
– А что там было у его матери?
– Рак, солнышко.
Она не сводила с него глаз и заметила, что ему стало не по себе от слова «рак». Он даже попытался смягчить его, назвав Джин «солнышком», и ее вдруг захлестнула волна нежности. Может, Боб, если подумать, похож на нее. Может, она просто ни разу к нему не пригляделась как следует – был всегда рядом, примелькался, один из больших парней, которых она всегда побаивалась… Она всматривалась в него, ждала, что сейчас перед ней откроется иной, новый человек, но видела все то же страшновато-привлекательное лицо и напускную сонливость в глазах – строит из себя невесть что.
– Может, у него тоже рак будет, – сказала она.
– Да ну тебя!
– Тимми на работе, Энди остался в школе играть – мать ему велит играть там, чтобы им можно было побыть вдвоем… как будто я ни о чем не догадываюсь. А мне все известно… Наверняка сидят сейчас в кухне. А если войдешь, посмотрят как на чужую, будто и не знают тебя вовсе, особенно она. А он всегда, как прокашляется, потом проглатывает – тихонько, чтобы никто не заметил…
– Да ну, нормальный мужик. Что ж тут плохого?
– Это из-за нее он мне поперек горла, – сказала Джин и зачем-то хлопнула себя по бедру. На нее часто накатывали приливы возбуждения, какая-то энергия, которой не было выхода, словно внутри вспыхивала молния. Она запела слова дурацкого шлягера: – «Если б тебя я не любила, что бы делала я, милый? Век сидела бы, рыдая о тебе…» Ты когда приемник починишь?
– Завтра.
– А машина, между прочим, у тебя дерьмовая.
Он пожал плечами.
– Мне нравится.
– А мне нет.
– Может, пешком пойдешь?
– Не пойду.
– Да что с тобой?
– Сам ведь знаешь, что машина у тебя дерьмовая.
– Лучше дерьмовая, чем никакая.
– Хозяин твой, видно, не ахти как платит.
– Слушай, тебе надо замуж или…
– Или что?
– Просто необходимо. На пользу пойдет. Бетти, сестре моей, помогло. – Он ухмыльнулся каким-то своим мыслям. Джин от этой ухмылки передернуло. – Будешь с мужем воевать, а не со мной.
Она смотрела в окно. Вдоль дороги на сером фоне вовсю желтели деревья. К осени их листва засохла и омертвела, а на дубах, стоящих чуть поодаль, стала бурой. Джин без интереса скользила по ним взглядом – так, ничего не значащий, случайный пейзаж, а в голове ее тем временем теснились какие-то смутные мысли, догадки. Всегда, не только после смерти отца, а еще с самого раннего детства, она остро и отчетливо ощущала, как ее беспокойство прорывается наружу чуть заметным подергиванием век. Интересно, а сейчас они дергаются? Это ненавистное ощущение ужасало и одновременно завораживало ее, будто какая-то часть тела вдруг обрела самостоятельность, стала независимой. Она подвинулась к середине и повернула зеркало заднего обзора так, чтобы видеть себя.
– Давай-давай, не стесняйся, – съязвил Боб.
Джин вглядывалась в свое отражение. Светлые, коротко остриженные волосы прямыми прядями падают на уши, к зиме они обычно темнеют, а вот кожа темная всегда, у блондинок редко бывает такая кожа – смуглая, будто загорелая, а если освещение неподходящее, даже оливковая, чего Джин терпеть не могла. Огромные, иногда почти в пол-лица, круги под глазами придают ей усталый и раздраженный вид. Джин тронула щеки. Все в порядке, удовлетворенно подумала она. Правда, красавицей не назовешь, но оно и к лучшему, иначе пришлось бы следить за собой – тщательнее умываться на ночь, почаще мыть голову. Лицо грубоватое, холодное, но черты правильные, не дурнушка, и ладно. Чего же еще? И, глядя, как на отражении шевелятся губы, она беззвучно выговорила: «Тварь».
– Поправь зеркало – и поехали, – сказала она вслух.
– Что?
– Поехали отсюда, Христа ради! Наша развалина действует мне на нервы. Не хочу туда идти. Трогай!
– Куда ехать?
– В лес, в поле. Хоть в канаву!
Боб угрюмо посмотрел на нее, и сонливости в его глазах прибавилось. Он прятал от Джин свои чувства, потому что не доверял ей, да она ничего и не замечала.
– Ты такой же, как я. Деревенщина, – сказала она. – Тупая захолустная деревенщина. И зубы у тебя не лучше, чем у него… а с годами станут даже хуже.
– Так ты не вылезешь?
– Я же сказала – нет.
– Серьезно?
– Не зли меня. – И Джин беспомощно уткнула лицо в ладони. – Ну пожалуйста, не зли… ненавижу… жар начинается, как перед смертью, и сердце колотится. Боб, ну пожалуйста. Если бы я могла жить спокойно. Если б кто-то меня успокоил…
– Значит, поедем?
– Да.
Он завел машину и тронул.
Джин потерла глаза, чтобы снять напряжение с усталого, осунувшегося лица. Когда Тимми вбежал с вестью об отце, она не заплакала, как не плакала и позже, зато мать слонялась по дому с опухшими красными глазами, растрепанная, подурневшая… Боб свернул на проселок. Джин безучастно разглядывала знакомый с детства пейзаж – однообразные, иссохшие к осени поля, уродливые изгороди, колючую проволоку, свисающую с кольев. Она бы изменила жизнь, уехала, но куда? Куда деться от старого дома с пустым двором, хотя и дом, считай, уже потерян: мать выйдет замуж, и его продадут или заколотят. После свадьбы с ними не останешься… Боб заглушил мотор, они вышли и, утопая в опавшей листве, побрели к лесу.
– Помнишь, что я тебе говорил, а? Может, тебе все-таки стоит выйти замуж?
– А ты меня возьмешь? – спросила Джин, прижимаясь к нему. Она вдруг расплылась в неудержимой, бесстыдной улыбке, как в детстве, когда мальчишки говорили гадости и она знала, что улыбаться нельзя, но ничего не могла с собой поделать. – И потом, что скажет твоя драгоценная подружка, та, толстозадая?
– Вовсе не толстозадая.
– А как же это теперь называется?
– Да черт с ней, – рассердился Боб. – Перестань!
Когда они вернулись в машину, Джин была холодна и молчалива.
– Достанется тебе от матери, к ужину-то опоздала, – сказал Боб. Он тоже чувствовал себя неловко, неуверенно, тоже прятал глаза. Джин старалась держаться с независимостью, как бы показывая, что не придает происшедшему никакого значения, мол, для нее это пустяк, плевое дело и вообще ей на все плевать. Боб искоса поглядывал на ее мелкое, застывшее лицо, скрытные глаза, поджатые губы, надеясь увидеть хоть какое-то сожаление или стыд… Он подвез Джин к дому, и она молча вышла.
– До завтра, – попрощался он.
Джин медленно пошла по дорожке.
Дом был погружен во тьму, только в кухне горел свет. На ступенях веранды она остановилась, морщась от боли, и в панике подумала, что внутри у нее все разодрано, что-то там не в порядке… вот боль приутихла. Джин решила обернуться, посмотреть на дорогу, но Боб как-то незаметно уехал.
В кухне за столом сидел ее младший брат Энди, мать и Уоллес. Уоллес, не переставая жевать, улыбнулся. В ярком свете он почему-то не казался отвратительным, а только давно знакомым, домашне-дружелюбным, как собака. Мать была крупная, нахрапистая, с темными цыганскими глазами и настороженным, заостренным лицом, будто она все время принюхивалась к чему-то, чего не чуяли другие.
– Садись, ты опоздала, – сказала она и подвинула в сторону дочери тарелку с фасолью. Джин хотелось уйти к себе, спрятаться от них – вдруг опять появится боль, но ее одолевал какой-то странный голод и непреодолимое желание поесть со всеми вместе. Пока мать и Уоллес разговаривали, впрочем, говорила в основном мать, Джин сидела как в тумане, ощущая под собой успокоительную твердь стула – своего стула, на своем месте у стола.
Шла беседа, Джин быстро глотала еду и чувствовала себя жадной дикой зверюшкой, которая воровато роется в помойной куче. Энди болтал, для девятилетнего ребенка даже слишком много. «Почему в нем нет той застенчивой гордости, которая была в этом возрасте у меня?» – думала Джин. Мать, воодушевленная присутствием мужчины, говорила еще более напористо, чем всегда, смачно обрушивая на домочадцев потоки слов; сам Уоллес лишь изредка вставлял словечко-другое – невпопад, с неуверенной, заискивающей улыбкой. Тихоня… Джин вдруг почувствовала себя союзницей этого пришедшегося сейчас кстати человека, которого «полюбила» мать. Ясно, он рад сидеть за столом вместе со всеми, будто вовсе и не чувствует, что кое-кто его презирает. Разговор шел о Тимми: мать удивлялась, что он не явился к ужину; Уоллес тоже был глубоко озабочен, хотя сам Тимми с ним ни разу и словом не перемолвился. Где же Тимми, что случилось? Мать, которая в другое время не задумываясь сыпала отборной бранью, теперь лишь путано рассуждала о том, что молодые люди стали не по годам самостоятельными. Под пристальным взглядом Уоллеса Джин с трудом глотала фасоль. Все смотрели на нее.
– Ну что уставились? – Она потупилась. На ее апатичном мелком лице сквозь тугую кожу проступали кости.
– А Боб? – осведомилась мать.
– Боб? – переспросила дочь, с трудом изображая недоумение.
– Да, Боб. Он о Тимми ничего не говорил? Может, видел его сегодня?
– Нет, – ответила Джин, не поднимая глаз.
Мать выдержала паузу. Чувствовалось, как в ней закипает злость и она вот-вот изольет ее на присмиревших, испуганных домочадцев.
– Может, хочешь пойти к себе и там доешь?
Джин не ответила.
После ужина ей пришлось помочь матери с посудой. Уоллес, примостившись на стуле у плиты, о чем-то размышлял, попыхивая трубкой, а может, просто притворялся, что размышляет. Джин боялась на него взглянуть, боялась не сдержать презрения, а если бы и взглянула, то в ответ получила бы только приветливую, застенчивую улыбку, словно извинение за то, что он здесь – с «семьей», с «любовью», так удачно избавленный от одиночества. «Но ведь все это ложь, – горько думала Джин, – все мы здесь одиноки. Мать словно стихия, – думала Джин, – ливень, ураган, нечто проникающее в каждую щель и угол, все сминающее и опрокидывающее на пути. Конечно, отец был не лучше, чем Уоллес, – такая же тряпка. Никогда не спорил с матерью, только молча терпел громкую ругань». Было время, когда Джин ненавидела ее за эти постоянные вопли, но потом стала понимать, что жестоким-то был он, отец, даже не жестоким, а каким-то недоразвитым, недоделанным, будто чего-то в нем не хватало. Но теперь отец умер, и его место занял Уоллес, провонявший весь дом табаком. Какая же разница? Джин отдалась этому парню, Бобу, чтобы отвлечься, думать о другом, о другом беспокоиться, но ничего не вышло. Все ее попытки рушились под напором матери.
Она ушла к себе в комнату и включила радио. Вдруг кто-то ворвался в дом, шумно хлопнув входной дверью. Зазвенел голос Тимми. Джин привстала: что случилось? Тело напряглось, точно в ожидании боли. Тимми в страшном возбуждении что-то орал, но слов было не разобрать. Она выскочила из комнаты и столкнулась с братом в темном коридоре.
– В чем дело? – спросила она.
– Убийство! – крикнул брат и, оттолкнув ее, побежал к себе. Все бросились за ним, лишь Уоллес приотстал.
– Да что случилось-то? Что? – закричала Джин, судорожно вцепившись в ворот своего платья.
Тимми появился с ружьем. Высокий, толстоватый парень с довольной физиономией.
– Ну, мне надо спешить обратно, ребята ждут. Там шериф, полиции понаехало, а нам поручили искать убийцу.
– Да кого убили-то? – заорала мать, сердито дергая его за рукав.
– Сына у Шефера, его младшего, ну, как его там?.. Энди, да ты знаешь. – Он толкнул брата в грудь. – Во, точно, Фреди. Его и убили. Только пока неизвестно – кто. Прямо в переулке у канавы, как раз за домом. А нам поручили убийцу искать.
– Его убили, этого малыша? За что? – спросила мать.
– Вот и надо выяснить. Всего ножом исполосовал, сволочь. Ведь этот Фреди еще ребенок совсем. – Тимми безуспешно пытался протиснуться мимо матери. – Ну ладно, пойдемте вместе, посмотрите, как мы присягу давать будем и вообще… Там собак привезли. Ну что, идете?
Уоллес хотел было что-то сказать, да мать его одернула. Они все заторопились к выходу, одна Джин осталась стоять, прислонившись к стене. Дом, словно наэлектризованный энергией брата, ходил ходуном, а он все не мог угомониться:
– Фреди был жив еще, когда его нашли. Собака притащила к нему другого парнишку. Он тогда еще не умер, прямо на глазах кончался… весь исполосованный. Парнишка его нашел, а он уже при смерти, даже и сказать ничего не может – бредит только.
Джин ушла к себе и врубила приемник на всю мощь. Сначала в голове не было ни единой мысли – она стояла оцепеневшая, пустая, просто какой-то предмет в маленькой затхлой комнатке с косым потолком (лестница на третий этаж проходила как раз над стенным шкафом).
– Никто из моих знакомых не мог этого сделать, – наконец осмелилась она произнести во весь голос.
Только отзвучали слова, ее глаза остановились на черном проеме окна, где застыло, наблюдая за ней, ее же собственное отражение.
Они вернулись через несколько часов, и голос Тимми загремел по дому с той резкой отчетливостью, с какой звуки разносятся ночью. Джин разобрала «шериф», «ребята», «парнишка», но общего смысла не поняла. Она не встала, когда компания, о чем-то споря, шумно ввалилась в дом, только прислушалась: с ними ли Уоллес, может, домой уехал – ведь уже поздно?.. Куда там, вот и он что-то бормочет. Все уселись в гостиной, словно был праздник. Джин все не вставала. Через несколько минут, облизывая мороженое, прибежал Энди.
– Ты чего, заболела, что ли?
– Пошел к черту, – прошипела она.
Энди выразительно присвистнул и хлопнул дверью. Джин даже не шевельнулась, точно тяжелобольная. Она уснула, хотя радио было включено, а в гостиной продолжались пересуды, и только поздно ночью ее разбудил резкий треск радиопомех. Все вокруг было мирным, знакомым – даже ее собственное испуганное, размытое в стекле отражение.
На следующий день на работе только и разговоров было что об убийстве. Все говорили, говорили; приходилось по сто раз выслушивать одно и то же, видеть подавленные, недоуменные лица. Старуха, которая вместе с Джин запачканными краской пальцами разбирала почту, знала все подробности и каждому их выкладывала: и что мальчонке было девять лет, и что ничего подобного у них еще не случалось, а то, прошлогоднее убийство не в счет – обыкновенная драка по пьянке, так что ничего подобного еще не было; а когда его нашли – другой парнишка нашел, – он еще не умер, но был при смерти, говорить уже не мог, лишь стонал и исходил кровью прямо на глазах. Шерифу, уж будьте уверены, кое-что известно, но он молчит. Его-то не провести – тертый калач… А мальчонке девять только. У Шефера и другой сын есть, Билл, а этот, Фреди, знаете, щупленький такой, все на велосипеде катался, в магазин после школы заходил – мешал всем, само собой, но вообще-то был безвредный. (Почта – длинная стойка в глубине небольшого бакалейного магазина.) А самое странное, что собака, его собственная собака, даже и не гавкнула – так и спала все время в доме.
Чем дальше, тем больше Джин запутывалась. Ее сбивало с толку даже не убийство, а что-то другое, происходящее с ней самой. Она быстро утомилась, стала сонной, рассеянной, руки еле двигались, а когда заглянул Боб, она даже не нашлась, что ему сказать.
– Думаешь, его поймают? – спросил он как бы между прочим.
– Поймают? Кого?
– Ну того, кто мальчишку убил.
– А, его… Конечно.
– Говорят, шериф знает кое-что… – промямлил Боб.
Ушел он – пришли другие. Старуха все не унималась. Джин бесила такая страстная неутомимость. Перебирая неловкими, холодными до омерзения пальцами почту, она с ненавистью прислушивалась к злорадному голосу. «Что-то со мной не так. Что же творится?» – мучилась она. Мальчика она знала и все думала о нем, стараясь представить его неприметное личико, бесплотное, как отражение в стекле, но не могла сосредоточиться: черты получались неясными, расплывчатыми. В голове назойливо вертелось: «Не мертвый – умирающий… не мертвый – умирающий…» Слово «умирающий» поразило ее. Почему не мертвый, почему умирающий? А долго он умирал? Джин закрыла глаза и, вцепившись во что-то перед собой – оказалось, в край прилавка, – подумала, что не сможет жить, пока не найдет ответа.
Боб опять подвез ее домой, по дороге он что-то мямлил про убийство, про новые факты. Говорили, что в переулке была чья-то машина, что мальчишка незадолго до убийства запустил в кого-то камнем, что его отец опять запил…
– Да замолчи ты, наконец, – не выдержала Джин и отвернулась. Боб больше не проронил ни слова. Около дома она выпрыгнула из автомобиля и, не обернувшись, побежала к крыльцу. Хорошо еще, что не видно машины Уоллеса, но матери тоже не оказалось дома. И Энди не было. Джин рассеянно прошла по комнате до лестницы, поднялась на второй этаж и остановилась, прислушиваясь: наверху гулял сквозняк. Что может быть на третьем этаже, кроме старого хлама? И все-таки ее охватил страх: вдруг там прячется убийца? Сначала скитался по полям и лесам, а теперь затаился у них в доме. Джин спустилась и села в гостиной, сложив руки на коленях, чувствуя беспомощность перед убийцей, перед его таинственной властью. Так она и сидела, словно забытый гость, пока не пришли Уоллес, мать и Энди.
С холода лицо матери раскраснелось.
– Как, ты уже дома? Ну, что слышно новенького?
– Ничего, – ответила Джин.
– А мы туда прокатились. Сегодня много народу понаехало, – сказала мать.
Уоллес аккуратно вытер ноги о старый, потрепанный коврик на веранде и тоже наконец вошел. Подавленное, напряженное лицо выдавало испуг. «Напуган, как и я». Их глаза встретились на секунду, и Джин отвернулась.
– У тебя все в порядке, дочка? Живот не болит? – спросила мать. Джин всегда раздражала эта неожиданная участливость в ее голосе.
– Не болит.
Мать холодной рукой пощупала ей лоб.
– Похоже, легкий жар, хотя, может, мне это с холода кажется.
– Чего беспокоиться раньше времени? – мягко сказал Уоллес.
– Вот именно, – благодарно отозвалась Джин.
– Если они хотят поймать этого выродка, пусть пошевелятся, пока не поздно, – сказала мать.
Дни шли, все было по-старому. Никаких перемен. Однажды Джин не пошла на работу и безвольно лежала в кровати, избавленная от пересудов, от всего, кроме неотвязного «умирающий», «умирающий». Она ворошила память, пытаясь поотчетливее вспомнить мальчика, жалея, что раньше даже не вгляделась в него внимательно, не перемолвилась двумя-тремя словами. Вот он на велосипеде, бледный от напряжения, хочет догнать других ребят… Больше ничего не приходило в голову. Но почему он завладел воображением? Может, из-за Энди? Вдруг убили бы его? Нет, пожалуй, дело не в этом. Смерть мальчика могла достаться только ему, и никому другому. Это была его смерть.
Тимми каждый день приходил с новостями, но все это были лишь пересуды, слухи, намеки, что шериф знает больше, чем говорит; имя убийцы так и оставалось еще неизвестным, хотя только оно могло поставить точку. Джин потеряла сон и лежала в темноте с открытыми глазами, пытаясь ухватить ускользающие черты мальчика, его призрачное лицо, пытаясь разобраться… Но в чем? Что происходит? Говорили, что убийцу со дня на день поймают, говорили про номера машины. Джин представляла въезжающий в переулок автомобиль, из него выскакивает человек с ножом, потом – темная, неясная сцена убийства… убийца запрыгивает назад в машину, но его уже увидели, запомнили лицо, номера. Конец. Не сегодня завтра – конец. Может, шериф его сейчас допрашивает. Тимми было известно только то, что не составляло секрета. Он и другие ребята с ружьями наперевес обрыскали округу, но безуспешно. Только траву повытоптали, вспугивая фазанов, да подстрелили зайца, хотя охотничий сезон не открылся. Шефер-старший, отец мальчика, избил кого-то в пивной. Вот и все новости. Джин не хотелось выходить к столу, пока не найдут убийцу, не хотелось слушать бесконечные пересуды. Чего будет стоить вся эта болтовня, когда откроется истина?
Она пыталась объяснить это матери, но та злилась. Все время злилась. Лишь увидев искаженное болью лицо дочери, изменила тон, сделалась вдруг лихорадочноучастливой. Правда, неизвестно откуда пришедшая боль пропала, ничего страшного с ней нет. Мать подошла и присела на край постели. На кухне был Уоллес, поэтому говорила она тихо:
– Что с тобой? Попала… в беду? Понимаешь, о чем я? Только не ври.
– У меня все в порядке.
– Может, с Бобом… или еще с кем? И пожалуйста, не ври. Все что угодно, только не ври.
– Все в порядке, просто я все время какая-то сонная.
– Но разве нормально быть все время сонной? Может, тебя тошнит, а? Не было печали, черт возьми… Где хоть болит?
– Я чувствую… то есть я не чувствую… не чувствую себя живой.
– Толком-то можешь сказать?
– Я не чувствую себя живой, – повторила Джин.
– Все мы умираем, если на то пошло, – сказала мать, фальшиво улыбнувшись. Джин заметила у нее на запястье дешевый браслет под серебро.
Ночью ей приснилось, что убийцу поймали.
Но сон не оправдался, перемен не было. Опять Боб подвез до работы, опять всю дорогу молчали. Проезжая по городку, Джин внимательно вглядывалась, не стоят ли где люди, но все было спокойно.
– Почему его никак не арестуют? – спросила она.
Боб только хмыкнул в ответ – то ли не расслышал, то ли не знал, что сказать.
На работе она тупо смотрела на письма, будто не соображала, что с ними делать. Сколько же их, посланных от одного к другому, сколько имен, выученных наизусть… среди них наверняка и имя убийцы. Как все удивятся, когда оно раскроется! Убийца может оказаться человеком всем известным. У Джин сузились глаза. Вдруг это близкий знакомый? Боб или его отец? А может, ее собственный брат, Тимми? Или заправщик с бензоколонки? Истопник? Официант? Или вот этот открывший дверь человек? А может, убийца – чужак, и его надо ловить где-нибудь в другом городке, на юге? Может, его имя никому тут не знакомо? Уж лучше гак… Незнакомое имя, неизвестный человек. Только бы все побыстрей кончилось, как можно быстрей, и чтобы в газете напечатали статью, с фотографией, вот тогда все кончится, и умирающий отмучается, умрет наконец…
С утра у Джин все валилось из рук; она перевернула на себя чернильницу и выругалась, как когда-то в детстве ругались мальчишки, а то, что старуха ее слышала, принесло даже удовлетворение. Ее одолевала вялость, будто где-то притаилась гниль, гнилой зуб, что ли, и по всему телу расползался яд. Сосредоточиться не удавалось. Перед глазами все плыло. Ей казалось, что если что-нибудь случится и разговоры прекратятся – правда, сегодня больше обсуждают другие новости, – то она придет в себя.
Когда кто-то из посетителей даже не обмолвился про убийство, Джин охватил непонятный страх. Она не могла отвести от него глаз. Вдруг это убийца? Потом зашел рабочий с автозаправки – ему понадобилось что-то купить, – и Джин сама завела разговор. Нет, ничего нового он не слышал. Чуть помедлив, рабочий отошел к прилавку примерить зимние перчатки. Джин смотрела ему в спину. Неужели его это даже не интересует? А может, он и есть убийца?
И следующий день ничего не принес. Про убийство уже почти не вспоминали – переключились на грипп: «Начинается эпидемия, надо беречься». Джин ухватилась за мысль, что у нее грипп. Отсюда слабость, странное недомогание. Она рано ушла с работы и, подгоняемая промозглым ветром, брела две мили домой по сырой, пустынной дороге. Шла и бормотала, доказывая что-то себе самой, толком даже не зная, что именно. Не все ли равно! Где-то здесь, недалеко, на боковом проселке, и разыгралась трагедия. Она решила было пойти посмотреть то место, но передумала. Зачем? Она посмотрела в придорожную канаву. Остановилась, заглянула на дно. Ведь убийство могло случиться и здесь. Запросто. Не все ли равно, в какой канаве? И эта сойдет. Она смотрела и представляла мальчика, его лицо, его агонию. Сколько же времени он умирал и что это такое – умирать? А если мальчик не знал, что умирает, то ощущал ли приближение смерти или еще что-нибудь? Если человек не знает, что умирает, может, он на самом деле и не чувствует смерти, не сознает ее ужаса. Кто-нибудь должен произнести слово «смерть». «Мертвый». «Смерть». Может, для умирающего эти слова и не значат ничего?..
Джин обернулась. Кто-то позвал ее?
Заморосило. Унылый, почти беззвучно падающий дождь ничего не ответил. Вокруг ни души. На дороге насколько хватал глаз – никого. А вдруг он где-то притаился и ждет? За деревом? В канаве? Высматривает… Несмотря на испуг, она замедлила шаг и брела еле-еле. Если убийца поджидает где-то рядом, она хоть увидит его лицо. Она поймет… Тишина, ни звука; вдоль дороги деревья – привычная картина; чуть дальше – перекресток, по которому вечерами в выходные дни бесшабашно гоняют ребята, так что рев автомобилей долетает до их дома. Нередко бывают несчастья – дорога пустынная, так и хочется разогнать машину до сотни миль, соблазну поддаются даже старые, опытные водители, проносятся с ветерком, не притормаживая у перекрестков. И если уж что случается, то смотреть страшно: заколоченные гробы, жуть, тягостное горе родственников. Вот и отец умер. И… так или иначе, тем или иным манером, но умирают все. Почему же ее поразило убийство ребенка, его смерть? Она не могла понять, что с ней происходит, что творится в ее душе. Почему ее так напугала именно эта смерть? Будто смерть в катастрофе не в счет, потому что случайна, не замыслена заранее, здесь нет виновных; а смерть от болезни естественна, тело изнашивается само собой, и тоже никто не виноват, поэтому не страшно. Джин не боялась умереть, она слышала, как спокойно, будто о чем-то обыденном, говорили о смерти пожилые родственники: надо, мол, быть готовым, чтоб врасплох не застала… Нет, дело здесь в мальчике, ребенке, убийстве, убийце – вот что мучило Джин, раздваивало душу, противоречило той грубоватой жесткости, которую она воспитывала в себе, считая, что так легче приспособится к жизни, станет ее меньше бояться.








