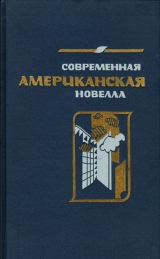
Текст книги "Современная американская новелла (сборник)"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: Трумен Капоте,Джон Апдайк,Уильям Сароян,Роберт Стоун,Уильям Стайрон,Артур Ашер Миллер,Элис Уокер,Сол Беллоу,Энн Тайлер,Сьюзен Зонтаг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
Тони Кейд Бамбара
Реймонд на старте
Я не слишком загружена работой по дому, не то что другие девчонки. У нас все делает мама. И мне не нужно крутиться, чтобы заработать карманные деньги: брат Джордж, например, бегает по поручениям больших парней и продает рождественские открытки. Остальное, что требуется, делает папа. А моя единственная забота – присматривать за Реймондом, но этого, я вам скажу, тоже достаточно.
Иногда я называю его «мой братишка Реймонд», хотя он старше и такой верзила вымахал. Но он у нас за младшего, ведь за ним глаз да глаз нужен, потому что с головой у него не все в порядке. Злые языки чего только об этом не говорили, особенно когда за ним Джордж приглядывал. Теперь-то поменьше болтают. Пусть кто попробует задеть Реймонда и проехаться насчет его большой головы – будет иметь дело со мной. А разговор у меня короткий. Чем всякий вздор выслушивать, лучше я как врежу, не побоюсь, что я девчонка, что руки у меня худущие и голос писклявый. У меня и прозвище такое: Комарик. Из-за голоса. Ну а если дело принимает дурной оборот, я пускаюсь наутек. Что-что, а бегаю я быстрее всех, вам кто угодно скажет.
В соревнованиях по бегу я всегда первая. Сначала, еще в детском саду, я выигрывала забеги на двадцать ярдов, теперь вот на пятьдесят. И завтра победы никому не уступлю – все призовые места сама завоюю. Большие ребята говорят, что я как ртуть. На нашей улице я самая быстрая, это всем известно. И только двое знают правду: мой папа и я. Ему ничего не стоит обогнать меня и быть первым на Амстердам-авеню, хоть он и дает мне фору в два пожарных крана, а сам бежит, руки в карманы, и посвистывает. Информация, понятно, не для разглашения. Где ж видано, чтобы тридцатипятилетний мужчина влез в спортивные трусы и побежал наперегонки с детишками? Значит, считайте, самая быстрая – я. И пусть Гретхен имеет это в виду. А то пустила слух, что, мол, в этом году первое место достанется ей. Смех, да и только. У нее короткие ноги – это два. Веснушки – три. А первое – меня никто не обгонит. И весь сказ.
Я стою на углу, братишка рядом. Погода что надо. Самое время размяться и поделать дыхательные упражнения. Сейчас мы двинем на Бродвей. Я слежу, чтобы Реймонд держался поближе к домам, мало ли что взбредет ему в голову. Еще вообразит себя канатоходцем, а край тротуара – точно канат, натянутый высоко в воздухе. Ну а если дождь был, он вдруг возьмет и прыгнет прямиком в лужу и топает по воде, вымочит и ботинки, и брюки. А дома за это все шишки на меня валятся. Или капельку зазеваешься, так он бросится чуть ли не под машины, маханет через улицу и на скверике посреди Бродвея всех голубей распугает. Приходится идти за ним и извиняться перед старичками – они сидели себе, газеты читали, на солнышке грелись, а тут голуби взвиваются, у стариков газеты вниз летят и свертки с бутербродами с колен падают. Вот я и стараюсь, чтобы Реймонд шел ближе к домам. Сейчас он кучер почтовой кареты, пусть играет на здоровье, лишь бы меня не задавил и не сбивал с дыхания. Без упражнений мне никак нельзя, потому что бегом я занимаюсь всерьез и в секрете это не держу.
Есть люди, которые делают вид, будто все на свете у них получается легко, как бы само собой. Нет, я не такая. Лично я, чтобы укрепить мышцы ног, шагаю по улице не просто, а с прискоком или высоко поднимая колени, как лошадь на выездке. И тут уж ничего не попишешь, пусть мама и возмущается, и уходит вперед, будто знать меня не знает, вроде за покупками торопится, а я чей-то чужой, ненормальный ребенок. Взять, к примеру, Синтию Проктер. Она полная мне противоположность. Если назавтра у нас контрольная, Синтия обязательно сообщит, что сегодня после школы она пойдет играть в ручной мяч, а вечером будет смотреть телевизор, только бы вы, не дай бог, не подумали, что к контрольной она готовится всерьез. Или вот на прошлой неделе: сама в тысячный раз выиграла орфографический конкурс, а мне говорит: «Ой, Комарик, как здорово, что „скрупулезно“ тебе досталось, я бы наврала. У меня конкурс совсем из головы вылетел». И хватается за ворот блузки, будто чудом спаслась. Тьфу! А между прочим, когда я по утрам делаю пробежку вокруг квартала, то слышу, как она до одурения гоняет свои гаммы на пианино: взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед. Потом на уроке музыки ненароком, вроде бы споткнулась, – шлеп аккуратненько на табурет, и так она ошеломлена, что просто от неожиданности, как бы невзначай, решается тронуть клавиши, и вальсы Шопена, словно сами, льются у нее из-под пальцев, и она первая этому изумляется. Убивала бы я таких вундеркиндов. Лично я перед орфографическим конкурсом зубрю слова всю ночь напролет. Тренируюсь в беге в любое время дня, смотрите, кто хочет. Если куда надо сходить, я не плетусь, а бегу. И пусть Реймонд за мной поспевает, не маленький. Да в общем-то он старается не отставать, ведь без меня к нему обязательно кто-нибудь привяжется: или отнимет карманные деньги, или начнет ехидничать и выяснять, почему у него такая огромная тыква вместо головы. Просто удивительно, что за дураки.
Так вот. Движемся мы по Бродвею. Я дышу и считаю: отсчитала семь – вдох, отсчитала семь – выдох. Семь, кстати, мое счастливое число. А навстречу Гретхен и ее подлипалы: Мэри-Луиза и Рози. Мэри-Луиза была раньше моей подругой, когда она только-только переехала в Гарлем из Балтимора и ее вначале колотили у нас все кому не лень, пока я не заступилась, ведь наши мамы девочками пели в одном хоре, но люди добра не помнят, и вот нате, ходит с новенькой, Гретхен, а обо мне говорит пакости; и толстуха Рози, эту хлебом не корми, только дай позлословить о Реймонде, а сама глупа как пробка, ей и невдомек, что ничуть не лучше его, уж чья бы корова мычала. Они идут по Бродвею как раз нам навстречу, плохо дело, улица здесь неширокая, разминуться трудно. Тем более троица держится тоже вблизи домов. А не свернуть ли нам с Реймондом в ближайшую забегаловку, думаю я, погляжу новые комиксы, а они пока пройдут. Но это явная трусость, а я дорожу своей репутацией. Поэтому я решила идти прямо на них, еще посмотрим, чья возьмет. Они подходят, замедляют шаг. Я готова к бою, я ведь разговорчики разговаривать не люблю, как двину, и дело с концом, чего драгоценное время зря тратить.
– Ты в майских соревнованиях принимаешь участие? – спрашивает Мэри-Луиза с уксусной улыбочкой. Ну и вопросик. Тут и отвечать нечего. Уж если с кем говорить, так с Гретхен. А ее прихвостни – пустое место.
– На этот раз, думаю, тебе не победить, – подхватывает Рози. И она туда же. Стоит с наглым видом, подбоченилась, забыла, поди, сколько ей от меня влетало и не за такое бесстыжее нахальство.
– Я побеждаю всегда, потому что бегаю быстрее всех, – отвечаю я Гретхен, поскольку, на мой взгляд, среди них она одна – говорящая, а эти две лишь рты разевают. Гретхен улыбается, но улыбка у нее деланная, и я тут вот про что думаю: почему, думаю, мы, девчонки, никогда искренне не улыбаемся друг другу? Не умеем, наверно, да и научить нас некому, потому что взрослые девушки тоже не знают, как улыбаться от души. Тут подъезжает Реймонд и натягивает вожжи. Ничего, сейчас эта троица увидит, что к нему им лучше не приставать.
– Ты в каком классе, Реймонд?
– Если у тебя вопросы к моему брату, спрашивай меня, понятно, Мэри-Луиза Вильям из занюханного Балтимора?
– А ты что ему – мамочка? – пыхтит Рози.
– Угадала, Толстуха. И советую вам всем заткнуться, не то самим придется за мамочками бежать.
Они скисли, стоят молчат, переминаются с ноги на ногу. Потом Гретхен уперла руки в бока, выставила веснушчатую физиономию, раскрыла рот, но так ничего и не сказала. Обошла меня, смерила взглядом и потопала своей дорогой, подлипалы, ясно, за ней. Мы с Реймондом улыбнулись друг другу. «Но!» – понукает он лошадей, а я опять принимаюсь за дыхательные упражнения, и мы идем дальше до угла 145-й улицы, где стоит мороженщик, и мне ни до чего на свете дела нет, ведь я – мисс Ртуть собственной персоной.
Утром Первого мая я не тороплюсь в парк, наши забеги завершают праздник, а гвоздь программы – хоровод вокруг майского дерева, но я без плясок как-нибудь проживу, хотя мама считает, что это я напрасно, пора бы, мол, начать себя вести, как положено девочке. Никак взрослым не угодишь. Вы думаете, мама спасибо мне говорит, что ей не надо шить дочери белого кисейного платья с широким атласным поясом и покупать белые кукольные туфельки, которые до праздника из коробки даже вынуть нельзя? Как бы не так. Думаете, мама радуется, что ее дочка не скачет вокруг майского дерева и не пачкает дорогих обновок, да к тому же не строит из себя фею, или цветок, или что там требуется, хотя важно другое – чтобы каждый старался быть самим собой; я, например, бедная чернокожая девочка, которой, по правде говоря, не по карману туфли и платье, если надеть их придется только раз: через год ведь малы будут.
Была я однажды в жизни Земляничкой, в детском саду, когда мы ставили «Гензеля и Гретель»[36]36
Детская опера-сказка немецкого композитора и педагога Э. Хумпердинка (1854–1921).
[Закрыть], и я по малолетству согласилась танцевать на цыпочках, скруглив руки над головой и выворачивая ноги. Дурацкое занятие, только чтобы у родителей был повод разодеться и похлопать в ладоши. Не пойму, чего радоваться, глупость одна. Никакая я не Земляничка. И не танцую на цыпочках. Я бегаю. И в этом я вся. Поэтому Первого мая я прихожу в парк под самый конец программы – впритык, чтобы только успеть приколоть номер и прилечь на траве, пока не объявят забег на пятьдесят ярдов.
Реймонда я усадила в детские качели, еле втиснула, это теперь, а на будущий год и думать нечего, не влезет. Затем отправляюсь на поиски мистера Пирсона, который прикалывает номера. А на самом деле, если хотите знать правду, высматриваю Гретхен, но ее пока не видно. В парке яблоку негде упасть. Тут и взрослые, и дети. Отцы в шляпах, у женщин к платьям приколоты букетики цветов, у мужчин платочки из нагрудных карманов выглядывают. Маленькие девочки в белых платьицах, мальчики в голубых костюмчиках. Служители расставляют стулья и гоняют из парка ленокских пацанов, будто им уж и прийти сюда нельзя. Парни постарше в кепках задом наперед стоят у ограды и вертят на кончике пальца баскетбольные мячи, ждут не дождутся, когда схлынет толпа и можно будет поиграть в свое удовольствие. Ребята из моего класса с большими барабанами, глокеншпилями, флейтами. Прихватили бы еще бонги – то-то была бы музыка.
А вот и мистер Пирсон со своими причиндалами: у него и планшетка, и номер, и карандаши, и свистки, и булавки, и уйма прочей мелочи. Руки у него как крюки, все из них валится. Ух, как доводили мы его раньше, кричали: «Эй, дядя, достань воробышка!» Он ведь торчит над толпой, как каланча, ноги у него что ходули. Ну и злился же он, гонялся за нами. Я одна только и могла от него удрать, меня-то не догонишь, но я уже выросла и глупостями такими не занимаюсь.
– Так, Комарик, – говорит он, отмечая меня в списке, и дает мне седьмой номер и две булавки. А я думаю о том, что он не имеет права называть меня Комариком, раз я больше не дразню его.
– Хейзел Элизабет Дебора Паркер, – поправляю я его и прошу так и записать.
– Ну что ж, пусть будет Хейзел Элизабет Дебора Паркер. Ты как, опять в чемпионки метишь или в этом году дашь кому другому отличиться?
Я на него аж глаза вытаращила: неужто он всерьез думает, что я могу нарочно проиграть, лишь бы кто-то еще отличился?
– Сегодня бегут всего шесть девочек, – сокрушенно замечает он, будто я виновата, что не весь Нью-Йорк вышел на старт. – Эта новенькая – классная бегунья, – он высматривает Гретхен в толпе, вертит головой – точно перископ в фильме о подводниках крутится, – а что, если тебе, гм-м… сделать, гм-м… красивый жест и…
Я бросаю на него такой взгляд, что он вмиг осекается. Какие же взрослые бывают – ни стыда ни совести! Сама прикалываю номер и топаю прочь. Я вся киплю. Иду к беговой дорожке, кидаюсь на траву. Полежу, пока оркестр доигрывает последние такты. Раздается голос распорядителя. Он через громкоговоритель приглашает участников забега занять места, а я растянулась на траве и гляжу в небо, пытаюсь вообразить, что я на лесной лужайке, но не получается. В городе даже трава жесткая, как асфальт, сколько ни воображай, все равно ясно, что находишься в «бетонных джунглях», как говорит мой дед.
Забег на двадцать ярдов занимает целые две минуты, потому что малыши – они такие бестолковые, кто бежит не по дорожке, кто не в ту сторону, а то и вовсе налетят с разбега на ограду, упадут – и в рев. Правда, у одного малыша хватило ума добежать до финишной ленты, и он победил. Следующий забег на тридцать ярдов, но я даже головы не поворачиваю, наперед знаю, кто выиграет – Рафаэл Перес, как всегда. Побеждает он еще до старта, вовсю запугивая соперников, внушает им, что они запутаются в шнурках, споткнутся и – носом в землю, или трусы потеряют, или еще там что случится; зря он это делает, ведь бегает он быстро, почти как я. Следующий забег – на сорок ярдов, раньше, в первом классе, я тоже в нем участвовала. Реймонд на качелях кричит – услышал, что сейчас мне бежать. Только что объявили забег на пятьдесят ярдов, хотя с таким же успехом могли бы продиктовать рецепт райского пирога, из-за треска в громкоговорителе ничего не разберешь. Я поднимаюсь, стаскиваю треники, смотрю – в двух шагах от меня Гретхен, разминается, как настоящий профессионал. Я выхожу на старт, оглядываюсь и вижу: за оградой готовится стартовать мой чудик Реймонд, нагнулся, уперся пальцами в землю, будто действительно понимает, что делает. Я хотела было на него прикрикнуть, но передумала. Нечего зря силы тратить.
Всякий раз перед стартом у меня такое ощущение, будто я во сне, как бывает при высокой температуре, когда кажешься себе совсем бесплотной. Мне мерещится, что ранним солнечным утром я лечу над песчаным берегом, чуть задевая на лету верхушки деревьев. И всегда пахнет яблоками, как в деревне, когда я была маленькая и думала, что я паровозик, который весело чух-чухает среди полей кукурузы и вверх по склону, где заветный яблоневый сад. Я представляю себе все это, а сама становлюсь легче и легче и снова лечу над берегом, плыву по воздуху, как перышко на ветру. Но стоит мне коснуться земли и присесть над линией старта, как сон исчезает и я – опять я. Тогда я говорю себе: «Комарик, ты должна, ты просто обязана победить, во всем свете нет тебе равных в скорости, ты даже до Амстердам-авеню быстрей папы добежишь, если очень постараешься». И чувствую, как ноги от коленей до ступней наливаются тяжестью – это возвращается вес и сразу же уходит в землю, и выстрел стартера взрывается у меня в крови, и, снова невесомая, я лечу вперед, оставляя за собой соперников, работая локтями, а мир вокруг замер, лишь хрустит гравий, когда я проношусь по дорожке. Кошусь налево – никого. Справа краем глаза вижу Гретхен: жмет, подбородок вперед выпятила, будто он отдельно от нее к финишу рвется. А за оградой бежит Реймонд: руки опущены вдоль боков, ладони вывернуты назад – ишь ты, новый стиль бега. Я чуть было темп не сбила, заглядевшись на моего братишку Реймонда на дистанции. Но белая лента финиша стремительно приближается и вот уже позади, а я все несусь дальше, пока ноги сами собой не начинают зарываться носками в песок, тормозят и останавливают меня. Тут же налетают ребята, мои болельщики, шлепают меня по спине и по голове своими программками, еще бы, я опять победила, и наши со 151-й улицы целый год смогут ходить с высоко поднятой головой.
– На первом месте… – неожиданно внятно произносит распорядитель, но вдруг умолкает. Из громкоговорителя раздается свист, потом треск. Наклоняюсь, чтобы перевести дух, и как раз Гретхен подходит, тоже проскочила финиш и теперь, пыхтя и отдуваясь, идет обратно, руки на поясе, медленный шаг, вдох-выдох – все как у профессионалов, и я впервые чувствую к ней вроде бы симпатию.
– На первом месте… – снова доносится из громкоговорителя, потом слышно, как там заспорили разом три или четыре голоса; я носком кроссовки ковыряю траву и смотрю на Гретхен, она – на меня, обеим интересно, кто же все-таки выиграл забег. Дядя Достань Воробышка что-то там доказывает распорядителю, еще кто-то толкует про показания секундомеров. Вдруг слышу – Реймонд зовет меня, вцепился в ограду, стучит, трясет, ну точь-в-точь горилла в клетке, как их в кино показывают; я машу ему рукой, чтобы утихомирился, и вдруг он легко так, будто танцуя, полез через ограду. Смотрю, до чего ж здорово у него получается, проворно, рука за руку, молодец, а как он бежал: руки вдоль боков, рот приоткрыт, зубы блестят. И тут меня осеняет: из нашего Реймонда отличный бегун может выйти. Он же, когда я тренируюсь, со мной наравне бежит. И на счет семь умеет дышать, он за обедом всегда упражняется, а брат Джордж от злости на стену лезет. Я улыбаюсь во весь рот, ведь даже если я и проиграла, или мы с Гретхен пришли к финишу одновременно, или все же я выиграла – в любое время я могу теперь распрощаться с беговой дорожкой и заняться совсем новой для меня тренерской работой, сделаю из Реймонда чемпиона. Ведь я же, стоит мне приналечь, запросто обставлю эту врушку Синтию в правописании. А если хорошенько пристану к маме, она позволит мне брать уроки музыки, и я стану знаменитой артисткой. Да меня и так в нашем районе все знают.
У меня полна комната каких хочешь лент, медалей, призов. А у Реймонда в жизни что есть?
Я не могу удержаться от смеха, хохочу, вон какие у меня новые планы, а Реймонд тем временем спрыгивает с ограды и бежит ко мне, улыбка во весь рот, руки вдоль боков – особый стиль, последнее слово в технике бега. И когда он подбегает ко мне, я прыгаю от радости, так я счастлива приветствовать моего брата Реймонда, великого бегуна, продолжателя семейной традиции. Но все, конечно, думают, что ликую я совсем из-за другого. Спорщики в громкоговорителе, сравнив результаты, на-конец-то поладили. И сейчас объявляют победителя: «На первом месте мисс Хейзел Элизабет Дебора Паркер» (Каково!). «На втором месте мисс Гретхен П. Льюис». Интересно, что значит «П»? Я смотрю на Гретхен и улыбаюсь ей. Все-таки она мировая девчонка, факт. Может быть, она даже согласится помочь мне тренировать Реймонда, ведь и дураку ясно, что бегом она занимается всерьез. Гретхен кивком поздравляет меня и тоже улыбается. А я в ответ. Мы стоим и улыбаемся друг другу широкой улыбкой взаимного уважения. И улыбка эта ничуть не деланная, а всамделишная, такую не каждый день увидишь, ведь у девочек тренировок по улыбкам не бывает, наверно, мы слишком заняты, строим из себя кто фею, кто цветок или там земляничку, вместо того чтобы стараться честно и достойно быть… человеком.
Джеймс Алан Макферсон
Место под солнцем
Гениальность Буна в его открытии: не бывает трудностей материальных или политических, а есть только трудности восприятия: что хорошо и что плохо, что красиво и что некрасиво.
Уильям Карлос Уильямс. Открытие Кентукки
Рассказчик неуправляем. Излагает на грани иррационального, демонстративно пренебрегает формой. Начнешь задавать вопросы, говорит, что открыто выступает противником общепринятых стилей повествования. Станешь допытываться – почему, принимается с пеной у рта доказывать, что невозможно всерьез принимать такие понятия, как «границы», «структура», «композиция», «последовательность», даже самое «форму». Считает, что достоинство – в спонтанности изложения. Кичится своим прямо-таки варварским пренебрежением к вскрытию моральных исканий, присущему традиционной литературе. Порочность его концепции наглядно иллюстрируется его творчеством. Редактор считал своим долгом, дабы вытянуть смысл произведения, хоть кое-что прояснить – не из соображений цензуры, но из желания сообщить повествованию хотя бы намек на последовательность. Попытался соблюсти некоторую этику в пределах творческого метода. Редактор говорит об этике изложения этики, о необходимости бросить критический взгляд со стороны на неподатливый материал, что является важнейшим этапом в создании окончательного варианта.
Вот суть излагаемого автором.
I
Поль Фрост был одним из тех парней, что сотнями в те годы вырывались из глубинок штата Канзас. И одним из немногих, кто назад не вернулся. Сначала можно было спокойно уклоняться от призыва. Потом стало сложней. Эти времена застали Поля в Чикаго, где он тогда учился. И вот, решившись раз и навсегда, он не пожелал отступать. Приехав в родной городок, Поль смело взглянул в глаза родным и членам призывной комиссии, всем тем, кто знал его с детства. Его отказ вызвал у всех возмущение. Поль молча переживал негодование близких; душа сотрясалась от невидимых рыданий. Вернувшись в Чикаго, он подрядился через день работать в клинике для душевнобольных. Стал посещать сходки квакеров. В часы ночных дежурств жадно поглощал книги – художественную литературу, труды по истории, этике. Вскоре Полю стало бросаться в глаза, что многие пациенты клиники вполне нормальны. Это открытие вызвало в нем такое смятение, что он сделался неразговорчив, затаился, стал присматриваться молча. В то время он снимал комнатенку в районе парка Гартфилд. Из дома выходил только на работу, за провизией или в библиотеку за книгами. С женщинами не знался, не испытывал в этом потребности. Стал жить внутренней, замкнутой жизнью, и вскоре его самого многие стали принимать за душевнобольного. Подобное отношение побуждало Поля все чаще и чаще обращаться к своему скрытому, внутреннему «я». По ночам в своей комнате он мысленно затевал с ним беседы. Так, не заговаривая ни с кем из людей, он провел многие месяцы, пока в один прекрасный вечер, вдруг нарушив молчание, внезапно не обратился к пациенту, с которым в комнате отдыха на первом этаже клиники сошелся за шахматной доской. Он произнес шепотом:
– По-моему, вы абсолютно нормальный. Что вы здесь делаете?
Пациент настороженно взглянул на Поля и улыбнулся с неприкрытой, безнадежной тоской обреченного. Подался вперед, заглянул Полю прямо в горящие его глаза и спросил:
– А вы?
Вопрос разбередил Полю душу. Чем больше он раздумывал над ответом, тем сильней становилось его беспокойство. Он завел себе привычку в свободное время прогуливаться по улице Лассаля, вступая в разговор с первым встречным. Однако все прохожие куда-то спешили. Промаявшись на дежурствах в клинике больше года, он организовал себе перевод в другую больницу, подался к Тихому океану. Здесь, в Окленде, совершил уйму несуразных поступков. Лишь обилие работы удержало от сумасшествия и от возвращения в Канзас. Последним актом безумия со стороны Поля явилась его женитьба в Сан-Франциско на чернокожей девушке Вирджинии Валентайн, уроженке местечка Уоррен неподалеку от Ноксвилла, города в штате Теннесси.
II
Лет за десять до описываемых событий Вирджинию Валентайн выплеснуло из местечка Уоррен на гребне могучей волны брожения фермерской бедноты. Таким, как она, веками пребывавшим в рабстве, большой мир сперва рисовался ясным, влекущим множеством заманчивых дорог. Многие, не выдержав испытания свободой, ошалело сновали взад-вперед, точно собачонки на длинной цепи, которые привыкли в любой момент ощутить сдерживающий ошейник. Иные кончали счеты с жизнью. Третьи, ища спасения, попадали в силки новой кабалы. И лишь немногие, подобно Вирджинии, гордыми орлами взмывали ввысь, не страшась простора и далей, искали для приюта и гнезда необжитые высокие вершины.
Вирджинию влекла героика романтики. В девятнадцать, вступив в корпус мира, она отправилась в дальние странствия по свету, помогать сирым. Она обладала по-деревенски простой манерой общения. Умела мгновенно находить путь к сердцу. Вдобавок отличалась смешливостью. В двадцать она выхаживала младенцев на Цейлоне, в двадцать один среди рыночной толпы в Джамшедпуре училась различать жителей Индии по сектам. Убедившись, что иные индусы черней многих ее соотечественников, Вирджиния принялась шутливо, но не без вызова называть себя «девушка-нигер». Юмор ее становился все изысканней, все самобытней. В сенегальском рыбачьем поселке она привыкала есть руками. В Кении на досуге взбиралась на Килиманджаро, стояла на самой вершине руки в боки, точно сельская девчонка, глазами шаря вокруг – нельзя ли забраться куда повыше? В толчее провонявших потом и пряностями базаров Каира, Порт-Саида, Дамаска постигала науку облапошивания рыночных простофиль. Столкнувшись с тем, что на Востоке еще торгуют людьми, продают и покупают невольниц, она завела себе здоровую привычку уличать и припугивать арабов. Вирджиния любит рассказывать, как в одном из селений масаи на севере Танзании, пристроившись на корточках рядом со старым Лики[37]37
Лики, Луис Сеймур Бэзетт (1903–1972) – английский антрополог и археолог. Работал в Восточной Африке.
[Закрыть], пивала коровье молоко с кровью. Старик оказался не слишком любезен, зато охотно демонстрировал свои находки. Молоко с кровью вполне терпимый напиток. А ритуальных плясок у масаи, оказывается, нет. Вирджиния сумела увидеть оборотную сторону жизни арабов, африканцев, израильтян, индусов, индокитайцев. Слушая их, постигала богатство самобытных воззрений.
В двадцать два, переполненная впечатлениями от увиденного и услышанного, возвратилась на родину. Таких, как она, встречалось немало. В Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, повсюду в Калифорнии тогда принято было собираться, рассказывать, кто что видел. Мыслить начали по-новому. Обсуждая, искали общее в том, что каждый собрал со всего света. Вчерашние простолюдины, еще не овладев высокопарностью слога, возвысились до аристократии. Вчерашние аристократы стали демократичнее в общении. И те и другие слились воедино, образовав новое племя.
Но шло время, и стало что-то меняться. Сначала почти незаметно. И в разговоре после привычного «Понимаешь?» нет-нет да повиснет, сперва крохотное, молчание, колебание: ответить ли «да». Много грустного есть в рассказах Вирджинии и про то, как все чаще и чаще образовывалась в процессе реаккультурации эта немота. В людях нарастало чувство неловкости, ощущение вины. Без особой охоты, но все же поведала бы Вирджиния и о случаях самоубийства в своем окружении. Друзья стали встречаться все реже и реже. Скоро, столкнувшись на улице, ограничивались кивком. Все назойливей в разговорах возникало: «Не понимаю!» – сначала робкое, потом все более уверенное, оно выставлялось будто щит. И года не прошло, как союз распался на черных и белых.
Непокорных, непримирившихся постепенно охватывала горечь, растерянность. Вот почему тогда Вирджиния, одна из самых стойких, распростилась с северо-востоком и ринулась в Калифорнию. Подобно раненой птице, которой еще по силам расправить крылья, но уже страшно садиться на землю, она устремилась в те места в надежде, что там углядит себе приют, чтоб не так больно пришлось, когда упадешь с неба на землю.
III
В те же места потянуло и меня – за новым материалом для сюжета. Здесь, на восточной оконечности страны, тогда я не находил ничего свежего. Здешние взгляды и нравы все более и более становились затасканным хламом, подергивались паутиной. Старые истории все еще бытовали в рассказах, но уже подавались без прежнего горения. Слова почти утратили выразительность, исчез напор пылкости, некогда их наполнявшей. Даже великие сказания проговаривались монотонно, без ритуального обрамления. Торгаши-стервятники цинично подбирали их, как простые поверья. Юмор утратил остроту. Речь, родная речь была поругана, запродана лучшими сынами отечества в угоду вкусам богатых покровителей. Сюжеты оказались исчерпаны. Колоссальная энергия тратилась на смакование порнографии. Снова черные понадобились лишь для того, чтоб демонстрировать публике рекорды потенции. Мопассановских шлюх приспособили для своих утех профсоюзные боссы. Сельские жизнелюбы, точь-в-точь из рассказов Чехова и Бабеля, сидели по своим крылечкам – потерянные, онемевшие, не чувствуя, как пульсирует кровь в висках. Казалось, что даже пушкинские смутьяны и благородные разбойники смирились с безликой действительностью, стали грабить старух, стрелять друг в дружку из-за пригоршни мелких монет, захваченных в дешевой лавке. В ту пору слабые, как по волшебству, заразились развязностью. Мало-мальски почтенные же теперь и по телефону, и в частной беседе говорили с оглядкой, нарочито избитыми фразами, будто чувствуя, что голос ложится на магнитную пленку хозяина. Повсюду царила атмосфера опереточной скорби, но ни одна, ни единая искренняя слеза не выкатилась из глаз.
Каждая каста оградилась своей занавеской, общности распались, обособились. В ресторанах, в салонах самолетов, даже в почтенных домах воцарились молчание, апатия, страх. Неисчислимое количество сюжетов вымерло у нас на северо-востоке в те прошлые годы. Пугающие откровения, взрывы ненависти, воплощенные в многоголосии молитв, тернии любви и веры, метания и устремления, кровавые преступления, возмездие и искупление – все вызывало тогда благородное негодование публики. Стоило остановить на улице незнакомца, сказать ему: «Дружище, расскажи мне о себе, помоги мне понять себя!», как тот вздрагивал, трясся, а может, даже видел во мне врага. Но я не умел поступать иначе, без этого мне не удавалось полней раскрыть смысл. В период творческих исканий некоторые сюжеты развить или хотя бы просто ощутить прямо-таки необходимо. Однако у нас на северо-востоке о таком не могло быть и речи. Писатель беспомощен, если не имеет возможности менять ракурс видения. Мне не хватало новых идей, новых взглядов, свежих форм; на поиски всего этого я и отправился туда, в те дальние края.
Уточнение. Что общего между формой и кастовыми барьерами?
Бездна общего.
Хотите сказать, что белым быть лучше?
Повествователю нужна не меньшая свобода, чем сторонникам этой надуманной теории.
Так вы стыдитесь своего темного цвета кожи?
Стыдно, что я недостаточно ловок, чтобы увернуться, когда на меня норовят натянуть смирительную рубаху.
Не слишком ли вы одержимы темой сегрегации?
Несчастье в том, что я обладаю здоровым творческим воображением.
Что общего между кастовыми границами и творческим воображением?
Бездна общего.
Уточнение. Что вы понимаете под личной свободой?
Не ограничиваемые никем возможности развивать все новые и новые сюжеты.
А для выстраивания данного сюжета не пришлось ли вам ограничить себя?
И сыграли они свадьбу в Сан-Франциско…
Вирджиния, этот кладезь разных историй, очень много для меня значила. Я все боялся, что Поль, завладев всем этим богатством, не преминет наложить на него лапу. Я был в этом убежден. Вирджиния красавицей вовсе не была, и сначала я попросту отказывался поверить, что Поль ее действительно любит. Полноватая, с маленькой грудью, в неизменных джинсах «леви» и приплюснутой кепочке с широким козырьком, в каких щеголяли гангстеры в фильмах сороковых годов. Но чем чаще я на нее смотрел, тем очевидней становилось мне, что весь этот камуфляж лишь для того, чтобы сбить посторонних с толку, не допустить близко к себе. Если Вирджиния смеялась, то всегда нарочито громко, и этим смехом, мне чудилось, тайно от всех словно одергивала себя, поправляла на себе наряд. Даже ее любовь к позерству казалась мне нарочитой, задуманной специально, чтобы утаить природную мягкость. Вслушиваясь в грубоватые раскаты ее смеха, я чувствовал, что это все специально, только бы не дать чужому доступа к ее душе, слишком ранимой, слишком утонченной, чтобы выставляться напоказ. Она сотворила себе немыслимый иронический заслон в качестве самозащиты. Если она журчит грудным голосом: «А ты, нигер, не шути со мной!», я слышу в этом: «Не подходи, стреляю без предупреждения!» Или: «Проходи, знакомься, это мой жених, не нравится – вали ко всем чертям!», но в живых черных глазах, цепко вглядывавшихся в гостя, читалось без слов: «Не тронь мое дитя! Не тронь мое дитя!» Своей обаятельной иронией она сдабривала и свои рассказы. Вирджиния Валентайн умела в простонародной манере излагать сюжеты, собранные со всего света. В своих рассказах она воплощалась целиком, каждой черточкой своей сущности. Уникальная рассказчица, классический тип сказительницы, Вирджиния Валентайн была чудо, да и только.








