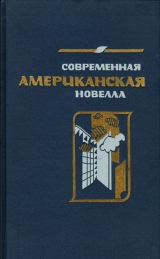
Текст книги "Современная американская новелла (сборник)"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: Трумен Капоте,Джон Апдайк,Уильям Сароян,Роберт Стоун,Уильям Стайрон,Артур Ашер Миллер,Элис Уокер,Сол Беллоу,Энн Тайлер,Сьюзен Зонтаг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
– Я – черная, – говорила Вирджиния. – Я такая, какая есть. Но разве я не отвоевала себе место под солнцем? Хотя бы в собственном сознании! – Она постучала пальцем по лбу. Горько усмехнулась, отхлебнула из чашки. – Когда наступают суровые времена, всяк норовит выдать себя за белого. Веками нигеры только так и поступали, ничего нового в этом нет. Но, черт побери, как это непросто, оставаясь Нигером, уметь перевоплощаться и в белых, и в желтых, в кого угодно! – Она рассмеялась. Потом произнесла: – Быть таким Нигером тоже что-нибудь да значит!
Мы пили чай, глядя, как от цветов поднимается влажная дымка. На дорожках щелкали фотоаппаратами туристы.
– У тебя и смелость была. И мужество. Ты была особенной! – сказал я.
– Я была белей белой и черней черной, – отозвалась она. – Что ж, по крайней мере умела видеть сквозь туман…
– Ты была смелая, очень смелая, – повторил я.
Турист с извиняющейся улыбкой остановился напротив, щелкнул нас своим фотоаппаратом.
– Да чушь все это, чушь! Все равно путей всего два, и, какой ни выберешь, все равно как слепой курице топтаться! По глупости кидаешься сразу на оба, а тогда то это не выходит, то другое, то третье… И чем кончается? Слепнешь на один глаз, бредешь с пригоршней воспоминаний… А я не хочу, чтоб мой ребенок был одноглазым, да еще и почетным белым! У негритоса хоть глаз пытливый…
Я внезапно ощутил, как меня внутри, точно овеяло утренней дымкой, пробрало холодком. Но я понял, что это притворство. Меня теперь не волновали ни они, ни их проблемы. Я не считал больше, что их история представляет интерес. Я обернулся, бросив:
– Да, ты права, жизнь – тяжелая штука.
Вирджиния вертела пальцами чашку. Вращала ее на покрытом ручной росписью блюдечке. Окинула взглядом парк. Сказала:
– Боюсь я за благоверного моего «нигера». Говорила тебе, у него доброе сердце. Он все еще мысленно сражается со всем этим дерьмом. Хоть, глядя на него, не скажешь, но он жилист, как мул, и так же упрям. Только сейчас начал приоткрывать оба глаза, хотя, если он так и не проронит ни единого слова, один глаз у него может закрыться навсегда, а душа станет черней, чем самые черные мои мысли. Так оно устроено…
Я решил, что больше им ничего не должен. Но перед Вирджинией, поскольку она щедро делилась богатством своих рассказов со мной, у меня оставались кое-какие обязательства. Я смотрел на туристов, хаотично движущихся под сережками красно-лиловой фуксии. Они сбивали нежные лепестки, те падали на землю. Со всех сторон павильон окружили толпы туристов. Кивнув на живот Вирджинии, я сказал:
– Хотя бы ради будущего ребенка – не надо черноты! Оставайся лучше среди типичных нигеров…
Она рассмеялась, хлопнула меня по спине.
Перед моим отъездом на северо-восток мы прогуливались с Полем по городу. Стояло позднее лето, осенью они ждали ребенка; мне казалось, что Полю я что-то должен сказать. Было воскресенье. Утром Поль посетил собрание квакеров и теперь как будто пребывал в умиротворенном расположении духа. Мы прогуливались целый день. Шагали куда глаза глядят – по улицам, по набережным вдоль океана, по широким дорожкам парков – и всю дорогу молчали. Люди вокруг плыли какими-то безвольными, нереальными, тусклыми, лишенными жизни силуэтами. Взглядом я невольно выбирал из толпы чернокожих. В парке «Золотые Ворота» я заметил одного – то ли под градусом, то ли наркомана: он как-то нелепо махал руками перед женщиной, катившей коляску с младенцем. Будто насмешливо пародировал отчаянные мысли молодой матери. Я остановился, указал на него Полю и сказал:
– Вот тебе нигер!
На Пэнхендл мы задержались, засмотревшись на крикливо разряженного чернокожего в толпе буднично одетых белых. Он улыбался белозубым оскалом. Казалось, его улыбка говорит всем, даже случайным прохожим: «Вот он я! Я знаю, что вы знаете, что я знаю, что мне скрывать нечего!»
Кивнув на него, я бросил Полю:
– И это нигер!
Поль держался не так скованно, как раньше.
На Линкольн-Уэй, когда мы повернули назад, к автобусной остановке, он указал мне на проезжавшую мимо машину с наклейками на бамперах. Реклама всяких мирских удовольствий плюс автосмазочных материалов плюс второго пришествия Христа. На белой наклейке заднего бампера красовалась посредине жирная черная надпись: «Гордись тем, что ты нигер!»
Поль рассмеялся. Думается, воспринял это как оригинальную шутку.
Вскоре при выходе из парка я кивнул ему на молодого белого парня, обросшего густой бородой, на ярко-красном гоночном велосипеде. Лицо у него было красное, чумазое. И даже издалека видно, что черное трико и черный свитер пропитаны пылью, потом, казалось даже, кишат насекомыми. Когда сандалии из обрезков резиновой шины жали на педали, в прореху высовывались грязные, заскорузлые большие пальцы. Поглощенный собой, будто остальное человечество сгинуло, он лавировал среди дневного потока машин, игнорируя огни светофора; на его грубой красной физиономии отпечаталось полное безразличие ко всему. Когда он скрылся, я сказал Полю:
– А этому только бы на педали жать. Полунигер, жалкая пародия.
Поль не смеялся. Он не понимал.
– Представь, – сказал я, – по улице идут двое. Один белый и выряжен, как тот велосипедист. Другой черный и выставляется, как манекенщик модной фирмы. Как расценил бы ты или твой отец, что естественно, а что противоестественно?
Поль остановился. Мои слова задели его за живое.
– Ну вот и договорились… – произнес он. – Значит, ты считаешь меня расистом.
Я почувствовал холодную пустоту внутри. И понял, что теперь меня уже ничто не остановит приняться за очередной сюжет. Я смог с легкостью сказать ему:
– Видишь ли, ты родился в глуши, где принято подчиняться определенным установкам. Мне как-то попалась фотография в календаре: прерия, над ней небо, а посредине человек. Небо и прерия давят, будто сжимают его. Он кажется таким ничтожным среди этой естественной гармонии. Мне думается, чтобы не нарушить эту гармонию, человеку надо мыслить системно, простейшими категориями.
Однако Поль воспринял это так, будто я уличаю его в чем-то, будто провоцирую на объяснение.
Он ответил:
– Все-таки человечество развивается. Пусть, по-твоему, я ничтожество, зато мои дети будут лучше.
– Они станут черными слепцами или же сойдут за белых полузрячих. Иного пути нет.
Поль очень быстро зашагал вперед.
У автобусной остановки на Девятнадцатой авеню он обернулся и сказал:
– Тебе не стоит возвращаться со мной. Наверно, Джин-ни уже прилегла.
Он перевел взгляд вперед, где сгрудились у светофора автобусы. Опускался туман, темнело, в свете уличных огней глаза Поля казались воспаленными, усталыми. Я стоял не так близко к нему, не мог разглядеть его лицо, но точно знал: знакомого сияния уже как не бывало. Поль был разбит, опустошен, как все вокруг.
Мы пожали друг другу руки, и я пошел прочь с убеждением, что в мире не осталось новых сюжетов.
Мимо в сторону перекрестка проехали два автобуса. И сквозь шипение и визг тормозов прорвался ко мне голос Поля:
– Но я хоть пытался! Я боролся! И теперь понимаю, что такое нигер. Нигер – это когда человек мнит себя совершенством!
Я не обернулся, не стал отвечать, хотя прекрасно его слышал. Могу поклясться: в голосе его не осталось ни следа от высокомерия.
Месяца через два, собираясь отъезжать на восток, я позвонил им. Телефон не соединялся. Тогда я направился туда, хотел попрощаться. Оказалось, они уехали. В квартиру вселялась супружеская пара чикано, только что приехавших из Лос-Анджелеса. По-английски говорили плохо. Я попытался объяснить, кто мне нужен, они медленно качали головами. Потом толстобрюхий хозяин с усами вразлет, точно велосипедный руль, покопавшись в груде хлама в прихожей, извлек кусок картона с какой-то надписью. Приложил к груди. Я прочел: «Мы – родители. Убирайся».
Я отправился обратно на северо-восток пересказывать известные сюжеты.
Но через полгода, как раз когда я так мучился, пытаясь втиснуть свою фантазию в неподдающийся, холодный сюжет одной сказочки, ко мне пришло побывавшее уже в Сан-Франциско письмо из маленького городка в Канзасе. Меня уведомляли, что родился малыш, что ему уже около восьми месяцев. В письмо были вложены три цветных фото. На одном, датированном октябрем, что-то розовое с черными курчавыми волосиками. На втором, более позднем, голенький смуглый крепыш, лежащий на спинке, темно-карие глазенки внимательно смотрят в мир. На обороте отпечатано: «Дэниел П. Фрост, четыре месяца и восемь дней». На третьем Вирджиния и Поль стоят по обеим сторонам от сидящей пожилой четы. Вирджиния победоносно улыбается, все в той же гангстерской кепчонке. Пожилой мужчина восседает с важным видом. На руках у пожилой женщины с голубовато-седыми волосами малыш. Поль стоит чуть поодаль, скрестив на груди руки. Он без бороды; смотрит с вызовом. В лице знакомое напряжение. На обороте этого снимка чьей-то рукой написано: «Он станет типичным Нигером!»
Объясните смысл этой надписи.
Я не сказал бы, что все так просто. Ведь с самого начала этот сюжет не был моим. Я не способен проникнуть внутрь и разгадать все его перипетии. Но все же, возможно, он будет рассказан. Все-таки мать малыша как-никак прекрасная рассказчица из народа, столько вобравшая в себя со всего света. Отец его ясно видит обоими глазами. Я позвонил им в Канзас, но они уже перебрались куда-то в глушь лесов Теннесси, где у новорожденного столько экзотической родни. Я подожду. Мать малыша отважная женщина. А отец трезво смотрит в будущее. Я буду ждать и все это время готов биться об заклад, клянусь именем своим, что в истории этого малыша есть, несомненно, высокий смысл, а быть может, и сила…
Вывод непонятен. Поясните! Поясните!
Элис Уокер
Месть Ханны Кемхаф
Недели через две после того, как я поступила в ученье к тетушке Рози, к нам пожаловала одна совсем старая женщина, укутанная в полдюжины шалей и юбок. Она чуть не задыхалась под всеми этими одежками. Тетушка Рози (ее имя произносили на французский лад – Рози) тут же заявила, что знает имя гостьи, ибо видит его словно начертанным в воздухе: Ханна Кемхаф, член общины Восточной Звезды.
Гостью аж оторопь взяла. (Да и меня тоже! Это потом я узнала, что у тетушки Рози заведена подробная картотека чуть не на всех жителей нашего округа, и хранит она ее в длиннющих картонных коробках под своей кроватью.) Миссис Кемхаф засуетилась и спросила, не знает ли тетушка Рози еще чего-нибудь про нее.
На столе перед тетушкой Рози стояла здоровенная посудина, вроде аквариума для рыб. Только никаких рыб там не было, и вообще ничего не было – одна вода. Так по крайней мере мне казалось. Другое дело – тетушке Рози. Не зря ж она так пристально вглядывалась во что-то на самом донышке, пока гостья терпеливо дожидалась ответа. Наконец тетушка Рози пояснила, что беседует с водой, и вода поведала ей, что наша гостья только выглядит старой, на самом же деле она вовсе не старуха. Миссис Кемхаф поддакнула, так, мол, оно и есть, и поинтересовалась, не знает ли тетушка Рози, отчего она выглядит старше своих лет. Этого тетушка Рози не знала и попросила гостью саму рассказать об этом. (Замечу кстати, что миссис Кемхаф с самого начала была вроде как не в своей тарелке – видимо, стеснялась моего присутствия. Но после того, как тетушка Рози пояснила, что я учусь у нее гадальному ремеслу, она понимающе кивнула, успокоилась и перестала обращать на меня внимание. Я же постаралась стушеваться как могла, сжалась в комочек, где сидела, с краешку стола, всем своим видом давая понять, что уж кого-кого, а меня нечего стесняться или бояться.
– Это случилось во времена Великой депрессии… – начала миссис Кемхаф, беспокойно ерзая на стуле и оправляя многочисленные шали, от которых ее спина казалась горбатой.
– Да, да, – подхватила тетушка Рози, – вы тогда еще были совсем молоденькой и хорошенькой, просто загляденье.
– Откуда вы знаете? – поразилась миссис Кемхаф. – Так-то оно так, да только к тому времени я уже пять лет как была замужем, и было у меня четверо ребятишек, а муж, что называется, не дурак погулять. Замуж-то я выскочила ранехонько…
– Вы сами были еще дитя, – вставила тетушка Рози.
– Ну да. Мне об ту пору только двадцатый годок пошел, – согласилась миссис Кемхаф. – Ох и тяжкое было времечко – и у нас тут, и по всей стране, и, должно статься, во всем мире. Само собою, никаких телевизоров тогда и в помине не было, откуда нам было знать-то, так это или нет. По сю пору не знаю, додумались до них уже тогда или нет еще. А вот радио у нас имелось – еще до депрессии мой благоверный выиграл в покер. Потом, правда, как приперло, продали мы его, чтобы было на что еды прикупить.
Короче, мы кой-как перебивались, покуда я кухарила на лесопилке. Поди-ка настряпай капусты на двадцать мужиков да напеки кукурузных лепешек. А платили мне за то два доллара в неделю. Но вскорости лесопилку прикрыли, что ж до моего благоверного, так он задолго до того уже без работы сидел. Тут-то и начался настоящий голод. Нам самим-то все время хотелось есть, а ребятишки до того ослабели, что я общипывала капустные листья со стеблей, не дожидаясь, пока завяжутся вилки. Все шло в ход – и листья, и кочерыжки, и корни. А когда мы и это подъели, у нас ровным счетом ничегошеньки не осталось.
Как я уж сказывала вам, нам неоткуда было знать, по всему миру было так же худо или только у нас, – телевизоров-то не было, и радио свое мы продали. Но всех, кого мы знали в нашем округе Чероки, крепенько прихватило. Не иначе как поэтому правительство ввело продуктные талончики – их выдавали всякому, кто мог доказать, что он голодает. Получив те самые талончики, вы отправлялись в город, в особое место, где выдавали не более, чем положено, топленого сала, и кукурузной муки, и красной фасоли – да-да, кажется, то была красная фасоль. А наши дела к тому времени, как я уже сказывала, стали хуже некуда. Вот тут-то мой благоверный и настоял, чтобы мы пошли туда. До чего у меня душа не лежала – слов нет сказать, а все потому, что я завсегда была чересчур гордая. У моего папаши – может, слышали? – была самая большая в округе Чероки плантация цветного горошка. И мы отродясь ни у кого ничего не просили. Так-то. А тем временем моя сестрица Кэрри Мэй…
– Отчаянная была девчонка, если память мне не изменяет, – вставила тетушка Рози.
– Не девчонка – сущий порох! – отозвалась миссис Кемхаф. – Так вот, она об ту пору обосновалась на Севере. В Чикаго. Работала там у белых. Хорошие, видать, были люди: отдавали ей свою старую одежу, и она посылала ее нам. Вещи хоть куда, право слово. То-то мне радости было! А так как об ту пору настали холода, то я оделась сама в те самые одежки, и мужа приодела, и ребятишек. Теплющие были вещи – как-никак для Севера, где, сами знаете, полно снега, вот они и грели, что твоя печка.
– Это та самая Кэрри Мэй, которую потом прикончил какой-то гангстер? – спросила тетушка Рози.
– Она самая, – нетерпеливо подтвердила гостья, ей, видно, не хотелось отвлекаться от своей истории. – Собственный муж и порешил.
– Ах ты господи! – сокрушенно воскликнула тетушка Рози.
– Так вот, нарядила я своих в одежки, что сестрица прислала, и, хоть в животах у нас урчало от голодухи, мы, расфуфыренные в пух и прах, прямиком отправились просить у правительства то, что нам причиталось. Даже у моего мужа, чуть, бывало, приоденется, сразу гордости прибавлялось. А я тем паче – как припомню, до чего богато жилось нам в доме отца, так нос задираю выше некуда.
– Вижу зловещую, бледную тень, что нависла над вами в том путешествии, – произнесла тетушка Рози, так пристально вглядываясь в воду, словно невзначай обронила туда монету и сейчас пыталась разглядеть ее на дне.
– И впрямь бледная, зловещая тень нависла над нами, – подхватила миссис Кемхаф. – Прибыли мы на место, видим, там уже выстроилась долгая очередь, и в той очереди – все наши приятели. По одну сторону здоровенной кучи продуктов стоят белые, среди них и такие, у кого водятся денежки. А по другую – черные. Потом, между прочим, я слышала, будто белым выдавали и бекон, и овсянку, и муку вдобавок, ну да что сейчас об том толковать. А дальше вот как дело обернулось. Как только знакомые завидели нас в наших красивых, теплых обновках – на самом-то деле никакие это были не обновки, а самые что ни на есть обноски, – все в один голос закричали, мол, мы совсем спятили, раз так вырядились. Только тут я смекнула, что неспроста все в очереди для черных оделись вроде оборванцев. Даже те, у кого дома была приличная одежа, уж я-то знала это доподлинно. С чего бы это? – спрашиваю мужа. А он тоже не знал. Ему, петуху этакому, вообще ни до чего дела не было – только б покрасоваться. Тут на меня жуткий страх накатил. Один из малышей заревел, за ним остальные, передалась им, видно, моя тревога. Насилу их угомонила.
Муженек мой тем временем начал строить куры другим женщинам, а я, надо сказать, пуще смерти боялась потерять его. Вечно он меня язвил, называл гордячкой. Я обычно отвечала, что так и надо себя держать. Больше всего я боялась осрамиться перед другими людьми – знала, что в таком разе он непременно бросит меня.
Так стояла я в очереди, авось, думаю, белые, которые распоряжаются выдачей продуктов, не обратят внимания на мою красивую одежу, а коли обратят, то увидят, до чего голодны мои ребятишки и до чего мы все жалкие. Тут я гляжу: мой муж завел разговоры с одной бабешкой, с которой, видать, давно уже снюхался. Поглядели б вы, как она была одета! Мало того, что нацепила на себя всякую рвань и замаралась с головы до пят, так еще выставила напоказ свое грязное исподнее. Глядеть тошно. Каково ж было видеть, как мой муженек вьется вкруг нее вьюном, пока я стою в очереди, чтобы разжиться едой для четверых наших малюток. Небось он не хуже моего знал, какие наряды остались дома у этой твари. Она завсегда одевалась лучше меня и даже лучше многих белых женщин. Поговаривали, будто она водила к себе мужчин за деньги. Видать, кому приспичит, готов платить даже во время депрессии.
В этом месте миссис Кемхаф сделала паузу и глубоко вздохнула. Затем продолжала:
– Наконец подошел мой черед, и я оказалась перед стойкой, за которой стояла молоденькая дамочка. Фасолью там пахло – спасу нет, а уж при одном виде свежих кукурузных лепешек слюнки у меня так и потекли. Гордячкой-то я была, но ведь не привередой же. Мне только хотелось получить хоть чего-нибудь для себя и своих ребятишек. Вот я и стояла перед ней, а голодные малыши уцепились за мой подол, только я старалась держаться как можно лучше и старшенькому велела не горбиться – не милостыню же пришла просить, а то, что причитается мне по праву. Я ведь не какая-нибудь там побирушка. Так вот, знайте, что сотворила эта куколка с большими голубыми глазами и желтыми волосенками, эта деточка: она взяла мои талоны, смерила взглядом меня, и моих детей, и моего мужа – с чего это, мол, вы все так вырядились, брезгливо осмотрела талоны, словно они были заляпаны грязью, и… отдала их старику, завзятому картежнику, что стоял в очереди позади меня. «Судя по вашему виду, Ханна Лу, вы не нуждаетесь в продуктах, которые здесь выдают», – сказала она. «Но мои дети голодны, мисс Сэдлер», – возразила я. «По их виду этого не скажешь, – отрезала она. – Проходите. Здесь есть люди, которые действительно нуждаются в нашей помощи». В очереди за мной захихикали, загоготали, а эта маленькая белая куколка тоже вроде как усмехнулась, прикрыв рот ладошкой. Старому картежнику она отвалила вдвое против того, что ему полагалось. А мне с детишками – ничего, хоть подыхай с голодухи.
Как только до моего супружника и его крали дошло, что случилось, они так и покатились со смеху. Он быстренько подхватил ее пакеты со жратвой, целую кучу пакетов, помог ей запихать все это в чей-то автомобиль, и они на пару, прямо в том же драндулете, и укатили. С тех пор я не видела ни его, ни ее.
– Их обоих смыло с моста при наводнении в Тюника-Сити, не так ли? – спросила тетушка Рози.
– Смыло… – кивнула миссис Кемхаф. – Сперва мне хотелось, чтобы кто-нибудь навроде вас помог мне поквитаться с ним, но нужда в том отпала сама собою.
– А потом?
– Потом я вконец пала духом. Кто-то подвез меня с ребятишками до дому. Когда я вышла, меня мотало из стороны в сторону, как пьяную. Дома я уложила детей в постель. Они у меня были славные, послушные и не доставляли много хлопот, хоть и плохо соображали от голода.
Глубокая печаль отразилась на лице нашей гостьи, которая до сих пор казалась сдержанной и бесстрастной.
– Сперва заболел и помер один, за ним другой… А спустя дня три или четыре после той истории ко мне заявился старик картежник и поделился остатками еды, которую он получил. Еще немного, и он все равно спустил бы все это, проиграл в карты. Господь внушил ему сострадание к нам; а так как он знал наше семейство и знал, что муж бросил меня, то сказал, что рад нам помочь. Но было поздно – дети совсем ослабели. Один только господь и мог их спасти, но господу было не до нас, мало ль у него дел, к примеру, пора было заняться судьбой той подлой маленькой куколки – на ближнюю весну была назначена ее свадьба.
Слезы набежали на глаза миссис Кемхаф.
– Моя душа так и не оправилась от унижения, как и сердце не оправилось от мужней измены, как тело не оправилось от голода. В ту зиму я начала хиреть, и год от году мне становилось все хуже и хуже, пока не сломалась вконец. Вот тогда-то я и потеряла свою гордость и навроде той шлюхи, что увела моего мужа, начала подрабатывать в публичном доме. Потом, сама не знаю как, пристрастилась к выпивке – очень уж, видно, хотелось забыться. Разом постарела и стала такой, какой видите меня сейчас. Лет пять тому назад меня потянуло в церковь. Меня заново причастили, так как я боялась, что первое причастие потеряло силу. Но покоя я так и не обрела. По ночам мне снятся кошмары про ту куколку, и всякий раз мерещится, будто она опять, под общее глумление, топчет мою душу и усмехается, прикрывшись ладошкой.
– Есть способы исцелить душу, – молвила тетушка Рози, – точно так же, как есть способы сломать ее. Но даже мне не под силу сделать и то и другое одновременно. Если мне удастся снять с вас бремя позора, то придется переложить его на кого-то другого.
– Не об исцелении души я забочусь, – ответила миссис Кемхаф. – С меня довольно того, что все эти годы я несла свой позор и что господь, ничего не ведающий о наших горестях, прибрал к себе и моих детей, и мужа. Срок, что мне отпущен, я проживу до конца, стерпевшись с горечью, что день за днем копится в моем сердце. Но я бы померла спокойно, если бы знала, что по прошествии стольких лет эта куколка получила по заслугам.
Неужто такова воля господня, чтобы все эти годы она была счастлива, а я несчастна? Разве это справедливо? Это просто ужасно.
– Не тревожьтесь об этом, сестра, – произнесла тетушка Рози мягко. – По милости Богочеловека я могу управлять сверхъестественными силами. Эту способность мне даровала сама Великая Владычица. Если вам больше невмоготу выносить взгляд той злодейки, если он преследует вас даже во сне, то Богочеловек, говорящий со мной от лица Великой Владычицы, поразит злодейку слепотой. Если она посмела поднять на вас руку, эта рука отсохнет. – В ладони тетушки Рози оказался маленький кусочек олова, некогда блестящий, а сейчас словно изъеденный оспой, почернелый и тусклый. – Видите этот металл? – спросила она.
– Вижу, – ответила миссис Кемхаф, охваченная любопытством. Она взяла олово в руки и потерла его.
– Точно таким же образом у этой злодейки почернеет та часть тела, которую вы хотели бы уничтожить.
– Вы моя истинная сестра. – С этими словами миссис Кемхаф вернула кусочек металла тетушке Рози и добавила: – Я отдала бы все, что имею, только б она перестала усмехаться, прикрываясь ладошкой.
Миссис Кемхаф достала потрепанный бумажничек.
– Что именно досаждает вам более всего – ладонь или смеющийся рот?
– И то и другое.
– За рот или за руку, на выбор, – десять долларов. А за то и другое вместе – двадцать.
– Пусть тогда будет рот, – сказала миссис Кемхаф. – Его я вижу отчетливей всего в своих снах. – И она положила бумажку в десять долларов на колени тетушке Рози.
– Вот как мы поступим, – начала тетушка Рози, приблизясь почти вплотную к миссис Кемхаф и обволакивая ее вкрадчивым, как у докторов, голосом. – Сперва приготовим особое снадобье, которым издавна пользуются в нашем деле. В его состав входит несколько волосков известной вам особы, обрезки ее ногтей, немного мочи и кала, что-нибудь из одежды, пропитавшейся ее запахом, и щепоть кладбищенского праха. И тогда, ручаюсь, эта женщина не переживет вас дольше, чем на шесть месяцев.
Казалось, обе дамы напрочь забыли обо мне, но тут тетушка Рози повернулась и сказала:
– Тебе придется пойти с миссис Кемхаф к ней домой и научить ее читать заклятие. Покажешь ей также, как ставить черные свечи и как призывать себе на помощь Смерть.
Тетушка Рози подошла к шкафу, где хранились ее многочисленные припасы: заговорные масла, экстракты, приносящие удачу или неудачу, сушеные травы, свечи, притирания и порошки. Она достала две большие черные свечи и вручила их миссис Кемхаф. Еще она дала ей небольшой кулечек с порошком, который следовало сжигать на столе, как на алтаре, во время чтения заклятий. Я должна была научить ее правильно ставить свечи, предварительно омыв их в уксусе, дабы они очистились надлежащим образом.
Тетушка Рози наставляла нашу гостью: девять суток кряду, по утрам и вечерам, следует запалять свечи, жечь порошок и читать заклятия, стоя на коленях, сосредоточив все свои силы, чтобы ее призыв дошел до Смерти и до Богочеловека. А пред Великой Владычицей нашей поможет лишь заступничество Богочеловека. Тетушка Рози обещала в свой черед повторять заклятие. По ее словам, обе их мольбы, читаемые одновременно и с благоговением, не смогут не тронуть Богочеловека. И он скинет цепи со Смерти, дабы она могла низринуться на маленькую куколку. Но произойдет сие не сразу – Богочеловек должен сперва выслушать все молитвы-заклятия.
– Мы раздобудем все необходимое: волосы, ногти, одежду и прочее, – продолжала тетушка Рози, – и добьемся, чтобы ваше заветное желание исполнилось. Года не пройдет, как мир будет избавлен от злодейки, а вы – от ее ухмылки. Не угодно ли вам еще чего-нибудь, что сделало бы вас счастливой прямо сегодня? – спросила тетушка Рози. – Всего за два доллара.
Миссис Кемхаф покачала головой.
– С меня довольно того, что ее конец наступит еще до истечения года. Что касаемо счастья, то оно все равно не дается в руки, ежели знаешь, что оно покупается или продается за деньги. Пускай я не доживу до того дня, когда смогу увидеть плоды вашей работы, тетушка Рози, но коль я обрету утраченную гордость и поквитаюсь за причиненное мне зло, то сойду в могилу и отправлюсь в вечность с гордо поднятой головой, и могила не покажется мне ни узкой, ни тесной.
Высказав все это, миссис Кемхаф распрощалась и, преисполненная чувства собственного достоинства, покинула комнату. Казалось, будто в эту минуту к ней вернулась ее молодость; многочисленные шали спадали с ее плеч с величавостью тоги, и над седыми волосами заструилось сиянье.
Тебя заклинаю я, Богочеловек. О всемогущий, тягостным испытаниям подвергли меня недруги, осквернили имя мое, оболгали меня. Мои благие побуждения и благородные поступки обернулись худом. Позор пал на мой дом, а на детей моих – проклятье и жестокие муки. Тех, кто был дорог мне, они оклеветали, подвергли сомнению их добродетель. О Богочеловек, ниспошли на врагов моих кары, о коих молю я тебя.
Пусть южный ветер опалит и иссушит их тела, не ведая сострадания. Пусть северный ветер выстудит в жилах их кровь и лишит их тела силы, не ведая снисхождения. Пусть западный ветер относит прочь дыхание их жизни, и пусть от его дуновений у них выпадут волосы и ногти, искрошатся кости. Пусть восточный ветер помрачит их рассудок, сделает незрячими их глаза, лишит силы их семя, дабы не могли они больше плодиться.
Заклинаю отцов и матерей из всех грядущих поколений не вступаться за них пред великим престолом. Пусть чрева их жен несут плод лишь от чужаков, и пусть иссякнет их род. Пусть их младенцы родятся на свет недоумками и с недвижными членами, и пусть проклинают они тех, кто зачал их. Пусть недуги и смерть неотступно преследуют их. Пусть не ведают они процветанья в делах, пусть гибнут в полях их посевы, а коровы, и овцы, и свиньи, и весь прочий скот подыхает от бескормицы и жажды. Пусть ураган срывает кровли с их домов, пусть громы, молнии и ливни врываются в их жилища. Пусть обрушатся основания их домов, а потоки воды не оставят от них и следа. Пусть солнце не дарует им тепло животворных лучей, а только иссушает и опаляет зноем. Пусть луна не дарует им благостного покоя, а только глумится над ними и отнимает последние крохи рассудка. Пусть предательство друзей лишает их силы и власти, золота и серебра. Пусть сокрушают их враги, пока не запросят они пощады, в коей им будет отказано. Заклинаю: да позабудут уста их сладость человеческой речи, пусть языки их окостенеют и пусть воцарится вкруг них запустение, свирепствуют мор и смерть. О Богочеловек, молю тебя сделать так, ибо они смешали с прахом меня, лишили доброго имени, разбили сердце мое и заставили проклинать день своего появления на свет. Да будет так!
Этой молитвой постоянно пользовались заклинатели и обучали ей, но поскольку я не знала ее на память, как тетушка Рози, то шпарила прямо по книге Зоры Нил Херстон «Мулы и люди». Мы вместе с миссис Кемхаф повторяли ее, стоя на коленях. Вскоре мы так поднаторели в омывании свечей в уксусе, зажигании их и коленопреклоненных молениях, будто много лет только этим и занимались. Меня потрясала исступленность, с которой миссис Кемхаф молилась, – она подносила стиснутые кулаки к закрытым глазам и впивалась зубами в запястья, как делают женщины в Греции.
Судя по метрическим данным, Сара Мэри Сэдлер, та самая дамочка-куколка, родилась в тысяча девятьсот десятом году. Когда разразилась Великая депрессия, ей только-только перевалило за двадцать. В тридцать втором она вышла замуж за некоего Бена Джонатана Холли, владельца плантации, большого древесного склада и доставшихся ему в наследство нескольких бакалейных лавчонок. Весной шестьдесят третьего года ей исполнилось пятьдесят три. Было у нее трое детей – один сын и две дочери. Сын без особых успехов занимался торговлей готовым платьем, а дочери, сами став матерями, довольно быстро забыли родной дом.








