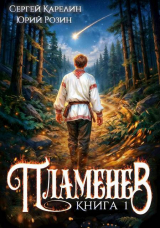
Текст книги "Пламенев. Дилогия (СИ)"
Автор книги: Сергей Карелин
Соавторы: Юрий Розин
Жанры:
Уся
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
Он пил жадно, после чего сразу засыпал безмятежным сном у меня на коленях.
За месяц малыш изменился до неузнаваемости. Размером вымахал уже с крупную дворовую собаку, его черная как смоль шерсть лоснилась здоровым блеском, лапы окрепли, стали мощными. Глаза, были ясными, ярко‑янтарными, почти золотыми и смотрели на меня теперь не слепо, а с умной, изучающей, не по‑щенячьи внимательной сосредоточенностью.
Он уверенно ходил по логову, обнюхивал каждый камень, каждую щель, даже пытался грызть и таскать старые, обглоданные кости. Во рту у него была уже дюжина острых как кинжалы, белых зубов – вполне достаточно, чтобы рвать сырое мясо, а не сосать кровь.
С учетом того, что без мяса Зверя я вряд ли смогу также быстро восстанавливать кровь, на этом стоило подвести черту. Хватит кормить его собой. Как только мы уйдем отсюда, выйдем в мир – начнем охотиться. Вместе.
Я подошел к останкам волчицы в последний раз. Не сказал ничего вслух. Бесполезные слова застряли где‑то в горле. Просто постоял там, думая о чем‑то важном. Потом развернулся и сделал шаг прочь от логова.
– Пошли, – тихо, но четко сказал я в полутьму не оборачиваясь.
Волчонок выбрался наружу, но дальше не двинулся. За спиной раздался тихий шорох и жалобный, протяжный скулеж. Я оглянулся.
Он сидел у тела матери и издавал тот самый тонкий, раздирающий душу звук, каким оплакивают потерю. Его пушистый хвост был плотно поджат между задних лап.
Обернувшись полностью, чтобы позвать его снова, я вдруг понял, что не могу. У меня не было для него имени. Все эти недели, все эти дни он был просто «волчонок». «Он».
А теперь… теперь ему нужно свое имя. Что‑то отдельное, настоящее. Знак того, что он больше не часть ее, а сам по себе, но со мной.
Я подумал секунду.
– Вирр, – сказал вслух. Имя родилось само собой, твердое, короткое и резкое. – Вирр, пошли. Время уходить.
Волчонок – Вирр – мгновенно прекратил скулить, будто кто‑то выключил звук внутри него. Поднял голову, и его яркие янтарные глаза уставились прямо на меня. В них не было ни тоски, ни вопроса, только безоговорочное внимание.
Потом он развернулся, понурил голову, лизнул нос матери на прощанье, уверенной и легкой рысцой, подбежал ко мне, потеревшись о ногу. Я наклонился, потрепал его за основанием уха, почувствовав под пальцами густую, упругую шерсть и мощные мускулы челюсти.
И мы пошли. Вдвоем. Оставив логово, пепел прошлого и груду белых костей позади, мы выбрались из темного оврага и ушли в серый, влажный предрассветный лес.
Глава 11
Две недели ушли на медленное, осторожное продвижение к Мильску и на то, чтобы научить Вирра охотиться по‑настоящему. Не то чтобы он совсем не умел: врожденные инстинкты в нем бушевали сильнее, чем в любом лесном звере. Но он был все еще щенком, пусть и размером уже с крупную дворовую собаку, и ему катастрофически не хватало терпения и дисциплины.
Первые несколько дней просто брал его с собой, выслеживая зайца‑беляка в уцелевших после пожара чащобах или проворного кронта у ручья. Вирр носился вокруг, шуршал листвой, громко сопел и пугал добычу еще до того, как я мог сделать бросок камня.
А когда я наконец добывал зверька, он с рычанием и жадностью набрасывался на еще теплую, дымящуюся плоть, отрывая куски и заглатывая их почти целиком.
Он учился, впрочем, с пугающей скоростью. Уже через несколько дней неудач волчонок усвоил первый урок: понял, что нужно замирать, припав к земле, и не издавать ни звука, когда я замираю.
Его ум был острее, чем у любого обычного животного. Он не просто слепо следовал инстинкту, а наблюдал, делал выводы, пробовал.
Свою кровь я больше не давал ему ни в каком виде. Первые дни после того, как мы покинули логово, он капризничал. Подходил, тыкался холодным носом в давно зажившее запястье, издавал тонкий, требовательный скулеж, а потом, когда понимал, что ничего не получит, начинал глухо рычать, скаля мелкие, острые зубы.
Один раз, когда я отвернулся, разделывая кронта, он даже щелкнул зубами в воздухе в сантиметре от моей руки. Я тут же, не думая, схватил его за складку кожи на холке, прижал всем весом к земле и придержал там.
Он вырывался, упираясь мощными лапами, рычал уже по‑настоящему, но сила моей хватки была ему не по зубам. Мы так лежали минуту, может, две, пока его тело не обмякло и сопротивление не сменилось покорностью. Я отпустил его, несильно шлепнув по крупу.
– Нет, – сказал твердо, глядя ему прямо в глаза. – Хватит. Больше – никогда.
Он отполз, сел поодаль и долго тяжело дышал, не сводя с меня взгляда. Больше попыток укусить, даже в игре, не было. Он смирился. Хоть и пару дней после этого смотрел на меня с немой, глубокой обидой в своих умных янтарных глазах, но подходил, когда звал, и ел предложенное мясо без капризов.
Когда на горизонте за последними холмами показались сначала жирные полосы дыма от множества печей, а потом и смутные, серые очертания высоких деревянных стен Мильска, я принял решение, которое зрело во мне последние дни. В город Вирра брать нельзя.
Он уже выглядел не просто крупной собакой, а кем‑то по‑настоящему диким. Он бы привлекал взгляды, о нем бы спрашивали, его бы боялись или, что хуже, захотели бы заполучить – для охраны, для травли, для каких‑то своих целей.
Мне сейчас нужно было раствориться, стать серой, незаметной мышью в толпе. К тому же я не знал, что именно ждет за этими воротами – патрули мундиров, случайная встреча с Федей, просто незнакомая, враждебная среда. Тащить его в потенциальную ловушку, где я мог оказаться беспомощным, было бы чистым эгоизмом и предательством по отношению к нему.
Мы остановились в последней рощице перед открытыми, возделанными полями, окружавшими город. Я сел на корточки перед Вирром, чтобы быть с ним на одном уровне. Он тут же подошел и уткнулся лбом мне в колено, ожидая ласки.
– Слушай, – сказал ему тихо, положив руку на круп. – Ты останешься здесь. В этом лесу. Будешь ждать. Понял?
Волчонок наклонил голову набок, его треугольные уши настороженно подергивались, ловя каждый звук моего голоса. Он понял слово «ждать» из предыдущих тренировок. Но этого мало.
Мне нужно было, чтобы он не только ждал пассивно, но и мог найти меня, если что‑то пойдет не так: если мне придется бежать или если не смогу вернуться к этому месту.
Мы потратили целый последний день на эту тренировку. Я уходил в чащу, прятался за валунами или забирался на невысокие сосны, а потом издавал особый, резкий, пронзительный свист – через два пальца, прижатых к зубам, как меня когда‑то, давным‑давно, научил дед Сима.
Вирр, с его невероятно острым, как у любого Зверя, слухом, находил меня почти мгновенно, прибегая сквозь кусты вихрем черной шерсти и радостно тычась мордой в грудь. Потом я усложнял задачу – уходил дальше: на полкилометра, на километр, больше, и свистел, подзывая его, оттуда.
Он терялся пару раз, но всегда в конце концов прибегал, запыхавшийся, с высунутым языком, и тыкался мокрым носом в мою ладонь, как бы говоря: «Вот я, я справился». К концу дня он четко уяснил: этот конкретный свист значит, что я его зову. И он должен прийти.
Наступило утро, когда пора было идти. Я оставил Вирру последнюю свежую тушку крупного кронта – на два дня пропитания, не больше.
– Жди здесь, – повторил, глядя ему прямо в глаза. – Я вернусь. Или позову. Свистом. Запомнил?
Он стоял неподвижно, глядя на меня, его пушистый хвост был опущен. Он не скулил, не пытался идти следом. Просто смотрел.
Его золотистые глаза были серьезными и какими‑то… слишком понимающими. Я развернулся и пошел прочь, не оглядываясь, но кожей спины чувствуя его неотрывный взгляд, будто два горячих уголька впились мне между лопаток.
Поля вокруг Мильска были прорезаны дорогами, укатанными колесами. По ним, как муравьи, двигались люди: крестьяне с гружеными сеном телегами, погонщики с небольшими стадами коров, какие‑то странники в поношенной, пыльной одежде с посохами.
Я влился в этот медленный, шумный поток, стараясь идти не слишком быстро, чтобы не выделяться, и не слишком медленно, чтобы не казаться бродягой. Одежда на мне была все та же, деревенская. Простая, грубая льняная рубаха с потертыми завязками и штаны из такой же ткани, теперь еще более потрепанные неделями в лесу, но чистые – я выстирал их в ледяном ручье и высушил на ветру.
На вид я был просто худощавым парнем с необычно седыми для его возраста волосами. Ничего особенного. Один из сотни таких же.
Стены города выросли передо мной внезапно – огромные, темные от времени, дождей и копоти, они стояли, перегораживая горизонт. Дерево, из которого они были сбиты, выглядело старым, просмоленным, выше трех деревенских изб, поставленных друг на друга.
Наверху, за частоколом из заостренных концов бревен, виднелись редкие фигуры часовых в темных плащах. Главные ворота – массивные створы из дубовых плах, окованных черным железом, – были распахнуты настежь, впуская и выпуская нескончаемый поток.
Я подошел к воротам ближе и увидел, что просто так не пройдешь. Тут даже днем стояли стражники в полном снаряжении. Их было четверо: двое по бокам от проема, с длинными копьями, поставленными на землю, и двое прямо у входа, в потертых кожаных нагрудниках, с короткими мечами на поясах.
Перед ними вилась небольшая очередь из подвод и пеших людей, забившая все пространство между грязными стенами прилепившихся к городской стене лачуг.
Я пристроился в хвост, стараясь не выказывать нетерпения. Один из стражников у входа, коренастый мужчина с обветренным лицом и седыми щетинистыми бровями, время от времени протягивал руку и что‑то требовал у входящих.
Он проверял не всех подряд, а как будто по настроению. Бедняков в заплатанной одежде, вроде меня, чаще всего просто осматривал с ног до головы – задерживал взгляд на лице, на руках, на обуви – и пропускал. К купцам с телегами придирался дольше, выясняя груз, сверяясь со списками.
Я сразу понял принцип… Нужно было не суетиться, не отводить взгляд, но и не пялиться на стражу. Вести себя как все. Как человек, которому тут делать нечего особенно, но и скрывать нечего.
Очередь двигалась медленно, рывками. Передо мной мужик с пустой тележкой долго что‑то доказывал про больную жену, пока стражник не рявкнул на него, и тот, понурившись, сунул в его руку две монеты.
Я чувствовал, как под грубой рубахой начинает липнуть к спине пот. Кошелек Фаи лежал у меня за пазухой, рядом с книжечкой, и казался раскаленным камнем.
Я заранее отсчитал в карман пятьдесят медных копеек – мелкой, потертой монетой, какие мог иметь при себе простой паренек, отправляющийся в город на поденщину. Остальные девять с полтиной рублей лежали глубже, в потайном кармашке у пояса.
Вот и моя очередь. Передо мной пропустили старуху с корзиной. Ту даже не остановили – махнули рукой, и она, кряхтя, поплелась внутрь. Я сделал шаг вперед, поставил ногу на выщербленный порог арки.
Коренастый стражник уставился на меня. Его взгляд был тяжелым, привыкшим быстро оценивать и разделять людей на тех, кто важен, и всякий мусор.
Я, в своих поношенных, перешитых из дядиной одежды штанах, в простой холщовой рубахе, с седыми не по годам волосами, явно попал во вторую категорию.
– Цель визита? – бросил он отрывисто.
Даже не как вопрос, а как формальность, обязательную к озвучиванию.
– Работу ищу, – ответил я ровно. Смотрел чуть ниже его глаз, на переносицу. И тут же, не дожидаясь следующих вопросов – а они могли быть любыми: «Откуда?», «Чем докажешь?», «Кто поручится?», – вытащил из кармана зажатую в ладони горсть медяков. – Взнос.
Я протянул руку, раскрыл ладонь. Монеты, потертые и тусклые, лежали на ней, слипшиеся от пота. Стражник мельком глянул на них, потом снова на меня. В его маленьких, глубоко посаженных глазах промелькнуло пренебрежение.
Он быстрым, отработанным движением сгреб монеты с моей ладони, бросил медь в висевший у пояса кожаный мешок.
– Валяй, – махнул рукой, переводя взгляд уже на следующего в очереди, погонщика с парой тощих, блеющих коз.
Я кивнул, не говоря ни слова больше, и шагнул вперед, в арку ворот. Каменная кладка стен здесь была холодной даже в летний день, приятно меня охладив.
Шум города впереди нарастал с каждым шагом – гул голосов, скрип телег, лай собак. Еще пара шагов, и я буду внутри. Спина начала понемногу расслабляться.
– Эй ты!
Голос прозвучал сзади, резкий и властный, прорезав общий гам. Внутри все сжалось в один ледяной, тяжелый комок. Сердце гулко ударило раз, другой, будто пыталось вырваться из груди.
Я медленно, стараясь не выдавать паники, обернулся. Взгляд сразу же нашел того коренастого стражника.
Но тот смотрел не на меня. Он смотрел поверх моего плеча, на погонщика с козами, который уже начал было проходить, поторапливая животных прутиком.
– Ты, бородатый! Документы на скот где?
Облегчение ударило по ногам, кровь с гулом прилила к голове.
Я быстро, пока стражник был занят нарушителем, развернулся и сделал последние широкие шаги, выходя из тени арки на солнечную, оглушительно шумную улицу Мильска.
Деревня с ее тишиной, запахом навоза и дыма из труб осталась где‑то за спиной. В другом мире, за толстыми стенами. Здесь мир был другим.
Дома вставали по обеим сторонам, тесня друг друга, будто борясь за место под солнцем. Не одноэтажные срубы с огородами, а каменные и деревянные двух‑ и трехэтажные громады с островерхими крышами, покрытыми темной черепицей или дранкой.
Из некоторых окон свешивались на длинных шестах выцветшие, потрескавшиеся вывески с едва угадываемыми рисунками сапога, кренделя или подковы, или сохнущее белье, добавлявшее свои пятна к пестроте улицы.
Сами улицы извивались, пересекались, образовывали внезапные площади с колодцами и тупики, упирающиеся в глухие заборы. Я шел, и каждый новый поворот открывал другую картину – еще более шумную и странную.
Мимо меня проехала угловатая, неуклюжая повозка на массивных деревянных колесах с железными ободами, вот только лошадей в упряжке не было. Повозка катилась сама. Таких тут было немного – может, одна на каждую улицу, – и двигались они не быстрее торопливого шага, но их скрипящий, ритмичный стук колес по булыжнику, сопровождаемый негромким гудением, выделялся на общем фоне.
Они были сделаны из темного, почти черного дуба и тусклого металла, и от них исходила легкая, но отчетливая вибрация в воздухе – знакомое, щекочущее нутро ощущение энергии. Дух.
Я завороженно смотрел, как одна такая машина, груженная бочками, медленно ползла мимо. Мужик, сидевший на высоком сиденье спереди, в кожаном фартуке и кепке, лишь изредка дотрагивался до рычагов по бокам, нажимал ногой на что‑то у своего сиденья, и повозка послушно, с легким шипением, реагировала.
Лавки. Их было несчетное количество – в центральном районе на первых этажах почти каждого дома. Не просто прилавок у окна, а настоящие магазинчики с распахнутыми настежь дверями и выставленными на витрины товарами.
Здесь продавали все: от грубых гвоздей и кос до ярких тканей и странных, блестящих безделушек, назначения которых я не понимал – то ли для украшения, то ли для каких‑то городских ритуалов.
Я глазел, забыв об осторожности: на груду медных чайников, сверкавших на солнце, на висящие связки сабель и ножей с узорчатыми рукоятями, на стопки потрепанных книг за пыльным стеклом, на связки сушеных трав и склянки с разноцветными жидкостями в окне знахаря.
И люди… Их было не просто много. Они текли сплошным разноцветным, галдящим потоком, заполняя пространство между домами до краев. Мужики в потертых кожаных фартуках с топорами или молотками за поясом. Женщины с огромными корзинами, прижатыми к бедрам.
Крикливые разносчики, с деревянными ящиками на ремнях через плечо, выкрикивали: «Пирожки горячие! С мясом, с капустой!», «Иголки, нитки, булавки!», «Мыло душистое, по копейке брусок!».
Дети – целые стайки грязных, оборванных мальчишек и девчонок – носились между ног взрослых, играя в чехарду или таская что‑то съестное с прилавков, когда торговец отворачивался.
Все куда‑то спешили, толкались локтями, кричали через улицу знакомым. Не было того размеренного ритма деревенского дня: подъем, работа, обед, работа, ужин, сон.
К тому же во многих я чувствовал Дух. Слабые, но различимые излучения. Не единицы на всю деревню, как у нас, а десятки на одной улице.
Похоже, здесь магия, Сбор, была не редким даром, а в каком‑то смысле обыденностью. Наверное, и про Вены тут знал каждый первый, пусть и достичь этого уровня все еще могли очень немногие. От этого открытия стало одновременно и горько, и завидно, и как‑то не по себе.
Я бродил часами без цели, просто впитывая все это, пока ноги не начали ныть от непривычно твердого камня под тонкими подошвами. Улицы, по которым я теперь шел, постепенно становились шире, булыжник уступал место более аккуратной мелкой брусчатке.
Дома – богаче: с резными наличниками на окнах, с коваными решетками и дверями из темного дерева с бронзовыми молотками. Толпа поредела, сменившись более размеренными, лучше одетыми горожанами – мужчинами в кафтанах, женщинами в длинных, шуршащих платьях. Все они смотрели перед собой с важным видом и не кричали.
И тогда, свернув за угол, я вышел на огромную площадь, вымощенную уже не булыжником, а гладкими, отполированными временем и ногами серыми каменными плитами.
В центре, в окружении низких перил, журчал фонтан – каменная чаша, из которой вверх била струя воды, а у подножья сидели каменные же лягушки и птицы. Вокруг неспешно прогуливались парочки, играли чистые, хорошо одетые дети под присмотром нянек.
А на дальнем, противоположном конце площади, за высоким ажурным и одновременно грозным чугунным забором с острыми как копья пиками наверху, возвышалось поместье.
Из темно‑красного, почти бордового кирпича, с узкими башенками по углам, со стрельчатыми окнами, в которых стекла отсвечивали холодным блеском, и с длинными балконами, опоясанными той же кованой вязью.
Над огромными, кованными из целых полос металла воротами, в которые могла бы въехать запросто целая телега, красовался герб – огромный медведь, вставший на дыбы. Из раскрытой пасти зверя вырывалось пламя.
Топтыгины. Это должен быть их дом. Обитель тех, кто убил Звездного, кто охотился за мной в лесу. От одного взгляда на это подавляющее своим могуществом здание по спине пробежал табун мурашек.
Все веселье, все восхищение городом, вся ошеломленность новизной мгновенно испарились. Я резко развернулся, не глядя больше на ворота с этим железным хищником, и пошагал обратно – в лабиринт узких шумных улочек, где мог затеряться.
Глава 12
Желудок скрутило знакомой, острой судорогой голода. Солнце уже клонилось к самым крышам, отбрасывая длинные, уродливые тени, а я с утра ничего не ел. Запахи, которые раньше казались просто частью городской какофонии, теперь выделялись четко и дразняще,
Я остановился у одной из открытых лавочек, где продавец, краснолицый от жара, выкладывал на деревянный, заляпанный жиром прилавок дымящиеся румяные пирожки. Цена была выжжена на грубой деревянной табличке, прибитой к притолоке: «Пирог с мясом – 25 коп.».
Я сунул руку за пазуху. Не вынимая, потрогал пальцами оставшиеся в кошельке монеты, пересчитал их мысленно. Девять с полтиной. Если тратить по двадцать‑тридцать копеек на каждую еду, дважды в день, этих денег не хватит даже на пару недель.
А ведь нужно еще было где‑то спать. Под крышей. Где‑то жить, пока буду искать этот чертов детдом.
Идти в центр, где цены кусались, а люди смотрели свысока, смысла не было. Я свернул с широкой, относительно опрятной улицы и углубился в вязь переулков.
Дома здесь были ниже, почерневшие от времени и копоти, с покосившимися ставнями и трещинами в штукатурке. Мостовая под ногами сменилась утрамбованной, липкой от какой‑то жижи землей, перемешанной с гниющим мусором, огрызками и рыбьей чешуей.
Это был другой город: изнанка, город тех, кто обслуживал первый – парадный, кто мыл его полы, чистил его сточные канавы и таскал его товары.
Я начал обходить заведения, где могла бы быть работа, и где простой парень с сильными руками мог быть нужен. Первой стала харчевня с выцветшей, почти бесцветной вывеской «Едальня».
Толкнул низкую дверь и вошел. На меня сразу уставились несколько взглядов – не любопытных, а устало‑равнодушных. За стойкой, заставленной бочонками, стоял толстый лысый мужик в грязном фартуке.
– Чего? – буркнул он, не отрываясь от нарезки черного хлеба.
– Ищу работу, – сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и уверенно. – Могу что угодно. Помыть полы, потаскать бочки, вынести помои. В обмен на ужин.
Мужик фыркнул, ткнув ножом в сторону двери.
– Попрошаек и так каждый день десяток штук заходит. Кормить каждого бродягу – себя не уважать. Пошел вон, не мешай народу кушать.
Я вышел, не споря. Второе место было похожим – небольшой, темный трактир с одним окошком, где мне даже не дали договорить. Просто пожилая женщина, вытиравшая столы, махнула на меня грязной тряпкой, будто отгоняя муху, и прошипела: «Убирайся, пока хозяйка не вышла!»
Третье, четвертое… Везде одна и та же реакция. А голод становился все назойливее.
Наконец, я набрел на очередной трактир, чуть побольше других, с покрашенной в темно‑зеленый, облупившийся кое‑где цвет дверью и относительно целыми, чисто вымытыми стеклами в окнах.
Вывеска, деревянная, с вырезанными буквами, гласила: «У Лешего». Народу было немного, но выглядели они не нищими оборванцами, а скорее усталыми мастеровыми, которые могли себе позволить выпить кружку кваса и закусить чем‑то сытным. Это было место подороже, но все еще на отшибе.
Я вдохнул полной грудью, отворил тяжелую дверь и вошел, стараясь не шаркать ногами. За стойкой у высокой бочки с квасом стоял мужчина лет сорока, в чистой, но простой холщовой рубахе с закатанными по локоть рукавами – половой. Он вытирал кружку серой тряпкой и смотрел на меня без особого интереса, как на любого нового посетителя.
– Добрый вечер, – начал я, прежде чем он успел спросить «чего подать?». – Простите за беспокойство. Вам не нужна помощь? Я могу тяжести таскать, пол мыть, дрова колоть – что угодно. В обмен на ужин.
Половой нахмурился, положил кружку на стойку, потер ладонью щетину на щеке.
– Работы для всех желающих нет, парень. Сам видишь – не сезон, не ярмарка.
– Я не все, – быстро, но не сбиваясь, сказал я. – Я один. И я сильный. Дайте задание. Если не справлюсь – уйду без претензий.
Он еще секунду молча смотрел на меня, будто взвешивая, потом пожал плечами, как бы говоря «чего уж там».
– Ладно. Подожди тут. Не шуми.
Он откинул синий, засаленный полог за стойкой и скрылся в задних помещениях. Я остался стоять у входа, чувствуя на себе любопытствующие взгляды пары посетителей.
Прошла минута. Две. Я сглотнул, пытаясь унять громкое, предательское урчание в животе, и уставился на трещину в половице.
Половой вернулся. На лице его не было ни одобрения, ни раздражения. Просто усталое выражение человека, выполняющего поручение.
– Хозяин говорит, дров наколоть надо. Привезли, свалили – а колоть некому. Гора за сараем. Справишься до самой темноты?
– Справлюсь, – ответил я сразу, без раздумий.
– Ну, иди за мной.
Меня провели через шумную, пропахшую паром и жиром кухню, где на плите шипели сковороды, а из котлов валил густой, мясной пар, в небольшой, захламленный двор.
С двух сторон его окружали глухие стены – самого трактира с закопченным окном кухни и кирпичной стены соседнего строения. С третьей стоял высокий деревянный забор, из‑за которого доносился запах лошадей и сена, а с четвертой были ворота на улицу.
У одной стены под низким соломенным навесом стояла аккуратно, «колодцем», сложенная поленница – уже готовые, одно к одному поленья. Рядом, на замызганном от щепы, коры и земли пятачке, лежала груда чурбаков – толстых, разномастных отрезков древесины, брошенных как попало. О них‑то и шла речь.
Половой, который привел меня, ткнул коротким толстым пальцем в эту кучу, потом в тяжелый колун, прислоненный к стене сарая, и на большую, сплетенную из лозы корзину, стоявшую рядом.
– Вот. Коли на такие, – он показал сложенными ладонями размер, – чтоб в топку хорошо ложились. Не камины тут топим. Наколол корзину – тащи на кухню, повару отдавай. Понял?
– Понял, – ответил я, уже оценивая объем работы.
Мужчина кивнул, развернулся на каблуках и ушел обратно, хлопнув за собой плотной дверью, ведущей в кухню.
Я остался один в тишине двора, нарушаемой только доносящимся из‑за забора фырканьем лошади и смутным гомоном улицы. Вечерело, небо над забором становилось сиреневым, но для работы света еще хватало.
Подошел к колуну – добротному, с длинной, просмоленной, гладкой от многих рук рукоятью и тяжелым, слегка зазубренным от времени лезвием. Взял его в руки, привычно взвесил, сделал пару пробных взмахов.
Легкий. Слишком легкий. После недель практики Крови Духа и силы, что я от этой практики получил, он казался игрушечным.
Я поставил первый чурбак, выбрав помельче, на широкий, изъеденный тысячами ударов пень‑подставку, в центре которого зияла глубокая вмятина. Привычка, вбитая годами в деревне, взяла верх: я поставил ноги правильно, чуть шире плеч, слегка согнул колени, перенес вес, оценил текстуру дерева – сыроватое, но не свежесрубленное, уже полежавшее.
Потом плавным, точным движением поднял колун и опустил его. Не со всей силой. Ровно с той, которая была нужна. Лезвие вошло в дерево с глухим, влажным «чмоком», и чурбак без спора развалился на две почти ровные половинки.
Еще четыре коротких удара, и из каждой половинки получилось по три аккуратных, ровных полена, готовых для топки. Я сгреб их руками, смахнув мелкую щепу, в корзину.
Работа вошла в ритм – знакомый и почти медитативный. Движения стали размеренно‑четкими: подобрать подходящий чурбак, поставить на плаху, оценить сучки, взмах, расколоть, сбросить в корзину, смахнуть щепу.
Я не торопился, но и не мешкал, не делая лишних движений. Сила, спокойно текущая в жилах, позволяла не уставать, не сбивать ровное, глубокое дыхание.
Когда корзина наполнилась доверху ровными поленьями, я взвалил ее на плечо – она показалась пуховой, невесомой – и, придерживая одной рукой, отнес на кухню, поставил с глухим стуком у печи.
– Уже? – буркнул повар, не отрываясь от дела, лишь мельком косясь на полную корзину.
Я просто кивнул, взял еще одну пустую корзину, развернулся и пошел за следующей порцией.
Вторую и третью корзину я приносил все быстрее – организм полностью вошел в ритм, тело само знало, как двигаться. Повар, принимая четвертую корзину и высыпая поленья в деревянный ящик у печи, наконец поднял на меня глаза, в которых мелькнуло неподдельное удивление.
– Шустро, парень. Не ожидал. Обычно такие… – Он махнул рукой, не договаривая, но смысл был ясен.
Я снова лишь кивнул, не вступая в разговор, и вернулся во двор. Гора чурбаков таяла на глазах, превращаясь в аккуратные штабели поленьев.
Последний чурбак – особенно корявый, весь в сучках и с толстой корой – я поставил, нашел слабое место, где шла трещина, и быстро расколол, разбив его не на поленья, а на ровные щепки для растопки. Взглянул на полоску неба над забором – прошло от силы полчаса, не больше. Все. Во дворе лежала только мелкая щепа да кора.
Я занес последнюю, наполненную доверху щепой и мелкими поленьями корзину, поставил колун на его место, прислонив к сараю, и отряхнул руки от липкой коры и щепы.
Повар, помешивая что‑то в огромном медном котле, мотнул головой в сторону дальнего, грубо сколоченного стола в углу кухни, заваленного луковой шелухой и пустыми мешками.
– Садись. Не мешайся под ногами.
Через минуту, вытерев руки о фартук, он поставил на стол передо мной большую, жестяную, помятую по краям миску. В ней густо, почти как каша, плавали куски желтой картошки, оранжевой моркови, прозрачного лука и – самое главное – темные, хрустящие, ароматные шкварки.
Запах был таким концентрированным, мясным и жирным, что у меня рефлекторно свело скулы и заурчало в животе. Рядом шлепнулась на дерево толстая половинка ржаного, еще теплого хлеба с хрустящей, подрумяненной коркой.
Я не стал церемониться, ждать приглашения или есть медленно, изображая воспитанность. Взял ложку, лежащую рядом, и начал уплетать суп за обе щеки. Он был простым, жирным, невероятно сытным и столь же невероятно вкусным. Каждый кусок хлеба, обмакнутый в густой, мутноватый бульон, казался лучшей, самой желанной едой в жизни.
Я съел все до последней крошки хлеба, выскреб миску ложкой досуха и только тогда откинулся на спинку табурета, чувствуя, как по телу разливается блаженная, тяжелая, успокаивающая теплота, а мышцы наливаются приятной усталостью.
Повар, наблюдавший за мной краем глаза, пока чистил картошку в ведро, фыркнул, но в его фырканье не было злобы или презрения – скорее снисходительное понимание.
– На, – он поставил рядом на стол глиняную, потрескавшуюся чашку с дымящимся коричневатым отваром, – запей. Отвар с мятой. Для пищеварения.
Я поблагодарил коротким кивком и взял чашку, обхватив ее ладонями. Обжигающий отвар горчил, пах мятой, ромашкой и чем‑то еще – терпким, лесным. Я пил его медленно, маленькими глотками, растягивая удовольствие, давая желудку привыкнуть к неожиданной обильной пище.
Сидел в своем углу, отгороженный от основного кухонного хаоса грудой мешков, наблюдая, как в трактире кипит вечерняя работа – разносят заказы, моют посуду в огромном тазу, подкидывают дрова в пышущую жаром печь.
Именно тогда, когда я допивал последний глоток остывшего отвара, ко мне подошел не повар, а другой человек – постарше, лет пятидесяти, в чистой, но простой льняной рубахе, подпоясанной узким кожаным ремнем. У него было внимательное, умное, усталое лицо человека, который все считает и все помнит.
– Работу сделал?
– Да, – я поставил пустую чашку на стол. – Чурбаков больше нет. Щепа для растопки в последней корзине.
– Быстро, – констатировал он, и в его голосе прозвучало одобрение. – И аккуратно, я поглядел. Дров хватит дня на два, а то и три, если экономно.
Он помолчал, изучая меня взглядом.
– Работа здесь, в таком заведении, всегда есть. Дрова, воду из колодца носить, уборка во дворе, подмога на кухне – овощи чистить, посуду мыть. Если хочешь, можешь остаться. На постоянке. Кормить будем два раза – днем и вечером. И ночевать дадим. Без оплаты деньгами, конечно. Это как бы за кров и харчи. Но зато крыша над головой и живот полный.
Я посмотрел на его серьезное лицо. Предложение было более чем справедливым, даже щедрым для бродяги с улицы. Но мне нужно было время. Для поисков детдома. И практики Крови Духа, для которой требовались уединение и силы.








