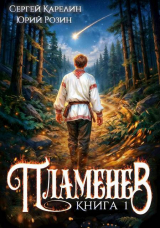
Текст книги "Пламенев. Дилогия (СИ)"
Автор книги: Сергей Карелин
Соавторы: Юрий Розин
Жанры:
Уся
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
Его взгляд, твердый, холодный и не терпящий возражений даже в праздник, видимо, пробился сквозь хмельную пелену. Мужики заерзали, их крики стихли, сменившись невнятным бормотанием.
– Все-все… простите, Митрий Иваныч… праздник же…
– Да я ему… ладно, пойду лучше выпью…
Они, тяжело пошатываясь, разошлись в разные стороны, стараясь не смотреть друг на друга. Порядок был восстановлен. Митрий кивнул ополченцам, и те растворились в толпе, продолжая нести свою невидимую вахту.
А я сидел на своем месте у плетня и неожиданно… просто наслаждался. Потом, когда это все закончится, найду способ узнать, что было у Феди на уме. Но сейчас совершенно не хотелось об этом думать, и я заставил себя выкинуть из головы тревожные мысли.
Никто не требовал от меня встать и произнести тост. Никто не пялился на меня, вспоминая недавнюю драку на плацу или мое исчезновение. Я был просто частью толпы. И это было прекрасно.
Я ел сочное, тающее во рту жареное мясо с хрустящей, пропитанной соком корочкой; острую, холодную квашеную капусту; теплый душистый хлеб, который ломался в руках с тихим хрустом. Запивал холодным, чуть кисловатым бодрящим квасом. И смотрел.
На кружащихся в бесшабашном танце парней и девушек, на красные от счастья и хмеля лица стариков, которые, подпирая щеки кулаками, смотрели на молодежь и что-то вспоминали. На детей, носящихся между столами как угорелые, хватая украдкой куски пирогов.
Эта простая, шумная, пахнущая потом, едой и жизнью суета была для меня чем-то совершенно новым. В ней не было привычного подвоха, постоянной необходимости выживать, высчитывать и опасаться. Была просто грубая, бесхитростная радость.
От того, что все вместе, что еда есть, что повод хороший. И она оказалась заразительной. Краешки моих губ сами собой тянулись вверх, а в груди что-то непривычно и легко распирало.
– Саша?
Голос прозвучал рядом со мной – тихий, немного дрожащий, едва слышный сквозь гул музыки и смеха. Я обернулся.
Рядом, в полушаге от скамьи, стояла Машка, дочь гончара Лукича, у которой я выменивал горшочки. Она была, наверное, на год или два старше меня, с круглым, веснушчатым лицом и светлыми, выгоревшими на солнце волосами, туго заплетенными в толстую косу.
Сейчас ее щеки были ярко-красными, почти свекольными, но не от вина – от смущения. Она теребила пальцами край простого, но чистого ситцевого платья, не поднимая глаз.
– Маша. Привет.
– Привет, – выдохнула она, потупила взгляд в землю у своих ног, обутых в стоптанные, но вымытые башмаки, потом резко подняла его на меня. Глаза ее, светлые, серо-зеленые, были широко раскрыты от смеси страха и решимости. – Не хочешь… потанцевать? Там народу много, все танцуют… можно просто… покружиться…
Она выглядела так, будто готова была в следующую же секунду развернуться и бежать без оглядки или провалиться сквозь землю. И я почувствовал, как жар, мгновенный и неудержимый, поднимается к моим собственным ушам и щекам.
Танец? Я? Я никогда… не было ни повода, ни возможности. Да и мысли такой раньше просто не возникало. Мои дни были заполнены работой, страхом, злостью. Тайными тренировками – в последнее время. Было не до танцев.
– Я… я не очень умею, – пробормотал я, отводя взгляд и чувствуя себя вдруг неловко в собственном теле, которое еще час назад было таким послушным, сильным инструментом, а теперь стало громоздким и неповоротливым. – Никогда не пробовал.
– Да я тоже! – она быстро, почти перебивая, ответила, и в ее глазах, вопреки смущению, мелькнул живой огонек. – Честно! Никто тут не умеет по-настоящему! Все просто… кружатся. И смеются! Давай? А то я одна… все подружки уже с кем-нибудь…
Она протянула руку. Неловко, почти по-детски, ладонью вверх. Я посмотрел на ее ладонь, на небольшие мозоли у основания пальцев. Потом на ее ожидающее, испуганно-надеющееся лицо.
Дальше – на круг танцующих, где люди действительно просто двигались как бог на душу положит, наступали друг другу на ноги, сталкивались, смеялись над собственной и чужой неуклюжестью, и в этом не было ничего страшного или осуждающего.
Что-то внутри дрогнуло. Какая-то скованность, оставшаяся от прошлой жизни, лопнула, как тонкая льдинка.
– Давай, – мой голос прозвучал чуть хрипло от внезапной сухости в горле.
Я взял ее руку. Ее пальцы были прохладными и немного влажными от волнения.
Мы пробились к краю круга – туда, где было чуть просторнее. Первые такты были полной катастрофой. Музыка, которая со стороны казалась такой простой, вдруг обернулась хитрым, неуловимым зверем.
Я наступил ей на ногу – на тот самый вымытый башмак. Она ахнула, дернулась не в ту сторону и налетела на меня плечом. Мы попытались сделать какой-то поворот, столкнулись лбами и отпрянули друг от друга, оба покраснев еще сильнее, до корней волос.
Кое-кто из рядом танцующих парней усмехнулся, но усмешка была беззлобной, понимающей – сами через это прошли.
– Смотри на ноги! – зашептала Маша, сама уставившись себе под ноги. Ее брови были нахмурены в беспомощном сосредоточении.
– Какие ноги, тут вообще понять ничего нельзя… – начал я, но тут барабан отбил четкую, настойчивую дробь, а дудка вывела ясную плясовую трель. Ритм стал осязаемым.
И мы перестали думать. Просто позволили телу ловить этот ритм и двигаться вместе с ним. Шаг влево, притоп правой ногой. Шаг вправо, еще притоп. Рука на ее талии – легкое, почти невесомое прикосновение через тонкую ткань платья. Ее рука на моем плече, пальцы слегка впивались в рубаху.
Потом музыка изменилась, стала быстрее, и мы разъединились, покружились на месте каждый сам по себе. Я неуклюже, она, подхватив подол платья, грациознее. Потом снова сошлись – уже смелее, не боясь столкновения.
Сначала еще робко, следя за движениями других пар, потом все свободнее, переставая оглядываться. Смех, который душил меня от неловкости в начале, вдруг вырвался наружу – чистый, легкий, беззлобный.
Я не смеялся над собой или над ней. Я смеялся просто потому, что это было весело. Маша тоже засмеялась, звонко и заразительно, и ее лицо в этот миг преобразилось, смыв с себя всю застенчивость и напряжение, став просто юным, открытым и радостным.
Мы уже не пытались танцевать «правильно» или как-то особенно. Мы просто двигались, отдаваясь потоку музыки, теплому воздуху и всеобщему шумному веселью. Пот тек по спине, пропитывая рубаху, дыхание сбилось, в ушах стучала кровь, но это не имело никакого значения.
В этот миг, в этом шумном вихре запахов жаркого, пота и земли, под оглушительные звуки дудки и барабана, глядя на раскрасневшееся, улыбающееся мне лицо девушки напротив, я вдруг поймал себя на мысли, что в груди распирает что-то теплое, светлое и невероятно легкое.
Что-то поднималось из самой глубины, прогоняя все старые обиды, страхи и горечь. И я понял, что это, наверное, и есть оно. Самое простое…
Счастье.
Глупое, сиюминутное, ничем не оправданное и от того еще более ценное. Возможно, первое настоящее в моей жизни. Или первое, которое я мог назвать именно так без оговорок, без оглядки и без вечного, подспудного страха, что его вот-вот отнимут, растопчут или испортят.
Оно было здесь и сейчас. В запыленных башмаках на твердой земле, в запахе кваса и в смехе девушки с веснушками.
Жаль, что оно, как оказалось, было недолгим.
Глава 21
Мы кружились уже в третьей или четвертой плясовой. Музыка стала быстрее, ритм бил прямо в грудь. Смех застревал в горле от быстрого, хриплого дыхания, а весь мир сжался до нескольких простых вещей: до оглушительной трели дудки и глухого буханья барабана, до теплой, чуть влажной от пота ладони Маши в моей руке и до ее сияющих смехом глаз, в которых отражались прыгающие огни факелов.
Я почти забыл о Феде, о его подозрительном спокойствии, о Берлоге, о Звездном. Почти. Где-то на краю сознания еще теплилась настороженность, как тлеющий уголек, но его заливал целый водопад простой, шумной радости.
Над нашими головами, в густой, бархатной синеве уже почти ночного неба, где только-только начали проступать первые бледные звезды, грянул взрыв.
Он был не похож ни на гром, ни на треск дерева. Звук сухой и резкий, как будто само небо надорвалось. Не раскат, а именно удар. Один.
И следом за звуком через долю секунды вспыхнул свет. Огненная сфера – ослепительно-рыжая и невыносимо яркая в центре, с клубящимися алыми краями – на миг повисла высоко над темными коньками крыш, осветив площадь, лица, столы.
Потом сфера сжалась, погасла, оставив после себя не дым, а плывущее в темноте багровое пятно, пляшущее на сетчатке, и едкий чужой запах – как после грозы, но более горький.
Площадь замерла. Музыка оборвалась на полуноте: дудка издала писк и умолкла, барабанщик замер с поднятыми палочками.
Пары расцепились, все головы, как по команде, поднялись к небу – к тому месту, где уже ничего не было. Секунду, две царила полная, оглушительная тишина, нарушаемая только треском факелов да чьим-то сдавленным всхлипом.
Потом кто-то в толпе, у дальнего стола, неуверенно захихикал.
– Фейерверк! Ой, батюшки! Катя, да ты прям царица! Не ожидали от тебя такого!
– Гляди-ка, какая штука! Яркая! Дорогущая, поди, одна штука-то!
– Эх, Кать, хозяюшка! Давай еще! Жги, так сказать!
Напряжение подтаяло, сменившись новым, нервным витком веселья. Люди снова заулыбались, но улыбки были натянутыми, глаза бегали. Они закивали в сторону главного стола, где тетя Катя сидела откинувшись на спинку скамьи, с вытянувшимся от полного недоумения лицом.
Она моргала, рот был приоткрыт. Она не заказывала никакого фейерверка. Наверняка сочла бы такую трату денег преступной глупостью.
Но раз уж это случилось – и все решили, что это ее рук дело, – она лишь медленно выпрямила спину, приняв на себя бирку незаслуженной щедрости. На ее лице появилась гримаса, пытавшаяся изобразить скромное удовольствие.
А я стоял, все еще держа Машу за руку, и чувствовал, как по спине, под влажной от танца рубахой, пробежала струйка холодного, липкого пота.
Инстинкт, отточенный неделями рядом со Звездным, неделями боли, наблюдений и уроков, сработал раньше мысли, раньше страха.
Я сделал короткий, резкий вдох, едва заметно сузил глаза и позволил крошечной, контролируемой толике Духа прилить к ним.
Небо, которое для всех остальных было просто темным, с пляшущим багровым пятном, для меня заиграло другим светом. Там, где погасла вспышка, еще висело и медленно рассеивалось облако, но не дыма, не пепла.
Это была не химия пороха, не праздничная петарда, а сгусток энергии. Она клубилась как ядовитый, живой туман, и от нее тянулись нити, похожие на корни больного растения. Это был Дух.
Огромное, небрежно выплеснутое количество Духа. Такая концентрация, такая плотная, хаотичная мощь, возможно, не была сравнима с энергией Звездного, но при этом на десять голов превосходила все остальное, что я видел.
Это явно была работа Мага. Сильного. И точно не дружелюбного. Этот «фейерверк» был меткой. Сигналом. Или предупреждением.
– Маша, – хрипло, почти беззвучно сказал я, разжимая пальцы и отпуская ее руку, – отойди. К своим. Сейчас.
Она посмотрела на меня, еще сияющая от танца, с искорками в глазах, и ее улыбка сползла, уступая место глухому недоумению и нарастающей тревоге.
– Саш? Что такое? Испугался? Да это же просто…
– Нет, – перебил я, и мой голос прозвучал чужим, глухим. – Отойди. Сейчас же.
Объяснять, показывать пальцем в небо, говорить о клубящейся энергии – на это уже не было времени.
С краев площади, из темноты переулков и с главной улицы, стали появляться фигуры. Они выходили без спешки, ровным, отлаженным строем, по двое-трое с каждой стороны, не торопясь, занимая позиции.
Они двигались синхронно, заполняя промежутки между домами, между плетнями, пока не сомкнули вокруг празднующей, а теперь притихшей толпы не слишком плотное, с широченными прорехами, но от того не менее угрожающее кольцо.
Их было немного – человек двадцать. Но вид у них был такой, что остатки веселья на площади умерли окончательно и мгновенно, как костер, залитый ушатом ледяной воды из зимней проруби.
Красные мундиры. Четкого, почти щегольского военного кроя, с рядами медных пуговиц, блестевших в свете факелов. На груди у каждого – вышитый золотой нитью свирепый медведь, вставший на дыбы.
Те самые мундиры, что я видел на городских, которые рыскали по лесу в поисках Звездного. Только те были в более походных, потрепанных вариантах. Эти же были парадными, чистыми, отглаженными, и от всей этой двадцатки веяло не просто службой, а холодной, не терпящей ни малейшего возражения силой.
Триста деревенских душ против двадцати городских бойцов. Но цифры не имели ровно никакого значения.
По площади прокатился не крик, а низкий испуганный гул, похожий на стон раненого зверя. Люди инстинктивно сбились в более плотную кучу, оттесняя детей и женщин в самый центр, к главному столу. Веселье испарилось.
Староста Евгений Васильевич медленно, с видимым усилием поднялся с места за главным столом. Его лицо было землисто-бледным, но он собрал все свое достоинство, весь авторитет. Откашлялся, сделал шаг вперед, к ближайшему краю кольца из красных мундиров, и поднял руку в умиротворяющем жесте.
– Господа! Добро пожаловать на наш скромный праздник! – его голос дрогнул на первой фразе, но потом окреп. – Чем обязаны такой… неожиданной чести? Может, присоединитесь, выпьете за здоровье нашей молодежи, за…
Он не договорил. Его голос был заглушен другим звуком.
Федя вскочил со своего места так резко, с таким бешеным усилием, что стул, на котором он сидел, с грохотом опрокинулся, ударившись о доски настила. Все взгляды, включая ошарашенного старосты, метнулись к нему.
Его лицо, которое я всего час назад видел спокойным, почти отрешенным, теперь пылало нездоровым возбуждением. Щеки покрылись красными пятнами, глаза горели как угли.
Но не страхом. Нет. В них читался чистый, незамутненный триумф. Злой, мелкий триумф обиженного ребенка, который наконец-то может отомстить.
Он вытянул руку, и его указательный палец ткнул в воздух, сквозь толпу с испуганными лицами находя меня там, где я стоял, оторванный от Маши, почти один на открытом, хорошо освещенном пространстве.
– ВОТ ОН! – завопил Федя, и его сорванный, визгливый, полный ненависти и торжества голос резанул по мертвой тишине, как нож по стеклу. – Это он! Сашка! Подбросыш! Он всем врал! Он получил силу от той звезды, что упала! Он ее нашел в лесу первым! Он ее спрятал! Я все знаю! Я видел, как он тайком в лес бегал! У него сила не от Митрия, а оттуда! От звездного чудовища! Взять его!
Слова Феди повисли в воздухе, острые и ядовитые. И в мой мозг, еще секунду назад отупелый от танца и глупого счастья, вонзилось холодное понимание.
Ваня. Конечно же Ваня. Внук старосты, который с позором сбежал в город после нашей драки в Дубовой Роще. Федя связался с ним. Нашел способ: через кого-то из возчиков, через странствующего торговца, черт знает как.
Передал весточку. Рассказал о моей внезапной силе, о том, что я исчез и вернулся другим. И Ваня, такой же злой, мстительный, с таким же уязвленным самолюбием, передал информацию красным мундирам.
Федя не просто сидел спокойно. Он ждал. Терпеливо ждал этого самого момента, когда сможет выдать меня перед всеми, получить свою награду от сильных мира сего.
Подлец. Маленький, трусливый, мерзкий подлец, готовый сжечь все вокруг, лишь бы ему досталось хоть немного тепла от этого огня. Не верилось, что он был настолько тупым, чтобы не понять: схватив меня, мундиры не остановятся.
Я видел, как по толпе деревенских, замерших в кольце красных мундиров, прошла волна, видимая почти физически. Головы повернулись ко мне, десятки пар глаз уставились в мою сторону.
В них мелькало разное: сначала шок от самого факта доноса, от этого громкого публичного обвинения, потом быстрое, лихорадочное переваривание брошенных слов – «сила после звезды», «украл», «бегал в лес»…
Зависть. Да, конечно, зависть к тому, что у чучела оказался такой шанс, такой клад. Алчность – смутные мысли о том, что он, наверное, нашел сокровище, артефакт, и теперь это можно у него отнять. И у некоторых, очень немногих, – быстрая искорка жалости, которую я видел в широко раскрытых глазах Маши, стоявшей в толпе рядом со своими родителями.
Но и та искорка тут же гасилась всеобщим плотным, удушающим страхом. Страхом перед этими двадцатью неподвижными фигурами в красном, перед их холодной, безличной силой.
Фая встала быстро, резко. Ледяное спокойствие, которое она держала весь вечер, разбилось, как тонкое стекло, ударившееся о камень. На ее лице отчетливо читался не просто гнев, а чистое отвращение.
Она даже не взглянула на городских, на меня. Вся ярость была для одного человека. Она взмахнула рукой. Не для сложной техники Духа, а просто со всей силой, на которую была способна, дотянулась над головой дяди Севы до брата. Ее открытая ладонь со всего размаху, с хрустящим звуком, врезалась Феде в щеку.
Звук был хлестким, влажным, отчетливым. Голова Феди дернулась в сторону, тело, потеряв равновесие, откинулось назад. Он рухнул на землю рядом с настилом, задев и опрокинув стоявший на краю глиняный кувшин с квасом.
Тот со звонким грохотом разбился, облив Федю и землю темной, пахнущей хлебом жидкостью. Он лежал, потирая покрасневшую щеку, смотря на сестру снизу вверх с немым, идиотским удивлением.
Но на эту семейную драму уже никто не обращал внимания. Все взгляды были прикованы к солдатам и ко мне.
Из кольца красных мундиров отделилась одна фигура и неспешным, уверенным шагом направилась к центру площади. Он шел мимо замерших деревенских, и те инстинктивно, молча расступались, образуя узкий, прямой коридор.
Это был тот самый человек, что допрашивал меня ранним утром в нашей избе. Топтыгин. Его лицо с тонкими бесцветными губами и глубоко посаженными глазами было обращено ко мне.
Он прошел мимо главного стола, не удостоив взглядом ни бледного, потерянного старосту, ни тетю Катю, вцепившуюся в стол пальцами, ни валяющегося в луже кваса Федю.
Остановился в десяти шагах от меня.
– Местоположение, – произнес он. Голос был ровным, без эмоций. – Человека, который упал в огненном шаре. Где он?
Вокруг снова прошел гул, на этот раз испуганным шепотом.
– Человек? В звезде? О чем он?
– Так это был не метеор? Не просто камень с неба?
– Он живого человека прятал? Да как же…
– Тише ты, слышишь – спрашивает!
Для них это была новая, пугающая, не укладывающаяся в голове информация. Для меня – лишь окончательное подтверждение худших опасений.
Они знали. Они не просто искали артефакт или следы падения. Они знали про Звездного.
Значит, их интерес, их охота была в тысячу раз серьезнее, опаснее. И Федя своим истеричным доносом подписал нам обоим, мне и Звездному, смертный приговор.
Если они найдут его в Берлоге, слабого, почти беспомощного… Мне стало физически дурно.
Паника, холодная и тошнотворная, как комок колючего льда, попыталась сжать горло, подступить к глазам. Я проглотил ее, сжал челюсти, заставив дыхание выровняться. Голос, когда я заговорил, прозвучал ровнее, чем ожидал, почти бесстрастно.
– Ничего не знаю. Никакого человека не видел. Звезда упала, полыхнула и сгорела. Я только огонь видел, больше ничего.
Он не моргнул. Не изменился в лице. Казалось, он даже не услышал моих слов.
– Лжешь, – констатировал он просто, как факт. – Очевидно.
Небольшая пауза.
– Я предупреждал тебя в твоем доме. За ложь, за укрывательство врага Империи, будет наказан не только лжец.
Его холодный взгляд скользнул с моего лица, медленно прошелся по толпе, заставляя людей съеживаться, и остановился на главном столе. На тете Кате. Ее лицо было белым как мел, губы беззвучно шевелились.
Он поднял правую руку. Просто расслабленно вытянул ее перед собой, направив указательный палец в сторону стола.
На кончике пальца воздух задрожал, заискрился, зашипел, будто раскаляясь. За долю секунды там сформировался и сгустился маленький, не больше грецкого ореха шар из рыжего, сжимающегося пламени.
Он не пылал открытым огнем, а скорее светился изнутри, излучая волну такого концентрированного жара, что я почувствовал его даже на расстоянии десяти шагов – кожей лица.
Пальцем он не шевельнул. Просто… отпустил.
Огненный шар сорвался с кончика его пальца и помчался по прямой к столу оставляя за собой дрожащий, искаженный жаром воздух и тонкий противный треск.
– Нет! – успел выдохнуть я.
Рванулся вперед, уже понимая, что не успею, не смогу, что между нами – толпа и расстояние. Мое тело напряглось, но застыло в этом беспомощном рывке.
Тетя Катя замерла, увидев летящую на нее смерть. Ее глаза округлились, губы разомкнулись в беззвучном крике.
Дядя Сева, сидевший рядом, среагировал на уровне животного, слепого инстинкта. Он явно не думал, не рассчитывал. Просто рванулся вперед, толкая ее корявым, неуклюжим движением в сторону от траектории.
Шар не попал ей в голову или грудь, как, вероятно, изначально планировалось. Он врезался ей в левое плечо, в то самое место, где начиналась рука.
Раздался негромкий, чавкающий звук, как от удара раскаленным докрасна железом по мокрому мясу. Пламя будто вжалось в ткань праздничного платья, прожигая ее мгновенно, и углубилось в плоть.
Тетя Катя издала звук, которого я от нее никогда не слышал: высокий, пронзительный, полный нечеловеческой, животной агонии. Ее тело дернулось, как у подстреленной птицы, она свалилась со скамьи на землю, хватаясь за обожженное, дымящееся плечо здоровой рукой, не в силах даже дотронуться до чудовищной раны.
Кольцо красных мундиров стояло неподвижно, как стена. Ни один мускул не дрогнул на их лицах. Для них это было просто демонстрацией. Предупредительным, «мягким» выстрелом. Рутинной операцией по оказанию давления.
Топтыгин, не опуская руки, снова перевел свой каменный взгляд на меня. В его глазах не было ни злорадства, ни удовлетворения. Только холодный, деловой интерес.
– Следующий шар, – сказал он тем же ровным, бесцветным тоном, – не промахнется. Или ты перестанешь лгать. Сейчас.
Тиски ледяного ужаса сжали горло, сердце колотилось где-то в висках и в ушах, глухими, тяжелыми ударами заглушая хриплый стон тети Кати, доносившийся из-за стола.
Я смотрел на него, на его поднятую руку, на кончике указательного пальца которой уже начинал мерцать, набирая силу, второй огненный шар.
Его холодные глаза ждали. Ждали моего слова. Ждали моего выбора.
А выбора не было. Вообще.
Сказать правду, выдать Звездного – значило предать единственного человека, который увидел во мне что-то большее, чем рабочую скотину. Обречь его на смерть или на плен, который, я чувствовал, для него хуже смерти.
Солгать или промолчать – подписать смертный приговор тете Кате, дяде Севе, Фае. Возможно, даже остальным деревенским.
Мысль металась, как загнанный в тупик зверь, не находя ни щели, ни выхода. Они вырастили меня за деньги. Использовали как скотину. Ругали, били, унижали.
Но… они были единственной семьей, что я знал. Кровом. Едой. Пусть и скудной. Они не заперли меня, не выгнали на улицу.
Звездный… он стал первым моим настоящим другом. Первым и единственным учителем.
Разорваться пополам было бы легче. По крайней мере, это был бы конец.
Но в этот миг в моей голове, прямо посреди этого клокочущего хаоса страха, боли и отчаяния, прозвучал голос. Не снаружи, не через уши – его не слышал никто вокруг.
Он возник внутри черепа – ясный, твердый и знакомый до мурашек по коже. Голос Звездного. Но лишенный привычной надменности, грубости, даже усталости.
«Не шевелись. Не меняй выражения лица. Слушай».
Я едва не подскочил, не дернулся от неожиданности. Но выученное годами скрытности, привычкой прятать настоящие эмоции тело среагировало раньше сознания.
Я остался неподвижен, лишь глаза, наверное, чуть расширились, но это можно было списать на страх. Постарался дышать так же, как дышал мгновение назад, – часто, прерывисто, через приоткрытый рот. Пот стекал по вискам.
'Что бы ты сейчас ни сказал им, – продолжал голос в голове, ровный и безжалостный, как счет, – тебя в итоге убьют. Контакт со мной – это смертный приговор для любого в их глазах. Живую улику устраняют. Всегда. Это аксиома. Твоих… так называемых родных, – в голосе на миг, мелькнула едва уловимая, острая искра, кажется, презрения к этому слову, – скорее всего, ждет пожизненное заключение.
Я видел, как палец городского дрогнул, рыжий шар на его кончике стал ярче, гуще, в его ядре заплясала искра. Времени на раздумья не было. Совсем.
«Но у тебя есть шанс их спасти. Очень маленький. Призрачный. Слушай внимательно. Тот ублюдок в красном, что стоит перед тобой и корчит из себя грозу, – не главная проблема. Он пешка. Их главный, тот, кто отдал приказ, висит сейчас в небе прямо над деревней. Он наблюдает. И он, как и все они, до дрожи в коленях боится меня. Боится настолько, что послал вперед этот расходный материал, чтобы выяснить наверняка: жив ли я, и если жив, то где и в каком состоянии. Чтобы спасти этих людей, твою деревню, себя и в конечном итоге меня, ты должен вести себя только одним способом. Ты должен сломаться. Публично. Сейчас. Ты должен показать, что испугался. Ты должен согласиться меня выдать. Сопротивляйся немного для вида, потом сдайся. Приведи их всех к Берлоге. Всю эту красную мразь и, если тебе хватит наглости или глупости, постарайся выманить того, что наверху. Приведи их всех ко мне. – В его тоне, всегда таком надменном, саркастичном или усталом, прозвучала непоколебимая уверенность. – И я с ними разберусь. А потом придумаем, как разрешить эту ситуацию. Это единственный путь. Для тебя. И для них. Третьего нет. Решай. Сейчас. У тебя есть три секунды, прежде чем он выпустит следующий шар».








