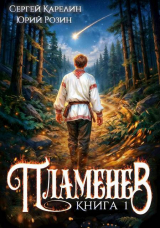
Текст книги "Пламенев. Дилогия (СИ)"
Автор книги: Сергей Карелин
Соавторы: Юрий Розин
Жанры:
Уся
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 29 страниц)
Глава 19
Не было неторопливого разгона и демонстрации силы. Было движение, выверенное до миллиметра.
Вся сила, накопленная за недели поедания Зверей и бесконечной практики. Вся плотность Духа, пульсирующая в жилах. Вся холодная решимость, созревшая в тот самый миг, когда я увидел его ухмылку облегчения за спиной поверженной сестры.
Все это сконцентрировалось, сжалось в пружину и высвободилось в одном коротком, резком ударе правой рукой. Кулак, несущий в себе всю тяжесть моего нового тела и всю волю, врезался ему прямо в переносицу.
Раздался сочный, отвратительный хруст ломающегося хряща и, возможно, тонкой кости. Голову Феди отбросило назад с пугающей скоростью.
Его тело, потерявшее связь с землей, описало короткую нелепую дугу и рухнуло на спину с мягким стуком в трех метрах от меня. Он не застонал, не дернулся, не попытался встать. Просто лежал, раскинув руки, как тряпичная кукла.
Из расплющенного носа почти торжественно поползла густая, практически черная в вечерних сумерках кровь. Она заливала его рот, подбородок, капала на пыльную землю плаца.
* * *
Я вернулся домой, когда на деревню уже начали спускаться синие сумерки. В окнах нашей избы желто светились квадраты, а из трубы поднимался ровный, жирный столб дыма. Тетя Катя готовила ужин.
Толкнул калитку, и она слабо звякнула. Во дворе пахло дымом, остывшей землей и чем-то кисловатым из открытого погреба.
Вошел в сени, где уже стояла вечерняя прохлада, перед этим сполоснув лицо у колодца недалеко от дома и смыв липкую пыль. Со стопки у двери сгреб грубое полотенце, вытер им лицо, потом долго и тщательно тер руки, будто счищая с них не только грязь. Потом глубоко вдохнул и открыл тяжелую дверь в горницу.
Тепло и запах тушеной капусты с салом ударили мне навстречу. Тетя Катя стояла у печи, спиной ко мне, и мешала большой деревянной ложкой что-то в чугунке. Скрип двери заставил ее обернуться.
На ее лице, освещенном прыгающим светом лучины, промелькнуло сразу несколько выражений. Остатки дневной растерянности, мгновенная привычная раздраженность и что-то новое – настороженное и выжидательное. Она молча смерила меня взглядом с ног до головы.
– Пришел, – бросила наконец, поворачиваясь обратно к печи. Голос был ровным, без обычной едкой ноты. – Ужин скоро. Садись.
Я кивнул, хотя она этого не видела, и прошел к столу. Моя табуретка стояла на своем месте, у самого края, возле печки. Я сел, сложил руки перед собой на грубой столешнице.
Тишина в горнице была густой, почти физической. Ее нарушало только негромкое потрескивание березовых поленьев за заслонкой, да булькающее, равномерное шуршание варева в котелке.
Я смотрел на сгорбленную спину тети, на знакомый платок и понимал, что тишину эту нужно разбить. Иначе она начнет давить, обрастет невысказанными вопросами, и к утру мы снова окажемся по разные стороны баррикады.
– Я побил Федю сегодня, – сказал ровно, без вызова или хвастовства.
Ложка в ее руке замерла на секунду, потом снова задвигалась, но движения стали медленнее, тяжелее.
– Он с самого детства меня изводил. Шпынял по поводу и без. Но когда он начал заниматься у Митрия, а я стал работать по участку, мы перестали часто пересекаться и все как-то улеглось. А этим летом он придумал, что я должен их с Фаей будить, готовить им завтрак, собирать их в школу. Я был против, но ты моего мнения никогда не спрашивала. – Она вздрогнула. – В тот день, когда упала звезда, я вспылил и ударил в ответ. Его это так взбесило, что он оттащил меня в лес и повесил на суку. Но я вернулся целым. Тогда он подстерег меня в подворотне, но на этот раз был бит уже мной. Потом был этот Ваня. Ему я просто не понравился, и он напал на меня, а потом пришел мириться, чтобы получить возможность вытащить меня из деревни. Федю он, скорее всего, посвятил в свой план, а тот был только рад возможности отыграться на мне за проигрыш. Мы с Ваней подрались. Я победил. Но потом Федя вырубил меня ударом по затылку. Вместе они меня и избили тогда, в Дубовой Роще. Федя просто рад был примазаться к силе. Пинать того, кто не может ответить. Но Ваня сейчас в городе. А Федя – здесь.
Я сделал паузу, давая ей переварить слова. Звук ложки о чугун стал резче.
– Сегодня Фая вышла за него заступаться, – сказал тише. – Она уже достигла Духовных Вен. Федя думал, что она его защитит. Потом, когда она проиграла и извинилась передо мной от его имени, он, должно быть, подумал, что я не стану доводить дело до конца. Но он ошибся и в том, и в другом.
Тетя Катя резко обернулась. Чугунок звякнул о край печи. В ее широко раскрытых глазах горели уже не гнев и не страх, а жгучее, ненасытное любопытство и какая-то жадность, которую я раньше в ней не замечал. Она забыла про ужин, про ложку в руке.
– Духовные Вены? Фая? Да как же… это же… – Она задохнулась, и на ее щеках проступили красные пятна восторга. Но взгляд тут же впился в меня, стал жестким, требовательным. – А ты? Как ты, Сашка? Как ты смог? Ты же… ты ни на какие занятия не ходил! Ты ничего не умел! Кто тебя научил? Как ты так быстро?
Она сделала шаг ко мне, вопросы посыпались, как град с неба.
– Я же видела, как ты раньше мыкался! Сидел на крыше, мечтал! А теперь – Федю побил, Фаю… с Духовными Венами! Говори! Или тебе звезда эта, что с неба упала, что-то дала? Артефакт какой?
Я посмотрел на ее возбужденное лицо, на дрожащие руки и медленно покачал головой.
– Не могу сказать, тетя Катя.
– Что значит не можешь? – ее голос снова стал жестким, визгливым, вернувшись к знакомой тональности. Она топнула ногой. – Я же твоя… я же тебя вырастила! Я имею право знать! Может, ты что украл? Или нашел какую-то штуку запретную? Одумайся, паршивец, это же опасно! Скажи, я хоть знать буду!
– Не могу сказать, – повторил я, и в голосе впервые за этот вечер прозвучала непреклонность.
Она открыла рот, губы уже сложились в привычную кричащую гримасу, глаза сузились. Видимо, собиралась прикрикнуть, припугнуть, пригрозить розгами или лишением ужина, как делала всегда, когда я выходил за рамки.
Но ее взгляд встретился с моим. Я сидел все так же спокойно – не съежившись, не опустив глаз. Не просил, не оправдывался. Просто смотрел. И в этой тишине, под этим взглядом что-то в ней надломилось.
Гнев схлынул, сменившись растерянностью, а затем холодным, неприятным осознанием. Я смотрел на нее не как сын на мать, и даже не как работник на хозяйку. А как равный. Как тот, у кого есть своя воля, свои тайны и свои границы, которые он готов охранять.
Она замерла с открытым ртом, потом губы ее сжались в тонкую, белую ниточку. В горнице повисло тяжелое молчание, которое теперь давило уже не на меня одного.
Потом она резко фыркнула, с силой развернулась к печи, сгребла чугунок и с глухим грохотом поставила его на стол, прямо передо мной.
– Как знаешь, – ее голос был хриплым, в нем не осталось ни любопытства, ни злости, только усталая обида и какое-то отстранение. – Только смотри, чтобы эти тайны тебе не аукнулись. Ешь. Пока не остыло.
Она больше не спрашивала. Села на свою лавку напротив, уставилась в стол, сложив руки на коленях.
Я не стал ждать и налил себе в миску густой похлебки. Мы ели молча. Звук ложек о глиняную посуду казался невероятно громким.
Вскоре на крыльце заскрипели ступеньки, и в сенях послышались приглушенные голоса. Дверь открылась, и первым вошел Федя.
Вошел сгорбившись, будто нес на спине невидимый мешок. Его лицо было страшным. Нос распух и посинел до черноты, под глазами наливались жирные фиолетовые мешки, рассеченная губа запеклась коркой.
Он не поднял глаз, не посмотрел ни на меня, ни на мать. Прошел, шаркая ногами, к дальней лавке и уткнулся лбом в стол, спрятав лицо в согнутых руках.
За ним тихо и осторожно, словно ступая по тонкому льду, вошла Фая. Она была бледной как мел, но держалась прямо, чуть приподняв подбородок.
На ее запястьях проступали четкие красные полосы – отпечатки моих пальцев. Она остановилась у порога, ее взгляд скользнул по мне, быстрый и нечитаемый, и устремился куда-то в угол.
Тетя Катя резко встала, отодвинув лавку с визгливым скрипом.
– Вот так-то! Полюбуйся на себя! – ее голос снова зазвенел, но теперь это была ярость, лишенная былого любопытства, чистая и простая. – Доигрался? Издевался над тем, кто слабее, а теперь сам получил по заслугам! Мог бы и челюсть сломать, и благодари бога, что отделался только носом! Не будет ужина тебе сегодня, понял? Ни крошки! Ступай в сени и на холодной лавке сиди! И чтобы духу твоего тут не было!
Федя не попытался возразить. Он просто медленно поднялся, все так же не глядя ни на кого, и понуро поплелся обратно в сени. Дверь закрылась за ним с мягким щелчком.
Потом тетя Катя повернулась к Фае. И ее лицо преобразилось с такой скоростью, что у меня внутри что-то екнуло. Гнев испарился без следа, на нем расцвела бурная, почти болезненная гордость. Глаза заблестели новым, восторженным светом.
– Фаечка! Родная моя! Духовные Вены! – она почти вскрикнула, бросилась к дочери и схватила ее за руки, сжимая так, что костяшки пальцев побелели. – Да как же ты, молодец какая! Неужели правда? Это же… это же уровень настоящего мастера! В деревне такой, кроме сотника Митрия, и не сыщешь! Почему молчала? Ах ты, хитрая! Мы тебя в город определим! В настоящую академию! Мы все деньги, какие есть, соберем! Надо праздновать! Завтра же мясо куплю, гостей созову, старосту пригласим! Всем расскажу!
Фая стояла, как деревянная. Ее лицо было непроницаемым, каменным. Лишь легкая, почти невидимая судорога пробежала по скуле, когда тетя Катя потрясла ее за руки.
Она не вырывалась, но и не обнимала мать в ответ. Руки ее висели плетьми. Остраненный, взгляд был устремлен куда-то в стену за моей спиной, кажется, в ту точку, где треснуло бревно и ползла темная щель.
Я наблюдал за этим со стороны и все понял. Она не хотела, чтобы об этом узнали. Пыталась скрыть свое достижение.
Возможно, боялась лишнего внимания, новых ожиданий. Или обязательств, которые на нее тут же навесят. Или просто хотела выбрать свой путь сама, без этой шумной, удушающей материнской гордости.
А теперь все вскрылось, причем самым неудобным образом. Пути назад не было. Ей придется идти по той дороге, которую для нее уже пролагают другие, в город, в академию, в мир Магов, где ей, с ее холодным расчетливым умом и честолюбием, наверное, и место.
Но выбор этот у нее отняли. Вырвали из рук и растоптали во взрыве материнского восторга. И ей это не нравилось. Совсем. В ее каменном лице и пустом взгляде читалась тихая, ледяная ярость.
* * *
Прошло еще несколько дней. Утро начиналось с привычного теперь ритуала. Я просыпался еще затемно, когда за окном только начинали бледнеть звезды.
Сознание возвращалось сразу, без той тягучей сонливости, что была раньше. Я вставал, тихо одевался, чтобы не разбудить других, и выходил во двор.
Воздух пах сырой землей и дымом из остывших за ночь труб. Я отходил к дальнему забору – туда, где стояла поленница, – и принимал первую позу.
Потом плавно перетекал во вторую, в третью. Мышцы растягивались, суставы мягко щелкали. Дыхание выравнивалось, становилось глубоким и медленным. Дух внутри отзывался ровным глубоким теплом – не жаром, а именно теплом, как от гладкого, нагретого за день камня, положенного под рубаху на живот.
За один цикл из пятнадцати поз, от первой до первой, тело полностью просыпалось, кровь начинала бежать быстрее, а в голове прояснялось. Я делал три цикла подряд, потом останавливался, делал несколько обычных вдохов и выдохов, слушая, как просыпается деревня. Где-то хлопнула калитка, залаяла собака, с дальнего края донесся скрип колодезного журавля.
Потом был завтрак. Мы собирались на кухне – я, Фая и Федя. Тетя Катя ставила на стол горшки, резала черный хлеб.
Ели молча. Слышался только стук ложек о миски, да чавканье Феди. Фая сидела сгорбившись и методично, не глядя по сторонам, отправляла в рот ложку за ложкой. Она смотрела прямо перед собой, в стену, и ее лицо было пустым, как вымытая тарелка.
Федя, напротив, постоянно метался взглядом. Он пялился на меня исподлобья тяжело, ненавидяще, сканируя лицо, руки, плечи.
Но стоило мне поднять глаза и встретиться с ним взглядом, он тут же шмыгал носом, сосредотачивался на своей миске и начинал яростно ковырять в каше ложкой, будто выискивая там что-то. Его лицо все еще было похоже на синюю картофелину, хотя основной отек и спал. В отличие от меня, Духовные Маги, по крайней мере без особых техник, заметно быстрее не исцелялись.
Тетя Катя раздавала задания, стоя у печи и попивая горячий взвар из кружки.
– Картошку на северном краю окучить, – говорила она коротко, глядя на меня. Голос был ровным, деловым. – Все ряды. Потом грядку от капусты подготовить к новой посадке, закидать навозом. Забор у курятника посмотри. Там две жерди снизу подгнили, их сменить надо. Ну и всякого по мелочи, ты знаешь.
Она не добавляла ни «чучело», ни «паршивец», ни «смотри, чтобы к вечеру было сделано». Она просто говорила, что нужно сделать, и я кивал.
– Понял.
И шел в огород. После безумных, изматывающих спаррингов с костяной марионеткой Звездного, где каждый неверный шаг, каждый срыв ритма означал сбитое дыхание и синяк размером с яблоко, простая работа руками казалась медитацией. Почти отдыхом.
Я брал вилы – тяжелые, с туго насаженными на древко черными зубьями. Вонзал их в рыхлую, темную землю у корней картофельной ботвы, нажимал ногой, чувствуя, как железо с мягким хрустом разрезает пласт. Переворачивал.
Ком земли, переплетенный белыми жилистыми корнями, пах сыростью и чем-то терпким. Потом тяпка. Деревянная рукоять, привыкшая к ладоням, затертая до гладкости. Резкий, точный взмах – и сорняк срезан под самую кочерыжку. Четко. Под корень. Пучки лебеды и мокрицы летели в сторону, на межу.
Потом грядки. Я таскал воду из колодца на коромысле, в деревянном коробе носил из компостной кучи перегной и навоз. Я нес это все легко, почти не чувствуя веса – только ритмичное покачивание.
Проливал землю, рыхлил, смешивал с удобрениями. Земля жадно впитывала, тихо шипя.
Тело работало само, без суеты, без мыслительного усилия. Каждая мышца знала свое дело, движения были выверенными, экономичными. В этом был свой покой, которого мне так не хватало раньше. Я даже ловил себя на мысли, что мне это нравится.
Не как рабская повинность, от которой тошнит, а именно как работа – честная, простая, с ощутимым результатом. Вот здесь была грядка, заросшая травой. А теперь она чистая, темная, политая. Дело сделано. И ты видишь это.
Может быть, когда-нибудь у меня будет свой огород?
Тетю Катю за эти дни словно подменили. Она не лезла с расспросами. Не пыталась выведать мои секреты за едой. Она просто была.
Иногда, когда, закончив задание вдвое быстрее обычного срока, шел к колодцу умыться, я чувствовал на себе ее взгляд из окна горницы. Взгляд был сложный. Там была и настороженность, как к незнакомому зверю, и какое-то новое, незнакомое мне уважение (или его подобие), и названная мной тогда вина, которая выглядывала робко, будто стыдясь себя.
Мы достигли молчаливого перемирия. Я делал то, о чем просили, и делал хорошо. Она оставляла меня в покое. После обеда она просто отодвигала свою тарелку и кивала в мою сторону: «Свободен».
И я уходил. Не в лес к Берлоге, а чаще – на задворки огорода, где за сараем росла старая, кривая яблоня. Там, в ее тени, я снова погружался в практику.
Цикл за циклом. Дух гудел внутри, отзываясь на каждое движение, становясь все более послушным, все более «моим». Это уже был не просто теплый камень в животе – он был частью дыхания, частью растяжки мышц, частью самого ритма.
Федя был похож на затравленного волчонка. Тетя Катя, видимо, решив проучить окончательно, нагрузила его работой по дому и участку, приказав возвращаться сразу после занятий у сотника, не задерживаясь на дополнительные отработки.
Он рубил дрова за домом, я слышал нервные удары топора – частые, не в ритм. Он таскал воду для бани и для скотины. Два ведра в руках, с которыми он ковылял, расплескивая, а лицо было красным от натуги и злости. Он чистил загон для кронтов, и оттуда доносилось его сердитое бормотание и визг маленьких зверьков.
Все то, что раньше было моей неизменной обузой. Он делал это грубо, неохотно, с постоянным ворчанием под нос. А когда наши пути пересекались – у колодца, у сарая, на узкой тропинке между грядками, – он бросал на меня взгляд, полный такой немой, кипящей злобы, что казалось, вот-вот лопнут белки его глаз.
Но не подходил. Не пытался задеть словом, не ставил подножку. Он просто замирал, сжимался, и в его взгляде поверх ненависти читался отчетливый животный страх.
Страх был сильнее. Это было видно по тому, как он резко отшатывался, если я неожиданно поворачивался в его сторону, и по тому, как он никогда, ни на секунду, не поворачивался ко мне спиной, всегда держа меня в поле зрения краем глаза.
А в деревне тем временем кипела другая жизнь – праздничная, суетливая, шумная. Новость о том, что Фая, дочь Кати и Севы, достигла Духовных Вен в неполные шестнадцать, облетела все дома, все околицы быстрее, чем весенний паводок заливал низины у реки.
Я слышал обрывки разговоров у общего колодца на площади, куда ходил за водой раз в день.
– Слыхал про Фаю-то Севину? Вены, говорят, открыла!
– Да брось, не может быть! Девка молодая еще!
– Сам Митрий подтвердил! На плацу она с тем… с Сашкой-то дралась, так Дух с кулаков, как туман, шел! Видали!
– Ну надо же… Талантище! Честь нашей деревне, ей-богу!
– Староста Евгений Васильевич, слышь, уже письмо в город готовит, в академию. Говорит, такую без экзаменов возьмут, только его поручительства достаточно.
Оказалось, достичь Вен до семнадцати – это не просто хорошо. Это была громкая заявка даже для города, где маги копошились, как муравьи.
Для нашей глухой, затерянной у леса деревни это было событие из разряда невероятных. Чудо. Как если бы из нашего старого, иловатого колодца вдруг забил источник сладкого вина.
Тетя Катя, подхваченная этой волной всеобщего восторга и поддержанная старостой Евгением Васильевичем (который, видимо, видел в этом средство повышение своего авторитета) и даже, как я понял по оброненным фразам, самим сотником Митрием (хотя он, кажется, просто радовался за талантливую ученицу), затеяла праздник.
Не просто ужин в доме, а настоящий пир на всю деревню. На главной площади, прямо у дома старосты.
Глава 20
Готовились четыре дня. Женщины, сбившись в кучи у общих печей во дворе старосты, пекли хлеб – сдобный, на белой муке, которую специально привезли. Пироги – с рыбой, с капустой, с лесными ягодами, собранными детьми.
Мужчины, покряхтывая и перешучиваясь, сколотили из свежих досок длинные, грубые, но крепкие столы. Ребятишки таскали скамьи и лавки со всей округи – из дома собраний, из школы, отовсюду где было можно их взять.
Запахи поползли над деревней уже с раннего утра праздничного дня. Дым от березовых дров, на которых жарили туши двух откормленных боровов. Сладковатый аромат жарящихся овощей. Тяжелый, пьянящий запах дрожжевого теста.
Они смешивались с привычными запахами навоза и пыли, но от этого не становились хуже, скорее, наоборот, как-то мягче, роднее.
К вечеру на площади уже стояли, сдвинутые широкой буквой «П», три огромных стола, накрытых самыми лучшими, хоть и потертыми скатертями. На них красовались ряды тарелок с едой. Куски тех двух боровов, разваленные по тарелкам, покрытые румяной корочкой; миски с дымящейся картошкой и тушеной капустой; лотки с пирогами.
Глиняные кувшины с квасом, деревянные жбаны с медовухой и даже несколько темных, запыленных бутылок настоящего городского вина, которое дядя Сева припас для самого особого случая и теперь торжественно расставлял на почетном конце стола.
Собиралась почти вся деревня. Старики и старухи, которых в обычные дни редко видели дальше их палисадников, ковыляли к площади, опираясь на палки и на плечи внуков. Женщины в праздничных, ярких платках. Мужики в чистых, хоть и поношенных рубахах. Ребятня носилась между ног взрослых, визжа от предвкушения.
Это был не просто ужин. Это было заявление всей деревни – миру, лесу, соседям, а может, и самим себе, мол, смотрите, у нас не только землю пахать да от Зверей отбиваться умеют. У нас растут свои звезды. Будущее есть.
А та самая звезда, Фая, должна была появиться позже всех, как и полагается главной виновнице. Я слышал, как две соседки, проходя мимо нашего забора, переговаривались:
– Катька-то всю ночь сидела, новое платье ей шила! Из той самой ткани, что Сева из города прошлой осенью привез, с цветочками.
– Видала я Фаю с утра – вышла воду почерпнуть. Лицо белое как смерть, грустное. Не рада, видать, всей этой суете.
– Да что ты! Чего же не радоваться-то? Почет, уважение! В город дорога открыта!
– Не знаю… Не по-детски что-то она глядит. Словно не ее это все празднуют.
Площадь гудела, как гигантский потревоженный улей. Люди толпились вокруг длинных столов, смеялись слишком громко, переговаривались через три лавки, звенели глиняными кружками, чокаясь. Общий гул то тут, то там прорезали мужские басы и детский визг.
Я сидел на самом краю одного из боковых столов спиной к старому, кривому плетню, откуда мог видеть почти всю площадь и главный стол, и толпу, и проходы между домами. Я сам попросил тетю Катю усадить меня здесь, подальше от центра, когда мы только вышли из дому.
«Сяду где-нибудь с краю, – сказал я, глядя ей прямо в глаза. – Мне так… удобнее».
Она на мгновение задержала на мне взгляд, в котором мелькнуло привычное раздражение, но тут же погасло. И она лишь резко кивнула, чуть сдвинув брови.
«Как знаешь. Только смотри, веди себя прилично. Не позорь».
И все. Ни вопросов, ни упреков. Еще одно маленькое подтверждение нашего молчаливого договора. Я не лезу в ее праздник, она не лезет в мои дела.
Главный стол стоял на небольшом деревянном настиле, на пару бревен выше земли. Тетя Катя сидела там, выпрямившись так, будто у нее вместо позвоночника был вставлен дубовый кол.
На ней было ее единственное праздничное платье. Синее, с выцветшим до блекло-голубого цветочным узором по подолу и манжетам. Ее лицо сияло смесью неподдельной гордости и жадного торжества.
Она принимала поздравления, одобрительно кивала, иногда изображала скромную, сдержанную улыбку, но глаза ее метались, считывая, оценивая каждого подходящего. Кто как поклонился, кто что принес, кто просто языком молол, а кто говорил дело.
Дядя Сева, сидевший рядом с ней, мирно попивал из своей личной деревянной чаши что-то явно покрепче кваса – то ли медовуху, то ли то самое вино. Он изредка бурчал что-то вроде «ага» или «спасибо» в ответ на похвалы, но большей частью просто жевал, уставившись в свою тарелку, явно чувствуя себя неуютно – как рыба, выброшенная на берег этого всеобщего ликования.
А в центре внимания, в самом пекле праздничного ада, была Фая. Ее посадили между родителями, как драгоценную икону.
На ней действительно было новое платье – из серой, плотной городской ткани, без единого украшения, с высоким воротником и длинными рукавами. Платье было простым, даже строгим, но чистота кроя и качество материи показывали, сколько на него было потрачено денег и усилий.
Фая сидела неподвижно, будто вырезанная из серого льда. Ее руки лежали на коленях, плечи были чуть подняты и втянуты в себя.
На ее обычно высокомерном лице не было ни тени радости, ни капли гордости. Только напряженная скованность. Ей явно хотелось сейчас оказаться где угодно, но только не здесь. Каждый новый человек, подходивший к столу с поздравлениями, заставлял ее слегка вздрагивать.
– Поздравляем, Фаечка! Такая умница, такая красавица! – визгливо причитала соседка Агафья, тыкая в сторону Фаи корявыми пальцами и кладя на край стола перед ней завернутый в грубую, небеленую ткань сверток. – Это тебе, родная, отрез ситца из моих запасов! Чтоб в той академии городской вспоминала о нас, о простых-то!
Фая медленно перевела на нее взгляд. Губы ее шевельнулись.
– Спасибо.
Вышло сухо, безжизненно.
– Настоящая надежда нашей деревни! – бухал уже кузнец, подходя и с размаху кладя свою огромную ладонь на плечо дяди Севы. Тот едва не грохнулся лицом в тарелку. – Ты, Сева, держись теперь! Дочь в городе прославит, имя наше на карту поставит! А мы тут под крылышко к ней со временем подтянемся, глядишь!
Дядя Сева только тяжело крякнул, отодвигая кружку, и пробормотал:
– Да уж… поглядим.
Я наблюдал за этим непрерывным потоком лести, подарков и напыщенных речей и одновременно – за тетей Катей.
Она была как паук в центре паутины. Кивала, благодарила, и я видел, как в ее глазах щелкают невидимые счетоводские костяшки. Она потратилась на этот пир – на еду, на вино для старосты и сотника, – чтобы теперь собирать дань и отбить праздник по полной.
Мой взгляд, скользнув по ликующей толпе, наткнулся на Федю, сидевшего рядом с дядей Севой. Он не пытался вставить слово в разговор, вообще никак не показывался. Просто… ел. Спокойно, сосредоточенно. Отрезал аккуратный кусок мяса от окорока, клал на хлеб, откусывал, жевал. Потом запивал квасом, ставил кружку, снова отрезал.
Его движения были лишены обычной резкости. Это было странно. Неправильно. Совсем не похоже на того Федю, которого я видел еще два дня назад – грохотавшего по дому, хлопавшего дверями так, что звенела посуда, и оравшего на мать, что он тоже чего-то стоит, что это несправедливо, что Фая всегда была только его тенью, а теперь ее вознесли на небеса, а его – в грязь.
Где та ярость? Где-то кипение, что било из него, как пар из перегретого котла?
Теперь он сидел, как тихий, послушный щенок, спокойно позволяя себя игнорировать. И это не сходилось. В голове всплыли слова Звездного, брошенные как-то между ударами его костяной марионетки.
«Люди не меняются за день. Их нутро не переворачивается, как блин, без веского повода. Если яростный пес, который всегда рычал и рвался с цепи, вдруг перестал лаять и забился под лавку, ищи одну из двух вещей, либо кость в его зубах, ради которой он готов терпеть, либо перегрызенную цепь».
У Феди не было «кости». Его публично унизили. Сестру, его вечную «младшую», вознесли на пьедестал, о котором он, вероятно, и сам мечтал. Его самого отодвинули в тень, заставили выполнять черную работу.
Он должен был кипеть. Должен был сидеть сейчас, мрачно насупившись, сжимая кружку так, чтобы глина трескалась, бросать злобные, испепеляющие взгляды на меня, на Фаю, на всех. Должен был хоть как-то проявлять свою ярость, пусть даже немую.
Но нет. Только это спокойствие. Методичное жевание. Принятие своего нового места.
Я сильнее прижался спиной к плетню, продолжая наблюдать за ним, но стараясь делать это незаметно, через головы смеющихся, жестикулирующих гостей. Федя поднял свою кружку, отпил медленным, ровным глотком, поставил ее на стол с тихим стуком.
Он даже разок повернулся и перекинулся парой слов с сыном кузнеца, который сидел сбоку, вне главного стола. И на лице Феди, когда тот что-то сказал, мелькнула какая-то тень. Он явно знал что-то, чего не знал больше никто.
Тревога поползла от основания черепа вниз по спине, сжимая мышцы. Я не понимал, в чем дело. Не мог найти причину, ни одной зацепки.
Но эта перемена, это спокойствие – оно было неправильным. Оно нарушало все известные мне правила поведения этого человека. А если что-то нарушает правила – Звездный не уставал это повторять, – значит, ты чего-то не видишь.
Напряжение сжало плечи, заставило спину выпрямиться, ноги инстинктивно уперлись в землю, готовые к толчку. Праздничный гул, смех, звон посуды – все это внезапно стало казаться фальшивым.
Подарки, наконец, перестали подносить. Последний сверток, от семьи рыбаков с дальнего конца деревни, занял место на и без того ломящемся от даров краю стола.
Глиняные кружки и деревянные чаши поднимались снова и снова, звонко стукаясь друг о друга.
– За Фаю! За нашу звездочку! Чтобы в городе не затерялась и славу о родной деревне по всему свету разносила! – гремел кто-то из кузнецовых подмастерий, уже изрядно хмельной.
– За академию! – подхватил другой. – Чтобы училась прилежно, и начальство ее сразу заметило! Быстро по ступенькам пошла!
– За родителей, что такого сокола вырастили! Честь им и хвала! – вставила какая-то женщина, и в ее голосе звенела неподдельная, пьяная восторженность.
Тосты громыхали один за другим. Тетя Катя сидела, выпятив грудь, и кивала на каждый, ее щеки и шея горели алым румянцем от смеси вина, жары и всеобщего, пьянящего внимания.
Она улыбалась, но улыбка была напряженной, скошенной, как будто она боялась упустить хоть один комплимент, хоть один взгляд, полный зависти или уважения. Дядя Сева тоже мутно улыбался, кивал в такт тостам и чокался со всеми подряд, кто подходил. Его движения стали размашистыми и неточными.
А Фая… Фая поднимала свою почти полную кружку с обычным квасом ровно настолько, насколько этого требовала простая вежливость – чуть оторвав от стола, даже не доходя до уровня груди. Ее тонкие губы шевелились, беззвучно или почти беззвучно произнося какое-то «спасибо» или «спасибо вам», но взгляд оставался отстраненным. Ей было явно не до веселья.
К ее счастью, деревня, выпившая и наевшаяся досыта, быстро забыла о тонкостях и о самой виновнице торжества. Новость стала просто удобным предлогом для праздника.
Музыка началась почти сама собой – кто-то принес из дома дудку-жалейку, кто-то вытащил барабан, обтянутый потрескавшейся козьей кожей. Первые, неуверенные скрипучие такты, пауза, и затем снова – громче, смелее.
И вот уже бойкая плясовая, от которой ноги сами начинали притоптывать, полилась над площадью. И площадь ожила по-новому, сменив статичное пиршество на бурлящее движение.
Пары – сначала две-три стеснительные, потом больше – выкручивались в центре площади. Рубахи и платья мелькали, сливаясь в пестрое пятно. Смех стал громче, откровеннее. Где-то на краю, у дальнего стола, двое мужиков, уже изрядно набравшихся, вдруг начали толкать друг друга в грудь и хрипло кричать.
– Говорил я тебе, межа там идет! От столба до ольхи!
– Врешь как сивый мерин! От колодца, я тебе сто раз показывал!
– Покажу я тебе, сволочь…
Старый спор о межах всплыл на волне хмеля, и голоса становились все злее. Но не успела перепалка перерасти во что-то серьезное, как рядом со спорщиками выросли три плотные, спокойные тени.
Сотник Митрий в простой холщовой рубахе, но с привычно невозмутимым лицом, и двое ополченцев. Они просто встали между спорщиками – не говоря ни слова, даже не касаясь их. Митрий лишь скрестил руки на груди и посмотрел на одного, потом на другого.








