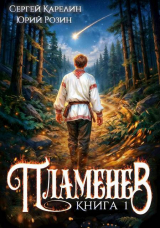
Текст книги "Пламенев. Дилогия (СИ)"
Автор книги: Сергей Карелин
Соавторы: Юрий Розин
Жанры:
Уся
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Глава 9
Ее тело дернулось под моей рукой. Она резко перевернулась на спину, глаза широко распахнулись в темноте, сразу уловив мой склонившийся силуэт.
Грудная клетка расширилась для крика, губы уже сложились в беззвучное «А». Я положил руку ей на рот: плотно, но не грубо, просто заглушая любой звук в момент его рождения.
– Тс‑с‑с. Это я, Саша, – мой шепот был тихим, почти беззвучным. – Я ненадолго. Сейчас уйду. Не буду вас больше подставлять. Но мне нужно знать, что было после того, как меня увели.
Ее глаза, сначала полные чистого животного ужаса и непонимания, постепенно прояснились. Зрачки сузились. В глазах промелькнуло что‑то сложное и быстрое – шок, недоумение, а потом, кажется, даже острый укол облегчения?
Она медленно, очень медленно кивнула, не отводя взгляда. Я убрал руку с ее рта, но остался в напряженной готовности: мышцы спины и ног были собраны, чтобы среагировать, если она все же вскрикнет.
Фая села на кровати, отодвинулась к стене, обхватив колени руками. Не закричала.
Смотрела на меня пристально, изучающе, как будто видела в первый раз.
– Что… что с тобой стало? – выдохнула она, и в голосе отчетливо слышалось искреннее потрясение.
Я нахмурился, почувствовав легкое раздражение. Какая разница, как я выгляжу?
– С чего вдруг? Я в порядке. Немного пообтрепался, конечно, но…
– Немного? – она резко, почти сердито махнула рукой в сторону стены за моей спиной. – Взгляни на себя.
Я обернулся, следуя направлению жеста. На стене, рядом с пустым шкафом, висело небольшое, помутневшее от времени зеркало в простой деревянной раме.
Шагнул к нему, подошел вплотную. И замер.
Из зеркала на меня смотрел я, но в то же время совершенный незнакомец. Лицо… лицо было моим, но одновременно и не моим. Вся детская округлость щек исчезла без следа. Резкие скулы, твердая, квадратная линия челюсти, четко обозначенный упрямый подбородок.
И волосы. Мои всегда русые, выгоревшие на солнце до пшеничного цвета волосы стали пепельно‑серыми, какими‑то седыми.
На вид парню в зеркале нельзя было дать меньше семнадцати‑восемнадцати лет, а то и больше, если судить по жесткой складке между бровей и суровому, какому‑то слишком уж взрослому взгляду.
Я поднес руку к лицу – медленно, будто боясь, что зеркало соврет. Коснулся кожи. В зеркале повторилось движение. Это была моя рука, мое лицо. Но это был не я.
Объяснение пришло быстро. Опять переизбыток Духа. Та самая критическая перегрузка от Эфирной Сферы, когда я бил Топтыгина.
Это ведь был не просто стресс для мышц и костей. Это был внутренний пожар. Он дал мне силу, чтобы выжить здесь и сейчас, но заплатить, похоже, пришлось не просто запасом жизненной силы, а своими годами. Кусок моей жизни, ломоть моей молодости сгорел в обмен на эту вспышку, этот рывок.
Я смотрел в глаза незнакомцу в зеркале, и незнакомец смотрел на меня с тем же холодным, лишенным иллюзий пониманием. Детство кончилось. Не тогда, когда меня повесили на дереве. Не тогда, когда я убил первого волка.
Оно сгорело дотла там, на скалах, в яростной драке с магом, сожженное пламенем чужой и своей силы. От него остался только пепел в волосах и негнущаяся сталь в глубине глаз.
Я еще секунду смотрел в зеркало, на этого незнакомца. Внутри не было никакого волнения. Ни горечи, ни страха, ни даже удивления. Просто факт. Это случилось. Точка.
– Это неважно, – сказал тихо. Действительно, сейчас, задумавшись, я заметил, что мой голос звучал ниже, чем помнилось, и в нем появилась легкая хрипотца, будто от долгого молчания или от дыма. – Что было после того, как они увели меня? Расскажи все по порядку.
Фая все еще смотрела на меня с тем же острым изумлением, но кивнула. Ее шепот был таким тихим, что мне пришлось сделать шаг ближе, чтобы разобрать слова.
– Они позволили оказать маме помощь сразу, – начала она. – Дедушка Леня, – это наш целитель, – тоже был среди гостей. Он обработал рану и наложил повязку с зельем. Но уйти никому не дали. Всех согнали обратно к столам и оцепили.
Она замолчала, прислушиваясь. Из‑за стены доносился неровный, с присвистом храп дяди Севы. Она продолжила еще тише:
– Час, может полтора спустя после того, как ты ушел… в небе начались вспышки. Сначала редкие. Белые и рыжие. И грохот. Все чаще и чаще. Потом со стороны леса, далеко, показалось зарево пожара. Городские зашептались между собой, один даже сделал шаг от строя, но старший из оставшихся рявкнул на него, и тот встал обратно. У всех были напряженные лица.
Она перевела дух и продолжила:
– Потом, еще через полчаса, от ворот начали возвращаться те, что ушли с тобой и их командиром. Без него. Без тебя. Их было… меньше. На четверых меньше, чем уходило. Они были все в саже, с обожженными волосами и лицами. Прошли молча, встали в оцепление к остальным. Еще через час в небе громыхнуло так, что земля задрожала. Сразу стало светло. Ярко‑бело, на мгновенье. Все зажмурились. У меня в глазах потом пятна плясали. Городские совсем запаниковали. Пятеро из них побежали к воротам. Ушли в лес.
Она замолчала, вытирая ладонью сухие губы.
– Потом пришли четверо, которых до того не было, принесли тело их главного. Без руки. У нас потребовали телегу, положили тело в нее. Потом вернулись те пятеро и принесли с собой еще два тела. Они были полностью обожжены – до черноты, ужасно. Их тоже положили на телегу.
Я слушал не двигаясь, чувствуя, как холодок спускается по позвоночнику. Два тела. Михаил. И тот, другой маг. Наверное, Михаил забрал врага с собой в могилу, судя по тому, что последняя вспышка была белой.
– После этого один из городских, тот, что остался за старшего, отдал приказ всем стоять на месте и ждать. А сам с двумя другими… погнал ту телегу. Прочь из деревни, по дороге в город. Мы так и простояли на площади до самого рассвета.
Она вздохнула, уткнулась лбом в колени, потом снова подняла голову. Ее лицо в полосе лунного света было бледным и очень усталым.
– Под утро прибыл новый отряд. Человек десять. Во главе… человек в такой же красной форме с медведем, как у убитого главного. Но моложе того первого. Лет тридцати, не больше. Он представился тоже Топтыгиным. Дмитрий, сказал. Дмитрий Топтыгин.
Замена убитому мной Топтыгину нашлась мгновенно. Даже как‑то немного обидно стало.
– Он построил всех на площади и сообщил, – Фая говорила теперь монотонно, как заученный урок, – что ты, Сашка, погиб при попытке сопротивления и бегства. Потом, до самого вечера, под его началом нас опрашивали. По одному. Отводили в дом старосты и задавали вопросы. О тебе. О том, когда ты стал странно сильным. О человеке из звезды. Видели ли мы что‑нибудь еще. Никто ничего не знал. Мама… она говорила только, что ты вдруг стал много есть и работать быстрее. Больше ничего.
На какое‑то время повисло молчание.
– В конце концов, – она махнула рукой в сторону окна, за которым лежала спящая деревня, – он скомандовал своим собираться и уходить. Никого дополнительно не наказали.
Посмотрела на свой раскрытый чемодан в углу, потом на пустую, неубранную кровать брата. В ее глазах на секунду мелькнуло что‑то острое и колючее, но тут же погасло.
– Федю… этот новый Топтыгин, забрал с собой. Сразу после опросов. Сказал маме и папе, что ему полагается награда. За помощь в раскрытии деятельности предателя Империи. За верность. А меня… он перед уходом подозвал. Сказал, что изучил мое дело. Что достижение Духовных Вен в моем возрасте – перспективно. Пообещал дать рекомендацию в академию своего клана в городе. Сказал собирать вещи, что через несколько дней приедет повозка. Вот я и собираю.
Я слушал и складывал факты в голове. Мундир видел, как волчица уносила мое тело. Для него, видимо, это выглядело как конец истории: Зверь тащит добычу в логово. Первый Топтыгин мертв. Тот маг, что дрался с Михаилом в небе, – тоже. Угрозы насчет семьи были их личной инициативой, крюком, чтобы зацепить и вытащить меня.
Новый командир, этот Дмитрий, пришел уже на пепелище, когда дело было формально закрыто. Портить отношения с деревней сейчас, когда главная цель – я – числился мертвой, уже не было смысла.
Особенно когда здесь была Фая – дарование, которое можно прибрать к рукам для своего клана. И Федя – полезный дурак, уже совершивший «подвиг» доноса.
Убить или серьезно наказать их семью – значит, навсегда отпугнуть других одаренных и потенциальных стукачей. Нет, куда логичнее было сделать вид, что все в порядке, забрать ценных подростков и уйти, сохранив лицо и влияние.
– А тетя Катя? – спросил я, глядя в черный квадрат окна. – Как она сейчас?
Фая вздохнула, потерла переносицу двумя пальцами.
– С ней все в порядке. Поправляется. Целитель говорит, рукой полноценно пользоваться уже не сможет – ожог глубокий, задело сухожилия. Но жива. Сейчас ее больше всего волнует не это.
Она сделала короткую, резкую паузу, ее взгляд скользнул к темному силуэту чемодана.
– Федю забрали. Меня забирают. Ты… умер. За хозяйством и участком будет некому ухаживать. Вот о чем она думает сейчас. Говорит, может, наймет кого из соседских подростков, но им надо будет платить, чего ей очень не хочется.
– Она… – Я сглотнул, почувствовав, что голос может дрогнуть, и заставил его звучать ровно: – Она что‑нибудь говорила? Про меня?
Фая посмотрела прямо на меня. Ее лицо в полосе лунного света было незнакомым – не холодным, а серьезным до боли и очень‑очень усталым.
– После того как Дмитрий объявил о твоей гибели на площади, она не заплакала сразу. Стояла как истукан. Потом, когда всех отпустили по домам, она зашла в дом, закрылась в их комнате и… выла. Буквально. Я слышала сквозь стену. И дня два еще ходила как тень, ничего не делала. Сейчас вроде взяла себя в руки, но… по ночам слышу – всхлипывает во сне. Иногда четко выговаривает твое имя. Потом стонет и затихает.
От этих слов в груди стало горячо и тесно, будто натянули туго веревку. Я потупил взгляд, разглядывая трещины на половице у своих босых ног.
Внутри что‑то екнуло. Не боль, а странное сжатие где‑то под ребрами, смесь вины и какой‑то горькой, нелепой неловкости. Я все еще думал о ней как о той самой тете Кате, которая орала и замахивалась. А она, похоже, правда беспокоилась обо мне и даже, возможно, любила. Как могла.
– Но ты не должен ей показываться, – продолжила Фая, и ее голос стал твердым, почти жестким, каким он бывал, когда она отчитывала Федю за особо глупую выходку. – И никогда, слышишь, никогда не сообщай ей, что ты жив.
Я поднял на нее глаза, слыша в ее тоне не только предостережение, но и что‑то еще.
– Почему?
– Потому что если она узнает, то не сможет этого скрыть. Она не умеет лгать. Не умеет играть. Даже если попытается, рано или поздно кому‑нибудь проговорится. И если этот «кто‑нибудь» доложит, тогда за нами придут снова, но на этот раз не ограничатся ожогом. Они убьют ее. И отца. Чтобы быть уверенными на все сто. А потом найдут и тебя. Лучше пусть думает, что ты мертв. Для нее… для всех здесь так безопаснее. И для тебя тоже.
Поморщился, почувствовав, как на дне сознания шевелятся старые обиды: будто приподняли камень, и оттуда потянуло затхлым запахом прошлого.
– С каких это пор тебя стала заботить моя судьба?
В моем голосе звучало не столько раздражение, сколько усталое, глубокое недоумение. Как будто я пытался сложить два и два, а получал пять.
Фая замолчала. Надолго. Так долго, что подумалось, не проигнорирует ли она вопрос, не сочтет ли его риторическим.
– С того дня, когда ты попытался ударить Федю на плацу. Того самого первого раза. До падения звезды.
Я не стал перебивать, не стал подгонять. Просто ждал, стоя неподвижно в середине комнаты.
– У меня всегда был талант к Сбору, – начала она шепотом, будто признаваясь в чем‑то постыдном или очень личном. – Но никаких… больших амбиций. Никогда. Я тренировалась потому, что мне нравилось само чувство – как Дух течет внутри. И чтобы в случае чего уметь постоять за себя. Не больше. Мечтала… – короткая пауза, – мечтала остаться здесь. Перенять лавку у отца. Спокойно жить до старости в знакомом месте. Поэтому на том празднике, в честь Вен, я была не в своей тарелке. От того, что моя тихая, маленькая мечта разбилась об ожидания родителей. Об ожидания всей деревни, которая уже видит во мне будущую гордость и свою выгоду.
Она сжала пальцы на коленях, костяшки побелели.
– Зная свою… пассивность, неамбициозность, я старалась поддерживать Федю. Всеми силами. Чтобы хоть он добился чего‑то. Порадовал их. Закрыл этот долг перед семьей и деревней. Ты… для меня ты был просто частью фона. Еще одной деталью хозяйства, которая будет копаться на огороде вечно. Я тебя не замечала. По‑настоящему. Пока ты не восстал против него в тот день. А потом… потом начал расти как на дрожжах. Не по дням, а по часам. И я поняла, что до смешного сильно недооценила тебя. Проспала что‑то важное, что происходило прямо у меня под носом. Поняла, что твое будущее будет куда ярче, чем у Феди. Но и от него я не могла отказаться.
Ее вздох прозвучал устало и глубоко.
– Я попыталась тогда, на плацу, когда ты вернулся, решить ваш спор миром. Даже раскрыв Вены. Не хотела, чтобы амбиции одного вконец сломали амбиции другого. Чтобы из этой драки вышел только один. Поэтому же я ударила Федю, когда он сдал тебя городским. Он не просто предал. Он сломал твое будущее одним махом. Сделал мою попытку найти хоть какой‑то компромисс… бессмысленной. А теперь… – она махнула рукой в мою сторону, – теперь оказалось, что ты жив. Что тебя не ищут. Что ты выжил там, где, по их словам, не должен был. Значит, шанс еще есть. Пусть даже один из миллиона. И я не хочу, чтобы что‑то – или кто‑то – ему помешал. Даже мама. Особенно мама. Потому что она не умеет молчать. Не умеет хитрить. А ты… – ее голос стал тверже, – ты должен найти свой путь теперь. Дойти до конца. До самых вершин, какие только есть. Чтобы все это… все это дерьмо, через которое тебе пришлось пройти – и из‑за Феди, и из‑за нас, и из‑за них, – оказалось не зря. Чтобы был хоть какой‑то смысл. Хотя бы в этом.
Ее слова повисли в тяжелой тишине комнаты. Я слушал, и поначалу где‑то глубоко внутри поднялась привычная, едкая волна: «Не замечала. Часть хозяйства». Старая как мир обида.
Но она тут же схлынула, не успев даже оформиться в мысль, потому что дальше было признание. Честное, без прикрас, признание в собственной слепоте.
И что‑то еще пряталось между словами. Сожаление? Какая‑то странная, неловкая солидарность? Я не мог точно назвать это чувство.
Но оно было настолько искреннее, что не получилось придумать, что ей ответить.
Я стоял, переваривая ее слова, как пережевывал жесткое мясо волчицы. Шок был, но недолгий. Слишком много всего случилось за эти несколько дней, чтобы по‑настоящему удивляться чему‑то такому.
Потом почувствовал, как мышцы лица сами собой расслабились, а уголки губ – сухих, потрескавшихся – медленно и тяжело потянулись вверх. Это была настоящая, чуть усталая, но абсолютно искренняя улыбка.
– Хорошо, – сказал я тихо, но твердо, глядя ей прямо в глаза, – обещаю. Вершины я достигну. Обязательно. Как бы высоко она ни была.
Потом мой взгляд скользнул на ее упакованный чемодан.
– А ты… если будешь тренироваться по‑настоящему – усердно, без оглядки на то, что от тебя ждут… Если достигнешь своей вершины, то тебе уже никто не сможет помешать. Ни родители, ни этот клан, ни кто бы то ни было. Захочешь жить в тишине до старости в своем доме – так тому и быть. Захочешь чего‑то другого – тоже. Сила, настоящая сила, дает выбор.
Ее глаза в полутьме расширились, будто она никогда не смотрела на ситуацию с этой, такой простой стороны. Фая задумалась, ее брови слегка сдвинулись, губы чуть приоткрылись. Молчание длилось несколько долгих секунд.
– Да, – выдохнула она наконец, и это было не просто слово, а целое открытие. И тоже улыбнулась – несмело, по‑девичьи, без привычной надменности или холодности. Улыбка преобразила ее строгое лицо, сделала его моложе, красивее. – Да, пожалуй, ты прав. Хорошо. Я… постараюсь. Не для них. Для себя.
Наступила неловкая, теплая пауза. Мы оба понимали, что это прощание. Надолго. Может, навсегда. Что наши дороги теперь резко расходятся в разные стороны.
Она первая пошевелилась: встала с кровати, мелькнув бледным пятном ночной рубахи в темноте, и сделала шаг ко мне. Я не отпрянул. Она обняла меня быстро, одним резким движением, как будто боялась передумать, и положила голову мне на плечо.
Я почувствовал запах ее волос – сушеной травы, древесного дыма и чего‑то чистого, детского. Мои руки после секундной нерешительности сами поднялись и легли ей на спину – легко, почти невесомо.
Объятие было коротким, угловатым: просто два тела, не привыкшие к такой близости. Но в нем не было ни капли фальши или расчета.
Фая отстранилась так же резко, как и прижалась Спохватилась, потянулась к своему простому туалетному столику и достала оттуда небольшой, потрепанный по углам кожаный кошелек на завязке.
– Вот. Мама дала на дорогу. На первое время. Но меня берут на полное обеспечение, как… большой талант. Так этот Дмитрий сказал. Так что деньги долго не понадобятся. Бери. Тебе нужнее.
Она сунула кошелек мне в руку. Он был теплым и мягким на ощупь. Я не стал отказываться. Деньги в городе, в той неизвестности, куда теперь лежал мой путь, не могли быть лишними.
– Спасибо, – сказал просто, сжимая кошелек в ладони.
– Удачи, Саша.
– И тебе, Фая. Найди свой путь.
Глава 10
Я развернулся, вышел из комнаты так же бесшумно, как и вошел, прикрыв дверь за собой с мягким щелчком. В коридоре задержался на секунду, прислонившись лбом к прохладной стене, прислушиваясь к знакомому, неровному храпу за тонкой перегородкой.
Сердце сжалось болезненным узлом, но я глубоко вдохнул и заставил его отпустить. Выскользнул из дома. Пробрался в сарай, забрал книжечку. К счастью, ее не нашли.
И потом частокол, поле, черное пепелище леса. Я шел теперь быстрее, увереннее, чем приходил. Теперь я точно знал дорогу.
Овраг, логово. Спустился по осыпающемуся склону, пролез в пахнущую сыростью и жизнью темноту. Внутри пахло мхом, влажной землей и глубоким, мирным сном.
Волчонок, уловив мой запах и шорох, тут же проснулся. Он жалобно, требовательно заскулил, тычась слепой, влажной мордочкой в воздух в мою сторону, и пополз навстречу, пошатываясь на еще слабых лапах.
* * *
По возвращении в логово у меня уже оформился план. Я останусь, пока не съем все дочиста.
Тогда я стану достаточно силен, чтобы двигаться дальше, а волчонок – достаточно крепок, чтобы выдержать дорогу и не стать обузой.
Но дальше – куда? Этот вопрос вставал каждый раз, когда я заканчивал цикл и сидел в тишине, слушая ровное дыхание волчонка.
Мильск. Ближайший город, до которого от деревни несколько часов пути на телеге. Оттуда пришли красные мундиры и Топтыгины. Туда же теперь отправили Федю и Фаю.
Это был эпицентр опасности. Меня там могли узнать. Даже с новой, состаренной внешностью и пепельными волосами.
Кто‑то из мундиров, видевший меня мельком во время погони или на площади. Или, что в разы хуже, Федя. Или Ваня, внук старосты, который учился там же в академии.
Попасться на глаза любому из них – значит подписать себе и, по цепочке, волчонку смертный приговор. Быстрый или медленный, но неминуемый.
Безопаснее, с точки зрения выживаемости, было бы уйти в Таранск. Следующий большой город, в дне пути. Там клан Топтыгиных, скорее всего, не имеет такого безраздельного влияния. Там можно затеряться в толпе, найти черную работу, начать с нуля. Выжить.
Но в Мильске был детдом. Тот самый, откуда меня забрала тетя Катя. Вернее, тот, где хранились архивы седьмого детдома.
Только там могли сохраниться хоть какие‑то записи. Имя того пожилого мужчины, который принес меня. Возможно, даже сведения о родителях, если он их оставил.
Ключ к моему прошлому, к пониманию того, кто я, откуда взялся этот проклятый, забытый путь Практика и почему за мной и такими, как Михаил, охотились. Без этой информации я бы шел в будущее абсолютно слепым, натыкаясь на врагов, чьих мотивов даже не понимал.
Я сидел в прохладной темноте логова, спина привычно упиралась в земляную стену, волчонок посапывал у меня на коленях, а его теплый бок поднимался и опускался.
Идти в Таранск – безопаснее, но тупик. Жизнь в тени, вечный страх, ноль ответов. Идти в Мильск – рискованно, но есть шанс получить ответы.
В конце концов ответ появился сам собой. Страх был, да. Острый, знакомый с детства, холодный ком в животе. Но теперь это не парализующий ужас, а просто один из многих факторов, которые нужно учесть и обойти. Правда была для меня куда важнее безопасности.
Хорошо. Значит, Мильск. Найду этот детдом. Узнаю, где он был, куда переехал, что осталось от записей. Выясню все, что смогу. А потом… потом уйду. Быстро и тихо, как призрак.
Риск был. Но этот риск я был готов принять.
* * *
Волчица была не чета тому первому волку из Берлоги или барсуку. Ее мясо, даже спустя дни не испортилось, а будто законсервировалось собственной мощью.
Есть его было… тяжело. Не физически – челюсти справлялись. Душевно. Каждый раз, отрезая очередную полосу от того, что когда‑то было живым, мыслящим существом, спасшим меня ценой своей жизни, я боролся с внезапно подкатывающим комком в горле.
Но отказываться от такого ресурса было бы высшей степенью глупости, граничащей с сознательным самоубийством. Мне нужно было растить силу. Мне нужно было кормить ее детеныша. Мне нужно было выжить и не дать умереть ему.
Все.
Сентиментальность здесь – непозволительная, смертельная роскошь. Так что я жевал, сглатывая слюну, заставлял горло проталкивать куски и затем концентрировался на том, чтобы тело усвоило эту силу.
Тем не менее даже у такой силы был свой срок годности.
Белого пламени, чтобы очистить мясо, как это делал Михаил, у меня не было. Искорка внутри спала, и я не знал, как ее разбудить. Оставался один путь – опередить гниение.
Есть быстрее, чем порча успеет одержать верх. Я вогнал себя в режим, который даже циклами назвать сложно. Это была непрерывная, монотонная работа, как движение мельничного колеса: отрезать кусок, проглотить не жуя дольше необходимого, встать в позу, провести Дух по привычному уже маршруту, почувствовать, как жар Крови разгоняется по венам, сжигая усталость и тонкой пленкой покрывая внутренности, снова отрезать кусок.
Сон почти исчез: тело, накачанное Духом и тяжелой пищей, требовало его все меньше. Я дремал урывками, одним ухом прислушиваясь к ночным звукам леса – к шелесту листьев, к далекому уханью филина. Но в основном – только практика и еда. Еда и практика.
Как только я вернулся к пику своей физической формы, прогресс ускорился в разы. Переход к седьмой позе я отточил за два дня. Восьмая поза, завершающая второй микроцикл из четырех, потребовала еще пяти дней непрерывных усилий.
Когда я наконец встал в нее устойчиво, без дрожи в коленях, тепло, идущее от крови, усилилось кратно. Из согревающего, рассеянного потока оно превратилось в почти осязаемое, плотное ощущение, как будто под кожу залили густой теплый воск.
Мышцы, погруженные в эту патоку, стали со временем более упругими, как туго натянутые сыромятные ремни, кости отзывались тихим звоном – прочные, будто отлитые из бронзы. Сила росла не взрывными, опасными скачками, а постоянным, неуклонным приливом, как поднимающаяся вода в полноводной реке.
Девятая поза, открывающая третий набор из четырех, далась за следующие пять дней. Десятая – за десять. Каждый новый шаг вперед требовал больше энергии, больше концентрации, но и отдавал с лихвой.
Я не просто механически повторял движения из книжечки – я чувствовал кожей, как с каждым завершенным циклом моя кровь, насыщенная Духом, становится тяжелее, плотнее. Она качалась по жилам с могучей, медленной силой, разнося не просто энергию, а какую‑то новую, глубинную выносливость в каждую клетку, в каждый сустав.
Прошло двенадцать дней после того, как я устойчиво освоил десятую позу. С момента смерти волчицы – почти ровно месяц. И я не мог больше игнорировать то, что чуял нос и чувствовал желудок.
Запах в ближайших к логову окрестностях изменился. К привычным, почти родным запахам сырой земли, влажного мха и звериного духа добавился новый – сладковатый, тяжелый, въедливый. Он висел в воздухе несмываемым пятном. Запах тления.
Он шел от останков волчицы, от того, что я не успел или не смог съесть. Мясо, даже пронизанное могучей силой Духа, не могло сопротивляться гниению вечно.
Пока мой желудок, укрепленный и измененный, справлялся, перемалывая и это. Но с каждым днем привкус становился сильнее, а после еды по телу разливалась слабость и подкатывала легкая тошнота вместо привычного прилива тепла.
Тело начало подавать сигналы тревоги, бунтовать против этой испорченной пищи. И я решил прислушаться к нему. Но оставались два органа, самые важные, самые насыщенные, которые я, следуя старому уроку, оставил напоследок, аккуратно отделив и завернув в чистую кожу.
Сердце и мозг. Они лежали теперь отдельно на большом, плоском камне – слегка подсохшие, сморщенные, но еще не тронутые разложением. Их собственная мощь, куда бо́льшая, чем у обычной плоти, держала гниль на расстоянии.
Я взял сердце. Оно было очень тяжелым, плотным и упругим, как туго набитый влажный мешок. Клыком волчицы, острие которого я регулярно подтачивал о камень, разрезал его на несколько толстых ломтей, похожих на куски сырой печени, но гораздо более волокнистых.
Первый кусок пошел очень трудно. Мясо было невероятно жестким, с сильным железным привкусом, который почти полностью перебивал легкую кислинку начинающейся порчи.
Я жевал медленно, заставляя челюсти работать через сопротивление каждой волокнистой нити. По телу даже без начала практики распространялось тепло.
Немедленно, не дожидаясь, пока энергия взорвется изнутри, я встал в первую позу второго набора и начал цикл. Сила из сердца раскалывалась внутри на осколки, как неуправляемая взрывчатая смесь. Ее нужно было немедленно ловить, направлять, распределять по уже проторенным путям.
Переходы между позами стали борьбой с этим бушующим внутри потоком, который пытался вырваться и разорвать меня. К седьмой позе я добрался, чувствуя, как мышцы словно наливаются тяжелым горячим свинцом от концентрированной мощи. К восьмой – уже через глубокую, но знакомую рабочую боль. Боль напряжения, а не повреждения.
Потом девятая позиция, десятая. Каждый новый шаг требовал все больше предельной концентрации. Сердце, казалось, снова билось, но уже где‑то в глубине моего живота, отдавая свою силу в упрямом, мощном ритме, совпадающем с ударами моего собственного сердца.
Не останавливаясь, я начал переход к одиннадцатой позе. Полностью не вышло. Снова первая, вторая…
Энергия сердца рвалась из цепей, которыми я ее сковал, начиная причинять уже действительно острую боль. И от того, что я не мог замкнуть цикл, вынужденный после последней позы прерываться и начинать сначала, давление этой энергии становилось только больше.
Но это определенно было еще то, с чем я мог справиться. Сжимал зубы до хруста, чувствуя, как под кожей на руках, шее и висках вздуваются и пульсируют жилы. Миллиметр за миллиметром, преодолевая чудовищное давление изнутри, с пятнадцатой или шестнадцатой попытки я завершил движение и застыл в одиннадцатой позе.
Все тело затрепетало единым, низкочастотным гулом, будто после удара в огромный медный колокол. Готово. Прорыв.
Я дал себе час отдыха, просто сидя на корточках в углу логова и дыша ровно, позволяя телу усвоить этот скачок, встроить новую мощь в свою структуру. Потом взялся за мозг.
Он был меньше сердца. И запах специфический: резкий, лекарственно‑горький.
Испытывая крайне противоречивые эмоции по поводу того, что держу в руках, я постарался съесть его как можно быстрее, не думая ни о чем. Вот только это оказалось большой ошибкой.
Энергия мозга была еще более дикой, более мощной, более яростной. Она не хотела течь по установленным мной траекториям, а впивалась тысячью тонких, раскаленных игл прямо в нервные узлы, в спинной мозг, в само ядро сознания.
Цикл из первых четырех поз едва сдерживал этот внутренний хаос в контурах тела. Когда я попытался перейти к пятой, чтобы направить бушующий поток в нужное русло, тонкая связь порвалась.
Я откашлялся и почувствовал, как из носа потекло что‑то теплое и соленое. Провел тыльной стороной ладони – кровь, алая и яркая.
Так нельзя. Если не взять энергию под контроль, то сгорю изнутри, превращусь в обугленный пустой сосуд. Я начал цикл в очередной раз. Снова не получилось – энергия пошла вразнос, ударив в виски огненной болью. Я выдохнул, стер свежую кровь с губ и начал заново.
И снова.
Сначала меня отбрасывало внутренним взрывом уже после четвертой позы, и я чувствовал, как в глазах темнеет. Но с каждым повторением, с каждым новым куском проглоченного мозга, я успевал провести чуть больше этой бешеной энергии по нужным маршрутам, прежде чем она вырывалась из‑под контроля, и продвигался по позициям все дальше.
Это была чистая, беспощадная пытка. Головная боль раскалывала череп на части, в ушах стоял неумолчный высокий звон, зрение мутнело и двоилось.
Но я продолжал. Еще кусок. Еще цикл. Еще. Я пытался выжить, усвоить эту адскую пищу хоть как‑то, превратить ее из яда в топливо. И постепенно, ценой десятков срывов, я почувствовал, как хаотичная, игольчатая энергия мозга начинает упорядочиваться, встраиваться в общую, уже могущественную систему Крови Духа.
Когда я провел завершающий, изматывающий цикл спустя почти сутки после поедания мозга под аккомпанемент плачущих подвываний волчонка, голодавшего часов двадцать кряду, я стоял почти в двенадцатой позе. До правильной и завершенной формы оставалось совсем чуть‑чуть.
Я опустился на землю. – весь в холодном, липком поту, дрожа мелкой, неконтролируемой дрожью, как в лихорадке. Из носа и ушей сочилась алая жидкость. От мозга во рту осталась только стойкая маслянистая горечь.
Остальное тело волчицы за эти сутки окончательно потеряло приемлемый вид. Запах гнили стал густым, удушающим. Есть это я уже не мог ни при каких условиях.
Перевел дух, вытирая лицо рукавом, и посмотрел на волчонка.
Каждый раз, вскрывая уже почти затянувшееся запястье клыком волчицы, я чувствовал ту же смесь физического отвращения и холодной необходимости.
В какой‑то момент его крошечные, острые как иголки зубки прорезались сквозь десны, но он наотрез отказывался от любой другой пищи, кроме моей крови. Я попытался, отловив у ручья проворного, огненно‑рыжего кронта, скормить ему его еще теплую кровь.
Волчонок тыкался мордочкой в тушку, облизывался, но потом отворачивался всем телом и начинал скулить, утыкаясь холодным носом мне в голую щиколотку. Только моя кровь с привкусом Духа и съеденного мяса его матери, успокаивала его.








