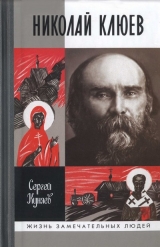
Текст книги "Николай Клюев"
Автор книги: Сергей Куняев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 51 страниц)
Эта сила неудержимо влекла Блока к себе, и он всё пристальнее вглядывался в лица, вчитывался в произведения людей, вышедших из народной стихии, из народного моря, взбаламученного революционным штормом. В журнале «Золотое руно», издававшемся на деньги младшего сына староверческой купеческой династии Рябушинских – Николая Рябушинского, он на протяжении 1907 года публиковал серию статей, одна из которых – «О реалистах» – стала яблоком раздора между ним и кругом его ближайших друзей-младосимволистов.
Черта была подведена, о чём он со свойственной ему предельной честностью написал 20 апреля 1907 года: «Реалисты исходят из думы, что мир огромен и что в нём цветёт лицо человека – маленького и могучего… Они считаются с первой (наивной) реальностью, с психологией и т. д. Мистики и символисты не любят этого – они плюют на „проклятые вопросы“, к сожалению. Им нипочём, что столько нищих, что земля кругла. Они под крылышком собственного „я“».
Окончательно всё прояснила публикация статей «Литературные итоги 1907 года» и «Религиозные искания и народ».
Всего лишь три года назад, летом 1904-го, Блок писал Евгению Иванову: «Мы оба жалуемся на оскудение души. Но я ни за что, говорю Вам теперь окончательно, не пойду врачеваться к Христу. Я Его не знаю и не знал никогда. В этом отречении нет огня, одно голое отрицание, то жёлчное, то равнодушное. Пустое слово для меня, термин, отпадающий, „как прах могильный“»… Пройдёт год, наступит 1905-й, рубиконный для многих и для Блока в том числе, а он продолжит в письмах тому же Иванову в том же духе и ещё более лаконично, и с ещё большим нажимом: «Что тебе – Христос, то мне – НЕ Христос». «Близок огонь опять, – какой – не знаю. Старое рушится. Никогда не приму Христа».
Не Христа он пытался отвергнуть, а церковь, от которой тогда отшатывались многие и многие, ища собственный путь в поисках своего Христа – в богостроительстве, в богоискательстве, в религиозно-философских собраниях, в попытке припасть к староверчеству или к сектантству, смешивая этот интерес с интересом к самой чёрной мистике, спиритуализму, откровенным кощунствам… И Христос, плывущий в челне, появляется в его стихах, когда им всё неотступнее овладевает дума о русском расколе, а в конце октября того же года он напишет ещё одно стихотворение, – увидит себя уже не на кресте, а в муках, тех, что принимали ревнители старой веры, вздымавшие над собой двоеперстие: «Како крещусь, тако и молюсь»:
Меня пытали в старой вере
В кровавый просвет колеса.
Гляжу на вас. Что – взяли, звери?
Что встали дыбом волоса?
Глаза уж не глядят – клоками
Кровавой кожи я покрыт.
Но за ослепшими глазами
На вас иное поглядит.
…Оставшийся в одиночестве, не понятый ни родными, ни друзьями. Блок с радостью откликнулся на голос Клюева. Невозможно переоценить его узнавание, что где-то «во глубине России», в той среде, навстречу которой он ощупью пытается идти, нашёлся человек, для которого «Нечаянная Радость» не «кощунство», а радость подлинная, что он нужен как «учитель» тому, кто сознаёт свою нужность для самого Блока и не играет с ним, и не подлаживается к нему, а со всей откровенностью предостерегает его о далеко не идиллическом восприятии «их», тех, кто «имеет на спине несколько дворянских поколений», что среда эта не предназначена для «интеллигентских экскурсий», что ею нельзя «интересоваться», сохраняя при этом брезгливость и отчуждение.
* * *
Те, кто негодовал на Блока после появления «Интеллигенции и революции», могли бы вспомнить, что началось это негодование десятью годами ранее, после публикации статей «Литературные итоги 1907 года» и «„Религиозные искания“ и народ», где он процитировал несколько самых, по его мнению, жгучих отрывков из второго клюевского письма. Но начал он «Религиозные искания…» с самого насущного.
«Редко, даже среди молодых, можно встретить человека, который не тоскует смертельно, прикрывая лицо своё до тошноты надоевшей гримасой изнеженности, утончённости, исключительного себялюбия. Иначе говоря, почти не видишь вокруг себя настоящих людей, хотя и веришь, что в каждом встречном есть запуганная душа, которая могла бы, если бы того хотела, стать очевидной для всех. Но люди не хотят становиться очевидными, всё ещё притворяются, что им есть что терять. Это понятно для тех, у кого ещё не перержавели цепи всяческих „отношений“, чьё сознание ещё смутно. Но это преступно у тех, кто помнит, что он родился в глухую ночь, увидал сияние одной звезды и простёр руки к ней, и к ней одной…
Мне скажут, что я говорю о невозможном, о том, о чём давно пора забыть, что я наивен, что литература давно перестала играть в жизни ту роль, какую играла когда-то. Возражений много, они известны; но я всё-таки говорю именно так; только о великом стоит думать, только большие задания должен ставить себе писатель; ставить смело, не смущаясь своими личными малыми силами; писатель ведь – звено бесконечной цепи; от звена к звену надо передавать свои надежды, пусть несвершившиеся, свои замыслы, пусть недовершённые…»
И после этого Блок переходит к самим «религиозно-философским собраниям», к «образованным и обозлённым интеллигентам, поседевшим в спорах о Христе», к «многодумным философам и лоснящимся от самодовольства попам», которые «знают, что за дверями стоят нищие духом, которым нужны дела… Это – тоже своего рода потеря стыда; лучше бы ничем не интересовались и никаких „религиозных“ сомнений не знали, если не умеют молчать и так смертельно любят соборно посплетничать о Христе». Блок отделяет творчество ценимых им Мережковского и Розанова от их «религиозно-философской» деятельности… И в противовес всей этой мути, словесному кафешантану, которому он готов предпочесть кафешантан обыкновенный, приводит куски из Клюева, чьи слова кажутся ему «золотыми». И о «строительных началах в груди» Клюева (которого Блок называет в статье «крестьянином северной губернии, начинающим поэтом») и его товарищей, и о «ясных очертаниях сынов человеческих», и о «неистовом страдании» от сознания, что «без „вас“ пока не обойдёшься», и о крестьянском бегстве «в скиты и леса-пустыни», и о том, что по сути речь идёт о двух разных обществах в одном – не имеющих не только общего языка, но и каких-либо точек соприкосновения. Именно об этом и писал Клюев Блоку, упоминая «глубокое презрение и чисто телесную брезгливость» дворян в отношении к народу.
Заканчивает статью Блок рассказом о «грозном и огромном явлении» сектантства – и здесь его гневный сарказм становился уже невыносимым для слуха участников религиозно-философских посиделок, особенно для тех, кто устраивал домашние «радения» вроде того, что состоялось на квартире старого символиста Николая Минского, когда собравшиеся кружились по комнате, имитируя «хлыстовскую пляску», и пили воду с растворённой в ней кровью одного из участников, воображая себя участниками «хлыстовского жертвоприношения» в духе «художественных картин» Мережковского.
«Цитирую я пятикопеечную брошюру, изданную „Посредником“ (И. Наживин. „Что такое сектанты и чего они хотят“). В этих пятикопеечных брошюрах случается находить иногда больше полезного, нежели в толстых и дорогих книгах и журналах. Есть в них, например, описание тех страшных пыток, которым подвергали так называемых „сектантов“. Многие ли из аристократических интеллигентов наших дней выдержат сибирские пытки? Все почти издохнут под первой плетью; сами сгноили себя – свои мускулы, свою волю – на религиозных собраниях и на вечерах „свободной эстетики“».
Реакция не заставила себя ждать. В «Речи» появился фельетон Мережковского «Асфодели и ромашка»: «И Александр Блок, рыцарь „Прекрасной Дамы“, как будто выскочивший прямо из готического окна с разноцветными стёклами, устремляется в „некультурную Русь“… к „исчадию Волги“, хотя насчёт Блока уж совершенно ясно, что он, по выражению одного современного писателя о неудавшемся любовном покушении, „не хочет и не может“».
С Мережковским было всё ясно. Менее ясно с Василием Розановым, разразившимся хлёсткой статьёй «Автор „Балаганчика“ о петербургских религиозно-философских собраниях» в «Русском слове». Ядовито назвав Блока «Экклезиастом», он придирался к каждому слову его статьи, а религиозно-философские собрания назвал «одним из лучших явлений петербургской умственной жизни и даже вообще нашей русской умственной жизни на всё начало этого века». (Через шесть лет Розанов на своей шкуре узнает, что такое «свобода слова» в представлении участников этого «лучшего явления». После его печатных выступлений по «делу Бейлиса» он будет исключён из общества стараниями того же Мережковского, а также А. Карташёва, А. Мейера, Н. Соколова, В. Богучарского и впервые появившегося на собрании Религиозно-философского общества А. Керенского. Все поименованные персонажи входили в масонскую ложу «Великий Восток народов России».)
В финале «Автора „Балаганчика“…» Розанов бросает на совесть слепленный ком грязи в адрес Клюева, о котором не имеет ни малейшего понятия, основываясь лишь на процитированных Блоком фрагментах письма: «Этот бородач, подпоенный шабли или „пенистой лирикой“, но, скорее всего, кажется, „пенистыми“ похвалами и лестью Блока, который в чём-то перед ним „каялся“, совсем развалился перед барином и поучает его, что будто бы вся религиозность русского народа идёт… от зависти!.. Блок выбрал в корреспонденты неудачного „мужичка“… Перед ним он, как рассказывают, имел вид (в письмах) „кающегося дворянина“, и тот ему написал „такое“ в ответ, что-де „завидуем и ненавидим, а другого чувствия не чувствуем“. Печальное „объяснение в любви“. Нам кажется, и Блок – не настоящий русский умный человек, образованный в работе и рабочий в образовании, и „мужичок“ его взят откуда-нибудь из ресторана, где он имел достаточно поводов завидовать кутящим „господам“».
Надо было впасть в сильнейшее раздражение, чтобы, пытаясь защитить своё любимое детище, не просто исказить смысл клюевских строк, но вложить в них диаметрально противоположное написанному Клюевым, не понять и не почувствовать явленные в контексте блоковской статьи смыслы клюевского письма, столь схожие со смыслами розановского же сочинения «Психология русского раскола» десятилетней давности: «Есть две России: одна – Россия видимостей, громада внешних форм с правильными очертаниями, ласкающими глаз; с событиями, определённо начавшимися, определённо оканчивающимися, – „Империя“, историю которой „изображал“ Карамзин, „разрабатывал“ Соловьёв, законы которой кодифицировал Сперанский. И есть другая – „Святая Русь“, „матушка-Русь“, которой законов никто не знает, с неясными формами, неопределёнными течениями, конец которых не предвидим, начало безвестно: Россия существенностей, живой крови, непочатой веры, где каждый факт держится не искусственным сцеплением с другим, но силой собственного бытия, в него вложенного. На эту потаённую, прикрытою первою, Русь, – взглянули Буслаев, Тихонравов и ещё ряд людей, имена которых не имеют никакой „знаменитости“, но которые все обладали даром внутреннего глубокого зрения. К её явлениям принадлежит раскол».
В клюевских письмах Блок услышал: «Пробил твой час. Пора!» На протяжении всего 1908 года он пишет и публикует статьи, выдержанные в тональности, заданной в «Литературных итогах» и «Религиозных исканиях», принадлежащие к шедеврам литературной публицистики XX века: «Три вопроса», «Солнце над Россией», «Вечера искусств», «Ирония», «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура»… В последней он опять будет приводить в свидетельство Клюева – фрагменты его статьи «С родного берега».
* * *
Статья эта была «подана» в виде письма Виктору Сергеевичу Миролюбову, редактору-издателю «Трудового пути». В январе 1908 года Клюев в письме ему из Николаевского военного госпиталя интересовался судьбой своих произведений. Но тогда уже дни журнала были сочтены. В марте он вышел под названием «Наш журнал» и тут же стал предметом пристального рассмотрения цензора Соколова, причём одним из материалов, особо обративших на себя внимание, стала анонимная статья «В чёрные дни», автором которой был Клюев.
«В этой статье, – отмечал цензор, – подъём революционного движения и его отлив рисуются в таких чертах, которые содержат признаки возбуждения к изменническим и бунтовщическим деяниям». Это ещё мягко сказано, если учесть смысл огненных инвектив, обращённых против «златоустов», для которых в очередной (и далеко не в последний!) раз народ оказался «не таким», каким они его себе представляли.
«В страшное время борьбы, когда все силы преисподней ополчились против народной правды, когда пущены в ход все средства и способы изощрённой хитрости, вероломства и лютости правителей страны, – наши златоусты, так ещё недавно певшие хвалы священному стягу свободы и коленопреклонённо славившие подвиг мученичества, видя в них залог великой вселенской радости, ныне, сокрушённые видимым торжеством произвола и не находя оправдания своей личной слабости и стадной растерянности, дерзают публично заявить, что их руки умыты, что они сделали всё, что могли, для дела революции, что народ – фефёла – не зажёгся огнём их учения, остался равнодушным к крестным жертвам революционной интеллигенции, не пошёл за великим словом „Земля и Воля“.
Проклятие вам, глашатаи, – ложные! Вы, как ветряные мельницы <…>, глухо скрипите нелепо растопыренными крыльями, и в скрипах ваших слышна хула на духа, которая никогда не простится вам. Божья нива зреет сама в глубокой тайне и мудрости.
<…> Народ-богочеловек, выносящий на своём сердце все казни неба, все боли земли, слышишь ли тех сынов твоих, кто плачет о тебе и, припадая к подножию креста твоего, лобзая твои пречистые раны, криком, полным гнева и неизбывной боли, проклиная твоих мучителей, молит тебя: прости нас всех, малодушных и робких, на руинах святынь остающихся жить, жить, когда ты распинаем, пить и есть, когда ты наполнен желчью и оцетом!..»
Эта огненная проповедь, где народ впервые у Клюева представлен распятым Христом, относилась не только к Михаилу Энгельгардту, который в статье «Без выхода» изобразил «русскую революцию пузырём, лопнувшим от пинка барского сапога». С не меньшим основанием её могли бы принять на свой счёт авторы грядущего сборника «Вехи», которые на полном серьёзе считали, что «весь идейный багаж, всё духовное оборудование вместе с передовыми бойцами, застрельщиками, агитаторами, пропагандистами был дан революции интеллигенцией. Она духовно оформляла инстинктивные стремления масс, зажигала их своим энтузиазмом, словом, была нервами и мозгом гигантского тела революции. В этом смысле революция есть духовное детище интеллигенции, а следовательно, её история есть исторический суд над этой интеллигенцией» (П. Струве), и уповали на власть, которая «своими штыками ограждает нас от ярости народной» (М. Гершензон).
Поистине, у интеллигенции была одна революция, а у народа – другая.
Слова Клюева о «мудрой осторожности перед опасностью» крестьянства, говорящие, что ещё нерастраченные силы затаились в тихом омуте, и о портретах террористки Марии Спиридоновой, которые вставляют в киот с лампадками, – окончательно решили участь журнала с его статьёй: он был подвергнут уничтожению «посредством разрывания на части».
Клюев таился. Положение его после тюрьмы и казармы, из которой он вырвался ценой больших лишений и мук, было крайне неустойчивым.
Публикация отрывков из его письма Блоку явилась для него неприятной неожиданностью и сама по себе (он не рассчитывал на предание публичности частного письма), и с учётом ситуации, в которой он оказался. «Здравствуйте, господин Блок, – пишет Клюев из Желвачёва, уже не называя адресата по имени-отчеству и без особой сердечности. – Вы напечатали моё письмо. К чему это?» Переписку, однако, не прерывает, шлёт всё новые стихи, просит прислать «что-либо из новой поэзии», в частности книгу Александра Добролюбова «Из Книги Невидимой». Интересуется откликом Розанова на статью Блока. Просит сообщить, «куда можно посылать стихи кроме „Трудового пути“». И сообщает в одном из писем: «Я пробыл в Питере 4 месяца, хотел зайти к Вам, походил мимо дома, а потом раздумал». Видимо, чуял, что не пришло ещё время для личной встречи.
Увидятся они лишь через три года. А пока – обмениваются письмами, Клюев читает присланную новую книгу Блока «Земля в снегу», с ответным письмом отправляет ему свою статью «С родного берега». Это ещё один жест – судьбоносный для Блока.
Глава 4
«ВЕРЕН АНГЕЛА ГЛАГОЛУ…»
Статью «С родного берега» Клюев пишет как ответ на письмо Виктора Миролюбова и начинает с обращения: «Дорогой В(иктор) С(ергеевич)…» Летом 1908 года в письме Блоку Николай снова поминает блоковскую статью с цитатами из своего письма («А насчёт опубликованного письма не беспокойтесь, я не то чтобы разобиделся, а просто что-то на душе неловко: не договорил ли я чего, или переговорил, или просто не по чину мне битым быть») и сообщает о миролюбовской просьбе из Парижа: «От Миролюбова я получил письмо, просит написать ему что-нибудь показать французским друзьям, а переслать ему письмо нет никакой возможности, кроме как через Вас, потому что уж больно любопытно будет на почте да и многим другим – какие такие дела я с заграницей имею – человек-то я больно не форсистый, прямо подозрительно для знающих меня». С находившимся в эмиграции Миролюбовым Клюев регулярно переписывался, посылал ему стихи, но сам, находясь под наблюдением властей, стремился соблюдать максимальную осторожность. 1 сентября он посылает Блоку написанную статью – сама форма послания в публицистике была привычнее Клюеву, чем какая-либо. «Напишите, как Вам нравится эта статья? Меня она очень заботит», – просит Николай, а в следующем письме поясняет, почему со страхом и трепетом ждёт ответа: «Не хотелось бы мне брать на себя ничего подобного, так я чувствую себя лживым, порочным – не могущим и не достойным говорить от народа. Одно только и утешает меня, что черпаю я всё из души моей, – всё, о чём плачу и воздыхаю, и всегда стараюсь руководиться только сердцем, не надеясь на убогий свой разум-обольститель, всегда стою на часах души моей и если что и лгу, то лгу бессознательно – по несовершенству и греховности своим». Это искреннее уничижение дорогого стоит, если иметь в виду, что Клюев – человек из народа, пишущий интеллигентам – не ощущает в себе этого права «говорить от народа», он, знающий народ лучше и полнее, чем его корреспонденты. Вдвойне дорогого – если учесть содержание посылаемого в Париж «письма».
На «вопрос» об отношении крестьян к республике, к царской власти и об их «настроении» Клюев даёт свой ответ, при этом поясняя, – «чтобы понять ответ мужика, особенно из нашей глухой и отдалённой губернии… где люди, зачастую прожив на свете 80 лет, не видали города, парохода, фабрики или железной дороги, – нужно самому быть „в этом роде“»…
И переходит к самому главному: «Нужно забыть кабинетные теории зачастую слепых вождей, вырвать из сердца перлы комнатного ораторства, слезть с обсиженной площадки, какую бы вывеску она ни имела, какую бы кличку партии, кружка или чего иного она ни носила, потому что самые точные вожделения, созданные городским воображением „борцов“, при первой попытке применения их на месте оказываются дурачеством, а зачастую даже вредом; и только два-три искренних, освящённых кровью слова неведомыми и неуследимыми путями доходят до сердца народного, находят готовую почву и глубоко пускают корни, так, например: „Земля Божья“, „вся земля есть достояние всего народа“ – великое неисповедимое слово! И сердцу крестьянскому чудится за ним тучная долина Ефрата, где мир и благоволение, где Сам Бог.
„Всё будет, да не скоро“, – скажет любой мужик из нашей местности. Но это простое „всё“ – с бесконечным, как небо, смыслом. Это значит, что не будет „греха“, что золотой рычаг вселенной повернёт к солнцу правды, тело не будет уничижено бременем вечного труда, особенно „отдажного“, как говорят у нас, т. е. предлагаемого за плату, и душа, как в открытой книге, будет разбираться в тайнах жизни».
Все эти «вожделения», которые оказываются «дурачеством», Клюев испытал на собственной шкуре, сталкиваясь с ссыльными революционерами и пропагандистами с Марксом на устах и вожделенной бомбой в кармане… А то, что формулирует он сам, – и есть живой образ «народного коммунизма», «христианского социализма», который так и не утвердился поныне на Русской земле, что и влечёт все нестроения, разлады и катастрофы.
«Но что же это за „политика“, – спросите Вы, что подразумевает крестьянин под этим словом, что характеризует им? Постараюсь ответить словами большинства. Политика – это всё, что касается правды, – великой вселенской справедливости, такого порядка вещей, где и „порошина не падает зря“, где не только у парней будут „калоши и пинжаки“, „как у богатых“, но ещё что-то очень приятное, от чего гордо поднимается голова и смелее становится речь. Знаю, что люди Вашего круга нашу „политику“ понимают как нечто крайне убогое, в чём совершенно отсутствуют истины социализма, о которых так много чиликают авторы красных книжек, предназначенных „для народа“. Но истинно говорю Вам – такое представление о мужике больше чем ложно, оно неумно и бессмысленно!..
„Чтобы всё было наше“ – вот крестьянская программа, вот чего желают крестьяне. Что подразумевают они под словом „всё“, я объяснил, как сумел, выше могу присовокупить, что к нему относятся кой-какие и другие пожелания…» Эти «пожелания» Клюев излагает уже более «конкретно» и «сниженно»: «…чтобы не было податей и начальства, чтобы съестные продукты были наши… чтобы для желающих были училища и чтоб одежда у всех была барская, – т. е. хорошая, красивая…»
Что же касается «республики» и «монархии», – то об этих субстанциях у земляков Клюева было такое представление: «Республика – это такая страна, где царь выбирается на голоса, – вот всё, что знают по этому предмету некоторые крестьяне нашей округи. Большинство же держится за царя не как за власть, карающую и убивающую, а как за воплощение мудрости, способной разрешить запросы народного духа. „Ён должон по думе делать“, – говорят про царя. Это значит, что царь должен быть умом всей русской земли, быть высшей добродетелью и правдой».
Земляки, по словам Клюева, убили дьявола в себе, рассчитались в своей душе со страхом перед дьяволом земным, правящем Русью, – и апокрифы – один хлеще другого – и рассказы о видениях перемежаются «насущным»: «Песни крестьянской молодёжи наглядно показывают отношение деревни к полиции, отчаянную удаль, готовность пострадать даже „за книжку“, ненависть ко всякой власти предержащей». И эти «песни» разрезают клюевский «отчёт», как глас народный:
Мы без ножиков не ходим,
Без каменья никогда,
Нас за ножики боятся
Пуще царского суда.
………………………
У нас ножики литые,
Гири кованые.
Мы ребята холостые
Практикованные.
Мы научены сумой —
Государевой тюрьмой.
Фольклор сельских оторв, деревенской трын-травы Олонецкой губернии, наружный вид которой «пьяный по праздникам и голодный по будням»… Алкоголизм – следствие разрушения общины и связанных с нею культурных норм и нравственных авторитетов, ощущения безысходности в порочном круге (как и ныне), что с абсолютной точностью и передал Клюев в своём письме: «Пьянство растёт не по дням, а по часам, пьют мужики, нередко бабы и подростки. Казёнки процветают яко крины, а хлеба своего в большинстве хватает немного дольше Покрова»… Потому все и живут «как под тучей» в ожидании, что «вот-вот грянет гром и свет осияет трущобы Земли и восплачут те, кто распял Народ Божий» и «лишил миллионы братьев познания истинной жизни»… Песню хулиганистых оборванцев сменяет духовный стих олонецких скрытников, который через несколько лет станет эпиграфом к клюевскому «Скрытному стиху»:
По крещёному белому царству
Пролегла великая дорога,
Протекла кровавая пучина —
Есть проход лихому человеку,
Что ль проезд ночному душегубу,
Только нету вольного проходу
Тихомудру Божью пешеходу.
Как ему, Господню, путь засечен,
Завалён – проклятым чёрным камнем.
…Блок был потрясён этой статьёй. Сделав с неё копию, он делится своей радостью с ближайшими друзьями, которых становилось всё меньше и меньше. «Если бы ты знал, какое письмо было на днях от Клюева (олонецкий крестьянин, за которого меня ругал Розанов). По приезде прочту тебе. Это – документ огромной важности (о современной России – народной, конечно), который ещё и ещё утверждает меня в моих заветных думах и надеждах» (из письма Евгению Иванову). «Очень много и хорошо думаю. Получил поразительную корреспондецию из Олонецкой губернии от Клюева. Хочу прочесть Вам» (из письма Георгию Чулкову).
Неизвестно, сохранилась ли статья «С родного берега» у Миролюбова. Во всяком случае, нет никаких известий о том, что он собирался предать клюевские свидетельства и размышления гласности. Блок же перечитывал её несколько последующих лет. Он хотел дать свой ответ в печати, но оставил лишь записку: «Много промучившись над этим письмом, я, конечно, в январе 1914 г., решаюсь не отвечать. Хорошее письмо, а мне отвечать нечего, язык мой городской, а это – деревня». Переступить через проведённую им самим непреодолимую черту он так и не смог.
Но об этой черте, привлекая клюевский текст, он тогда, в 1908 году, скажет в Религиозно-философском обществе. 13 ноября он выступил с докладом «Россия и интеллигенция», где, отталкиваясь от «Исповеди» Горького и посвящённого ей доклада Германа Баронова «О демотеизме», сформулировал давно выношенное: «С екатерининских времён проснулось в русском интеллигенте народолюбие и с той поры не оскудевало. Собирали и собирают материалы для изучения „фольклора“; загромождают книжные шкафы сборниками русских песен, былин, легенд, заговоров, причитаний; исследуют русскую мифологию, обрядности, свадьбы и похороны; печалуются о народе, ходят в народ, исполняются надеждами и отчаиваются; наконец, погибают, идут на казнь и на голодную смерть за народное дело. Может быть, наконец поняли даже душу народную; но как поняли? Не значит ли понять всё и полюбить всё – даже враждебное, даже то, что требует отречения от самого дорогого для себя, – не значит ли это ничего не понять и ничего не полюбить?»
Страшные вещи говорил Блок среди народолюбивых интеллигентов. Он говорил о «медленном пробуждении великана», пробуждении «с какой-то усмешкой на устах», усмешкой «мужика, ничем не похожей на ту иронию, которой научили нас Гейне и еврейство, на гоголевский смех сквозь слёзы, на соловьёвский хохот». Он говорил о «двух реальностях» – о полутораста миллионах, с одной стороны, и нескольких сотнях тысяч – с другой, не понимающих друг друга «в самом основном»… И не просто «не понимающих».
«Есть между двумя станами – между народом и интеллигенцией – некая черта, на которой сходятся и сговариваются те и другие… Но тонка черта: по-прежнему два стана не видят и не хотят знать друг друга, по-прежнему к тем, кто желает мира и сговора, большинство из народа и большинство из интеллигенции относятся как к изменникам и перебежчикам…»
Доклад вызвал бурю, на Блока нападали со всех сторон. Текст «России и интеллигенции» отказался печатать Пётр Струве, редактор «Русской мысли» и будущий автор «Вех». Сергей Городецкий, близкий знакомый, автор высоко оцененной Блоком «Яри», писавший ему ранее в одном из писем: «Ведь посмотрите, на какой путь Вы становитесь! Вам предстоит или стать Буддой, Магометом, Иисусом, т. е. создать новую моральную систему (Вы это очень точно выражаете формулой: чтоб 1) Россия 2) услышала 3) меня» – теперь, после объяснения, писал уже в ином тоне: «Неправда (NB), что я считаю тебя больше нашей темы – России. Только я родился в ней, а ты к ней пришёл. И корень вражды не здесь… Ты мне тягостен словами о пропасти между поэтом и народом. Я её не ощущаю. Её нет. И хочу, чтобы ты ощущал также».
То, что ощущал Блок, он с ещё большей резкостью высказал 30 декабря 1908 года в том же Религиозно-философском обществе, в докладе «Стихия и культура». У него не возникает ни малейших иллюзий относительно своих «соратников».
«Сердце сторонника прогресса дышит чёрною местью на землю, на стихию, всё ещё не покрытую достаточно чёрствой корой; местью за все её трудные времена и бесконечные пространства, за ржавую тягостную цепь причин и следствий, за несправедливую жизнь, за несправедливую смерть. Люди культуры, сторонники прогресса, отборные интеллигенты – с пеной у рта строят машины, двигают вперёд науку, в тайной злобе, стараясь забыть и не слушать гул стихий земных и подземных, пробуждающийся то там, то здесь. И только иногда, просыпаясь, озираясь кругом себя, они видят ту же землю, – проклятую, до времени спокойную, – и смотрят на неё, как на какое-то театральное представление, как на нелепую, но увлекательную сказку.
Есть другие люди, для которых земля не сказка, но чудесная быль, которые знают стихию и сами вышли из неё, – „стихийные люди“. Они спокойны, как она, до времени, и деятельность их, до времени, подобна лёгким, предупреждающим подземным толчкам… Они видят сны и создают легенды, не отделяющиеся от земли: о храмах, рассеянных по лицу её, о монастырях, где стоит Статуя Николая Чудотворца за занавесью, не виданная никем, о том, что, когда ветер ночью клонит рожь, – это „Она мчится по ржи“, о том, что доски, всплывающие со дна глубокого пруда, – обломки иностранных кораблей, потому что пруд этот – „отдушина океана“. Земля с ними, и они с землёй, их не различить на её лоне, и кажется порою, что и холм живой, и дерево живое, и церковь живая, как сам мужик – живой. Только всё на этой равнине ещё спит, а когда двинется – всё, как есть, пойдёт: пойдут мужики, пойдут рощи по склонам, и церкви, воплощённые Богородицы, пойдут с холмов, и озёра выступят из берегов, и реки обратятся вспять; и пойдёт вся земля».
Тут и пришёл черёд клюевского письма. Блок много цитировал его наряду с письмом некоего сектанта Д. Мережковскому и, сопоставляя сладкозвучные строки сектантского гимна с песней, приведённой Клюевым, приходил к убийственному выводу: «В дни приближения грозы сливаются обе эти песни: ясно до ужаса, что те, кто поёт про „литые ножики“, и те, кто поёт про „святую любовь“, – не продадут друг друга, потому что – стихия с ними, они – дети одной грозы; потому что – земля одна, „земля Божья“, „земля – достояние всего народа“».
Там, где в свои права вступает жажда вселенской справедливости, жажда Тысячелетнего Царствия Божия на земле, – там не удовлетворишь её ни «экономикой», ни мнимым «единением», ни подачками с государственного или интеллигентского стола… «Мы ещё не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на лёгком кружевном аэроплане, высоко над землёю; а под нами – громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскалённой лавы».








