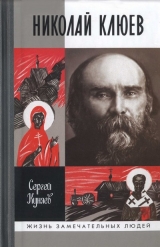
Текст книги "Николай Клюев"
Автор книги: Сергей Куняев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 51 страниц)
Ахматовой же он подарил «Лесные были» с простой надписью: «Анне Ахматовой – любимой поэтессе». Она и осталась для него любимой поэтессой до самого конца, а тогда, на том приснопамятном вечере, Николай не думал ни от кого «отрекаться», но, выразив в определённой форме своё несогласие с «соратниками» и по поводу оценки своих новых стихов, и по поводу спровоцированных литературной борьбой нападок на символистов и, в частности, на Блока, нарвался на обвинение в «отречении». Масла в огонь подлили и присутствующие, в частности Львов-Рогачевский. После огненных проклятий Радецкого он обвинил акмеистов в отсутствии связи с народом, с общественностью. В ответ последовала речь «народника» Городецкого, также не стеснявшегося в выражениях по адресу оппонентов. Выступление Львова-Рогачевского вызвало едкую реплику Дмитрия Философова в газете «Речь»: «Я, например, очень завидую г. Клюеву, что он – дитя народа, своего рода „владетельный князь“. Но не самоубиваться же мне из-за этого. Какую косоворотку я ни надевай, каким мелким бесом перед г. Клюевым ни расстилайся, всё равно г. Львов-Рогачевский мне скажет, что я не „владетельный князь из народа“, а всего-навсего кающийся дворянин»… Для Клюева же и выход «Лесных былей», и полемика, разворачивающаяся вокруг них, были крайне существенны, восприятие его слова культурной читающей публикой имело столь серьёзное значение, что он почёл необходимым, посылая книгу Дмитрию Философову (единственному человеку из Мережковского дома, отнёсшегося к нему с непритворным вниманием), объясниться (уже без всякого «Николашки») по поводу своего словаря, приняв самоуничижительную и одновременно и серьёзную, и ироничную интонацию: «Я долго думал – посылать ли Вам эту книжку, так как слышал, что Вы – человек труда в писательстве. В этой же моей книжке нет „труда“ и так называемой „глубины“. Написана она, как видите, на местном крестьянском наречии, частью известном в двух-трёх северных губерниях (а заслуга ли заставить читателя освоиться с грубыми формами своего языка?). В наречии этом нет кафедральной музыки Мильтона, но не согласитесь ли Вы в том, что в нём звучит то, что звучит, например, в песнях лугового жаворонка, подымающегося из низкой бороздки в тёплую синь неба, и не есть ли всякое искреннее пение по своей природе поклонение, и не следует ли сказать того же самого о всяком истинном труде?»
Львов-Рогачевский не успокоился и в газете «День» противопоставил Клюева всем его «рекомендателям». «Из всех поэтов, которые выступили как живые иллюстрации к докладу Городецкого, глубоко взволновал всех только Н. Клюев. Но какое отношение имеет он к акмеистам и адамистам?.. После первой книги Н. Клюев стал желанным гостем разных кружков. Мне тяжело смотреть, когда Н. Клюева представляют публике то парнасец Валерий Брюсов, то мистик Свенцицкий, то развязный певец Голгофы Иона БрЕхничЕв, то акмеист Сергей Городецкий. Как это унижает талант!»
В этих словах Клюев почувствовал унижение как раз со стороны критика. Он же сам не несмышлёный барашек, которого ведут, куда надо, на верёвочке! Статью Рогачевского он, судя по всему, не читал, но ему её, разумеется, пересказали с соответствующими комментариями, обвинив его самого в «предательстве». И Клюев пишет письмо, предназначавшееся для публикации в «Биржевых ведомостях»: «Милостивый государь, господин редактор! До меня дошли слухи, что критик из „Современного мира“ г. Львов-Рогачевский в недавнем фельетоне в газете „День“ обвинил „Цех поэтов“, к которому я имею честь принадлежать, в том, что меня „заманили“ туда. Мне это кажется обидным, и я спешу разуверить г. Львова-Рогачевского в его представлении обо мне как о полном незнайке своей дороги в искусстве. Моё тяготение именно к „Цеху поэтов“, а не к иным группам, вполне сознательно. Примите и пр. Николай Клюев».
С этим письмом были ознакомлены члены Цеха, которым Клюев отнюдь не присягал на верность. Он лишь обозначал свой собственный путь, выбранный собственной волей, совпавший на определённом отрезке с Цехом и его апологетами. Гумилёв, восторгавшийся книгами «Сосен перезвон» и «Братские песни», числивший родословную молодого поэта от начала XIX века, от пушкинской поры, – о «Лесных былях» не проронил ни слова. «Плясею» Цех также в свет не выпустил. Оригинал клюевского письма остался в архиве Михаила Лозинского и, судя по всему, даже не дошёл до редакции «Биржевых ведомостей».
* * *
Восемнадцатого февраля 1913 года редактор Санкт-Петербургского «Народного журнала» Екатерина Замысловская писала Александру Ширяевцу, присылавшему ей стихи из Ташкента: «Очень полезны будут вам указания Николая Алексеевича Клюева. Это один из самых талантливых современных поэтов. Особенно хорош 3-ий том его стихов. Если там у Вас нельзя достать, напишите, я Вам вышлю. Клюеву Вы можете написать смело. Я с ним познакомилась на заседании литературного общества (том самом заседании – 15 февраля, где, как писала „Русская молва“, „исключительный успех выпал на долю поэта Клюева“. – С. К.) с тем, чтобы поговорить о Вас. Он сам крестьянин. Пишите ему так: Петербург, Усачёв переулок, д. 11, кв. 1, г-же Расщепериной для Николая Алексеевича Клюева. Он всегда в разъездах. Я ему сказала, что пошлю его адрес Вам, и дала прочесть Ваши стихи».
Ширяевец написал Клюеву, уже знакомому с его произведениями (это письмо, к сожалению, неизвестно), и получил ответ: «Дорогой Александр Васильевич – я получил Ваше письмо и бандероль. Мне очень радостны все Ваши слова и выводы, и я всегда буду любить Вас, как любил заочно по песням в „Народном журнале“. Вы мне очень близки по духу и по устремлению к песне. Я сейчас уезжаю из Питера домой и из дому напишу Вам подробно».
В письмах Ширяевцу Клюев подробно разбирал его стихи, давал советы – и Ширяевец к ним благодарно прислушивался. 18 марта 1914 года он писал Виктору Миролюбову: «…до Клюева мне ой-ой как далеко! Из современных народных поэтов это самый выдающийся, самый самобытный. Я стараюсь поступать по его указаниям, но всё равно таким сильным, как он, мне никогда не быть – таково моё искреннее мнение о себе…» И в другом письме тому же адресату: «…его советы – настоящий клад для меня».
А Клюев рвался домой. Несколько месяцев, проведённых в Москве и Петербурге в «культурном сообществе», вымотали всю душу, и хотя он понимал, что без этого мира ему уже не прожить, горько жаловался на пережитое в письмах из деревни Рубцово, куда перебралась его семья.
«Милый братик, – писал он Ширяевцу, – меня очень трогает твоё отношение ко мне, но, право, я гораздо хуже, чем ты думаешь. Пишу я стихи, редко любя их, – они для меня чаще мука, чем радость, и духовно, и материально. Не думай, друг, что стихи дают мне возможность покупать автомобили, они почти ничего мне не дают, несмотря на шум в печати и на публичные лекции о них и т. п. Был я зимой в Питере и в Москве, таскали меня по концертам, по гостиным, но всегда забывали накормить, и ни одна живая душа не поинтересовалась, есть ли у меня на завтра кусок хлеба, а так слушали, собирались по 500 человек в разных обществах слушать меня. Теперь я, обглоданный и нищий, вновь в деревне – в бедности, тьме и одиночестве, никому не нужный и уже неинтересный. И никто из людей искусства не удостаивает меня весточкой-приветом, хоть я и получаю много писем, но всё – от людей бедных (не причастных литературе) из дальних углов России. В письмах эти неучёные люди зовут меня пророком, учителем, псалмопевцем, но на самом деле я очень неказистый, оборванный бедный человек, имеющий одно сокровище – глухую, вечно болеющую мать, которая, чуть поздоровше, всхлипывающим старушьим голосом поёт мне свои песни: она за прялицей, а я сижу и реву на всю избу, быть может, в то время, когда в Питере в атласных салонах бриллиантовые дамы ахают над моими книжками.
Братик мой милый, тяжко мне с книжками и с дамами и с писателями, лучше бы не видеть и не знать их – будь они прокляты и распрокляты! Страшно мне и твоё писательство, и твой сборник стихов, который ты думаешь издавать! – погоди ещё, потерпи, ведь так легко, задарма, можно погибнуть через книжку, а вылезать из ямы, восстановлять своё имя трудно, трудно…»
А у него-то у самого какое теперь «имя» в этой литературной круговерти? Уж явно не соответствующее ни его духовной сути, ни тому, что скрыто в его стихах. Личину то «символистскую», то «сектантскую», то «акмеистскую», то «народную» видят, а синтез сущностей, многоголосье созвучия природных и человеческих субстанций не зрят и не чуют… И человеческое равнодушие при всех отпускаемых похвалах переносить нестерпимо, предметом «литературной полемики» быть горько и жутко, когда по сути нет никому до тебя дела… И об этом он писал Сергею Гарину: «В Москве я постараюсь не быть дольше, так как ни московская жизнь, ни люди не соответствуют складу души моей, тишиной, безвестьем живущей – на зелёной тихой земле под живым ветром, в светлой печали и чистом труде для насущного… Нестерпимо осознавать себя как поэта, 12 тысяч книг которого разошлись по России, знать, что твои нищие песни читают скучающие атласные дамы, а господа с вычищенными ногтями и с безукоризненными проборами пишут захлёбывающиеся статьи в газетах „про Надсона и мужичков“ и, конечно, им неинтересно, что у этого Надсона нет даже „своей избы“, т. е. того важного и жизненно необходимого, чем крепок и красен человек деревни…»
Но прежде чем вернуться к родителям, он почувствовал настоятельную необходимость очиститься. Постоянно, уезжая из старой и новой столицы, он посещал северные монастыри.
Природы радостный причастник,
На облака молюся я,
На мне иноческий подрясник
И монастырская скуфья.
Обету строгому неверен,
Ушёл я в поле к лознякам,
Чтоб поглядеть, как мир безмерен,
Как луч скользит по облакам,
Как пробудившиеся речки
Бурлят на талых валунах,
И невидимка теплит свечки
В нагих, дымящихся кустах.
Молитва в природном мире слаще душе строгого обета – когда «мнится папертью бора опушка», а свечки в кустах теплятся, зажжённые невидимой рукой. Здесь и приходит знание безмерности мира и саморастворение в этой безмерности… Здесь забываешь на время про все литературные склоки и дрязги, душа обретает радостный покой, а сердце – крылья… Живя в родительском доме, он подолгу слушал пение матери, а потом – опять уходил, уходил в поле, сидел на взгорке, слушал пение птиц и разговаривал с ними, его не боящимися. Собирал лекарственные растения и лечил земляков своими травяными настоями… Однажды встретил в лесу земляка, и тот перепугался, увидев преобразившегося Николая. Что-то в его облике заставило замереть простого деревенского жителя, а Клюев спокойно сказал: «Не бойтесь, я забираю разные сведения у птиц и записываю себе в блокнот…» Помолчал и промолвил: «Скоро люди будут летать по воздуху на больших машинах…»
Люди уже начали летать… И это вторжение человека в мир небесный не могло не беспокоить Николая. И скоро пророчество неизбежного прозвучало в «Скрытном стихе»:
Железняк летит, как гора валит,
Юдо водное Змию побратень:
У них зрак – огонь, вздохи – торопы,
Зуб – лихой чугун, печень медная…
Запропасть от них Божью страннику,
Зверю, птичине на убой пойти,
Умной рыбице в глубину спляснуть!
Это – глас «братьев-старищ», но и сама природа предчувствует недоброе:
Осенняя явь Обонежья,
Как сказка, баюкает дух.
Чу, гул… Не душа ли медвежья
На темень расплакалась вслух?
Иль чует древесная сила,
Провидя судьбу наперёд,
Что скоро железная жила
Ей хвойную ризу прошьёт?
Зовут эту жилу Чугункой, —
С ней лихо и гибель во мгле…
Подъёлыш с ольховой лазункой
Таятся в родимом дупле.
Тайга – боговидящий инок,
Как в схиму, закуталась в марь.
Природы великий поминок
Вещает Лесной Пономарь.
Овладевая миром, совершенствуя инструменты цивилизации, человек в своей неистовой гордыне, уничтожая гармонию между природой и собой, – не в силах будет удержать их в своих руках, не в состоянии окажется снова запереть открытый им ящик Пандоры… Клюев чувствует, что мира здесь не будет… А пока он вглядывается в знакомые и преображающиеся на глазах черты родной земли, породившей и вскормившей его, стремясь запечатлеть каждый природный жест в движении и внутренней, неуловимой обычным глазом человеческим жизни.
Осинник гулче, ельник глуше,
Снега туманней и скудней,
В пару берлог разъели уши
У медвежат ватаги вшей.
У сосен сторожки вершины,
Пахуч и бур стволов янтарь.
На разопрелые низины
Летит с мошнухою глухарь.
Бреду зареющей опушкой, —
На сучьях пляшет солнопёк…
Вон над прижухлою избушкой
Виляет беличий дымок.
Там коротают час досужий
За думой дед, за пряжей мать…
Бурлят ключи, в лесные лужи
Глядится пней и кочек рать.
Каждый образ совершенно преображает некогда привычную глазу картину – и она оживает, расцветает, наполняется новой энергией жизни, которую сообщает ей слово поэта, ловящего зорким «нерпячим» взглядом каждое незаметное обычному взору изменение природного мира, безмолвно беседующего и с живой тварью, и с благодатно тянущемуся к нежаркому северному солнышку растением… Душа снова обретает равновесие, и если даже появляется ощущение таинственной жути в родном сызмальства мире, то эта жуть – родная, скрывающая до времени тайну природной речи и домашнего уюта, прячущая в избе невидимых существ.
Я дома. Хмарой-тишиной
Меня встречают близь и дали.
Тепла лежанка, за стеной
Старухи-ели задремали.
Их не добудится пурга,
Ни зверь, ни окрик человечий…
Чу! С домовихой кочерга
Зашепелявила у печи.
Какая жуть. Мошник-петух
На жёрдке мреет, как куделя,
И отряхает зимний пух —
Предвестье буйного апреля.
…Он пишет стихи, шлёт из родной деревни немногочисленные письма тем, кого считает близким себе. Понемногу отходит, всерьёз задумываясь о том, чтобы прекратить издаваться… Помогает по дому, но предпочитает бродить по лесу и полю в одиночестве… Так и лето прошло, и осень вступила в свои права. Холодный северный ветер налетал порывами и гулко завывал в печной трубе, словно предупреждал о надвигающейся беде. И она не замедлила прийти. 13 ноября умерла Прасковья Дмитриевна, любимая мамушка.
«Старела мамушка, – вспоминал Николай в „Гагарьей судьбине“, – почернел от свечных восковых капелей памятный Часовник. Матушка пела уже не песни мира, а строгие стихиры о реке огненной, о грозных трубных архангелах, о воскресении телес оправданных. За пять недель до своей смерти мамушка ходила на погост отметать поклоны Пятнице-Параскеве, насладиться светом тихим киноварным Исусом, попирающим врата адовы, апосля того показать старосте церковному, где похоронить её надо, чтобы звон порхался в могильном песочке, чтобы место без лужи было. И тысячесветник белый, непорочный из сердца ея и из песенных губ вырос.
Мне ж она день и час сказала, когда за её душой ангелы с серебряным блюдом придут. Ноябрь нащипал небесного лебедя, осыпал избу сивым неслышным пухом. А как мамушкиной душе выйти, сходился вихрь на деревне: две тесины с нашей крыши вырвало и, как две ржаных соломины, унесло далеко на задворки; как бы гром прошёл по избе…
Мамушка лежала помолодевшая, с неприкосновенным светом на лице. Так умирают святые, лебеди на озёрах, богородицына трава в оленьем родном бору…»
Смерть матери стала роковой чертой. Она разжала прежде скованные обручи, изменила самого Николая. Другая жизнь началась.
Глава 8
ПЛОТЬ. ДУХ. АПОКАЛИПСИС…
Старушки-омывальщицы закончили своё скорбное дело на полу у порога избы. Покойницу обрядили в белое (уйдёт в чистоте, такою, какая пришла на землю при рождении). Чёрный плат лёг на седые волосы.
Четыре вдовы в поминальных платках:
Та с гребнем, та с пеплом, с рядниной в руках;
Пришли, положили поклон до земли,
Опосле с ковригою печь обошли,
Чтоб печка-лебёдка, бела и тепла,
Как допрежь, сытовые хлебы пекла.
Посыпали пеплом на куричий хвост,
Чтоб немочь ушла, как мертвец на погост,
Хрущатой рядниной покрыли скамью,
На одр положили родитель мою.
Старинный обряд, позже описанный Клюевым в «Избяных песнях», сопровождался традиционными на Севере плачами. «Вытьё» – дань уважения и любви к отошедшим в мир иной, хотя ещё древнерусская церковь накладывала запрет на плачи и вопли народные, как на языческие, как на свидетельство отсутствия веры в бессмертие души. Пётр I вообще специальным указом запретил похоронные плачи, но такие запреты в народе не соблюдались.
«Возьмите народную жизнь, хотя бы причитание над покойником, – писал о. Павел Флоренский в книге „Столп и утверждение истины“, одной из любимейших книг Клюева. – Тут и польза, и добро, и святыня, и слёзная красота. Теперь сопоставьте с этим причитанием интеллигентский концерт, и вы сами почувствуете, как он беден содержанием. Знание крестьянина – цельное, органически слитное, нужное ему знание, выросшее из души его; интеллигентское же знание – раздроблено, по большей части органически вовсе не нужно ему, внешне взято им на себя. Он, как навьюченный скот, несёт бремя своего знания».
Столько вийте-тко вы, буйны ветероченьки,
На эту на могилу на умершую!
Раскатите-тко катучи белы камешки,
Разнесите-тко с могилушки желты пески!
Мать сыра земля теперь да расступилась бы,
Показалась бы колода белодубова!
Распахнитесь, тонки белы саватиночки!
Покажитесь, телеса мне-ка бездушные!
Плачею и вопленицу провожали достойно. Сын же Николушка изготовил нитку бус из озёрного жемчуга – последнее приношение.
«А так у меня были дивные сны, – вспоминал он в „Гагарьей судьбине“. – Когда умерла мамушка, то в день её похорон я приехал с погоста, изнемогший от слёз. Меня раздели и повалили на пол, близ печки, на соломенную постель. И я спал два дня, а на третий проснулся часов около 2 дня, с таким криком, как будто вновь родился. Во снах мне явилась мамушка и показала весь путь, какой человек проходит с минуты смерти в вечный мир. Но рассказать про виденное не могу, не сумею, только ношу в своём сердце. Что-то слабо похожее на пережитое в этих снах брезжит в моём „Поддонном псалме“, в его некоторых строчках».
«Поддонный псалом» родится двумя годами позже. А тогда Николай сам сложил свой плач по умершей, который позднее, по воспоминанию вытегорского старожила, начертал на кресте, воздвигнутом на Верхне-Пятницком погосте на окраине села Макачёва:
Ох, моя жаломнёшенька,
По тебе, родитель-матушка,
В эту осень непроходную
Не капельки с неба капали
Аль снежинки падали,
А по тебе, родитель-матушка,
Детки с батюшкою плакали,
И без тебя, родитель-матушка,
Нам полынью сахар кажется.
И отдали твоё цветное платьице
Нищим любящим.
…Цикл «Избяные песни», посвящённый «Памяти матери», состоящий из пятнадцати стихотворений (это число у православных ассоциировалось с образом Богоматери и знаменовало собой спасительную миссию, искупление, вечную жизнь), будет писаться в течение последующих трёх лет и обретёт свой окончательный вид к 1917 году. А пока – Клюев пишет слёзное душевное письмо Блоку, почитай, первое после годичного перерыва, где жалуется на своё горе и с гневом и пристрастием вспоминает свои московские и петербургские «гощения».
«Видно, мне не забыть Вас, дорогой Александр Александрович! Опять тянет поговорить с Вами, выклянчить от Вас весточку и с ней какую-то звуковую волну – Ваше дыхание. Когда умер у Вас отец и Вы написали мне об этом, я вздыхал и припадал головой к Вашему письму, теперь пришёл черёд Вам пожалеть меня: у меня умерла Мама… Родная моя, сиротинная моя, унывщица и былинщица моя – умерла! Теперь я остался только со стариком-отцом, у осиротевшей печи, у заплаканной божницы, у горькой нуды-работушки…
Последняя встреча с Вами непамятна мне: в ней было что-то злое, кто-то загораживал Вас от меня. Запомнилась мне лишь старая, любимого народом письма – икона „без лампадки“. (Чья душа?) Я пришёл в отчаяние от Петербурга с Москвой… Я теперь узнал, что к „Бродячей собаке“, и к „Кривому зеркалу“, и к Бурлюку можно приблизиться только через грех, только через грех можно сблизиться и с людьми, живущими всем этим. Я по способности своей быть „всем для всех“ пожил два месяца Собачьей жизнью, пил даровой коньяк, объедался яблоками в 6-ть руб. десяток, принимал ласки раздушенных белых, как кипень (и почему они такие белые?), мужчин и женщин (но в баню с ними всё-таки не ездил). Из них были такие, которые чуть не лизали меня. И ни одной душе не выискалось спросить о моей жизни, о моём труде, о матери!..»
Это напоминает перечисление грехов, среди которых и употребление алкоголя. (Позже в письме Виктору Миролюбову Клюев напишет о том же в покаянном тоне: «Я мучусь за последнюю встречу с Вами, всё думаю, что Вы слышали от меня винный запах и судили меня в душе, но поверьте, что я выпил вина по дороге к Вам – только для того, чтобы не мучительна и недолговечна была моя ложь перед Вами, в случае, если привелось бы прибегнуть к ней».) И в письмах другим своим корреспондентам Клюев постоянно поминает кошмар своего тогдашнего «общения». Из письма Я. Израилевичу: «Вы упоминаете „про весточку“ – живу я в бедности и одиночестве со стариком-отцом (мама – былинщица и песельница-унывщица, умерла в ноябре), с котом Оськой, со старой криворогой коровой, с жутью в углу, с низколобой печью, с тупоногой лоханью, с вьюгой на крыше, с Богом на небе. В Питер я больше не собираюсь… Правда, много было знакомых в Питере, угощали даже коньяком, не жалели даже половинкой яблока угостить (как дать целый, когда яблоки 4 руб. десяток), но пока приветил только один Вы…» Из письма В. Миролюбову: «Былинщица, песельница моя умерла – „от тоски“ и от того, что „красного дня не видела“… Неужели и у меня жизнь пройдёт без „красного дня“? Помните, Вы у Городецких пожалели меня – назвали бедным, – как взъелась мадам Городецкая за это на меня – стала Вас уверять, что я вовсе не заслуживаю таких слов, что я устроюсь гораздо лучше Сергея. Какая холодность душевная! Сколько расчёта в словах оскорбить человека, отняв возможность возражать! Тяжко мне, Виктор Сергеевич. Много обиды кипит у меня на сердце против Питера, из которого я вынес триковую пару да собачью повестку на лекцию об „акмеизме“…» Из письма А. Ширяевцу: «Вот уж не дай Бог, если русское общество отнесётся и к тебе так же, как ко мне! Если бы я строчил литературные обзоры, я бы про русское общество написал: „Был Клюев в Питере – русское общество чуть его не лизало, но спустя двадцать четыре часа русское общество разочаровалось в поэтическом даровании этого сына народа, ибо сыны народа вообще не способны ездить в баню с мягкими господами и не видят преображения плоти в педерастии“»…
Уход матери развязал какой-то незримый узел в душе Николая. Она ушла – и стала его вечной покровительницей там, а здесь – он остался сиротой (смерть отца через пять лет он уже не ощутит как сиротство) и в то же время освободился от некоего внутреннего зажима. Её уход как бы по-новому высветил для него все контрасты деревенской жизни и жизни городской, точнее, барской в городе, и лицезрение барами деревни как скопища темноты и скотства положило конец мерещившемуся некогда «взаимопониманию», о чём он и даст недвусмысленно понять в своём последнем письме к Блоку: «У меня на столе старая синяя глиняная кружка с веткой можжевельника в ней. В кружку налита горячая вода, чтобы ветка, распарясь, сильнее пахла. Скажите это кому-либо из Собачьей публики, Вам скажут, что по Бунину деревне этого не полагается (мне часто говорили подобное). И не знает эта публика, что у деревни личин больше, чем у любого Бунина, что „свинья на крыльце“ и „свиное рыло“, и Сергий Радонежский, и недавний Трошка Синебрюхов, а сейчашный Трофим Иванов по формуляру (в командировке Валентин Викентьевич Воротынский), око охранки, и кокотка Норма (на деревне Стешка) – только личины, только „Бесовское действо“ в ночь на „Воскресенье“.
Я вспомнил „Бесовское действо“ Ремизова, прибавлю, что это всеславянское писание, вещественное доказательство Буниным, что „Золотой вертеп“ и „Святой вечер“ нетленны на Руси. Быть может, потрудитесь передать мой поклон Ремизову».
Для Клюева ношение «личин» не благо, а проклятие. В письме Миролюбову содержится горькая жалоба на Леонида Семёнова, казалось бы, такого близкого – и то принявшего своего друга за иного: «Я не знаю, какой мудростью предписано такое поведение и такая любовь, которые на практике становятся жёрновом остельным на шее ближнего, и вера, которая уничтожает самый предмет веры, т. е. вера в то, чего вовсе нет. Например, помню, я ему говорил, что ношу золотые часы и не умею распрячь лошади, и не знаю, что такое вилы с тремя железцами, – и он не улыбнулся, не сказал легко, „что этого не может быть“, а забранился на меня, твёрдо уверовав в слова, как в действительность. Такая вера у наших монахов зовётся бесовской, и про такого человека говорят, „что он в беса верует“. Эта вера и не народна, потому что во главу угла ставит радость Франциска А<ссиз>ского: „Когда изобьют тебя и выгонят на снег люди“… „И не желай, чтобы они – люди – стали лучше, так как кто тогда даст тебе побои ради Господа?“ И ещё: боязнь поделиться своей праведностью с людьми, запачкать свои одежды… эта боязнь – любовь не допустить того, чтобы прикрыть своей хламидой блудницу на ложе греха или отдать себя на растление ради чистоты другого. Древние святые ходили в публичные дома, чтобы если не чере<з> любовь, то через грех приблизиться к людям; теперешних же святых приблизит к людям только меч – про который сказано в Евангелии: „И купите себе меч, чтобы не погибнуть вам напрасно“. Я понимаю это буквально, т. е. есть люди, которых полезно и спасительно встряхнуть за шиворот, и чаще всего для таких людей спасительно преступление, даже убийство: как с<вятому> Павлу убийство Стефана, Петру – отсечение уха Малхова (покушение на убийство) и отречение с клятвой и т. д. Как и поётся в одном русском стихе:
А злодея Бог ды помилует,
Душегуба Бог ды пожалует
Как честным венцом —
Ликом андельским [так].
А как кукицу-богомолицу
Он помилует да пожалует
Мукой огненной, удой медною.
Нет, уж если я и святой, то и греха не должен бояться, чтоб не впасть в ложь, как лисица в капкан, чтоб не пришлось перегрызть ей собственную лапу – для спасения „жизни“ – настоящей и будущей».
Слишком много сказано в этом письме и слишком многое нуждается в расшифровке. В первую очередь подобная откровенность перед Виктором Сергеевичем Миролюбовым – Клюева, уже в совершенстве овладевшего искусством носить личины. Из интеллигентской питерской публики для него лишь два человека останутся достойными такой тональности в собеседовании – письменном или устном: Миролюбов и Иванов-Разумник. Через десять без малого лет Николай со всем возможным для него теплом отзовётся о первом – опять же по контрасту с прочими, причём в вопросе, для Клюева наиважнейшем: «Лучшие мои произведения всегда вызывали у разных учёных людей недоумение и непонимание. Во всём Питере и Москве мои хлыстовские распевцы слушал один Виктор Сергеевич Миролюбов. Зато в народе они живы за красоту, глубину и подлинность. Разные бумажные люди, встречаясь с моим подлинным, уподоблялись журавлю в гостях у лисы: не склевать журавлю каши на блюде. Напоследок я плюнул на всякие учёные указания и верю только любви да солнцу».
* * *
И ещё один мотив настойчиво вторгается в клюевские письма – мотив греха.
Спустя годы, повествуя о своём бегстве с Соловков с мистиком – новым учителем, о пребывании у скопцов и новом бегстве уже от них, о скитаниях по Кавказу, Клюев расскажет Николаю Архипову и о том – как и где состоялась роковая встреча, приобщившая его к тому, что любой, поверхностно прочитавший клюевское житие, назовёт противоестественным грехом.
«Помню, на одной дороге в горах попал я на ватагу смуглых оборванных мальцев, и они обступили меня, стали трепать по плечам, ласкать меня, угощать яблоками и рассыпчатыми белыми конфектами. Кажется, что это были турки. Я не понимал по-ихнему ни одного слова, но догадался, что они зовут меня с собою. Я был голоден и без денег, а идти мне было всё равно куда.
В сакле у горного ключа, куда меня привели мальцы, мне показалось очень приветно… Наварили лапши, принесли вина и сладких ягод, пили, ели… Их было всего человек восемь; самый красивый из них, с маковыми губами и как бы с точёной шеей, необыкновенно лёгкий в пляске и движениях, стал оспаривать перед другими своё право на меня. Завязалась драка, и только кинжал красавца спас меня от ярости влюблённой ватаги.
Дня четыре эти люди брали мою любовь, каждый раз оспаривая меня друг у друга. На прощанье они дали мне около 100 руб. денег, кашемировую рубаху с серебряным кованым поясом, сапоги и наложили в котомку разной сладкой снеди.
Скала, скрывающая жгучий ключ, была пробита. Передо мною раскрылся целый мир доселе смутных чувств и отныне осознанных прекрасных путей. В тюрьме, в ночлежке, в монастыре или в изысканном литературном салоне я утешаюсь образом Али, похожего на молодой душистый кипарис. Позже я узнал, что он искал меня по всему Кавказу и южной России и застрелился от тоски».
Так описывается эта встреча в «Гагарьей судьбине». А ещё тремя годами раньше тот же Архипов записал в Вытегре под диктовку Клюева: «Осознание себя человеком произошло со мной в тёплой закавказской земле, в ковровой сакле прекрасного Али. Он был родом из Персии и скрывался от царской печати (высшее скопчество, что полагалось в его роде Мельхиседеков). Родители через верных людей посылали ему серебро и гостинцы для житейской потребы. Али полюбил меня так, как учит Кадра-ночь, которая стоит больше, чем тысячи месяцев. Это скрытное восточное учение о браке с ангелом, что в русском белом христианстве обозначается словами: обретение Адама…
Али заколол себя кинжалом…
Меня арестовали на Кавказе; по дороге в тюрьму я угостил конвойных табаком с индийским коноплём и, когда они забесновались, я бежал от них и благополучно добрался до Кутаиса, где жил некоторое время у турецких братьев-христиан…»
Это описание произошедшего можно верно понять, лишь зная, что такое «Кадра-ночь», или «Лайлатуль-Кадр» – «ночь могущества и предопределения». Она наступает среди нечётных в последние десять ночей Рамадана. В эту ночь ангел Джабраил спускается на землю с множеством ангелов, что молятся за каждого раба Божьего, которого застанут в служении Аллаху. Благословенная ночь даруется как особая милость. Соблюдение поста и непрестанная молитва, покаяние за свершенные грехи вознаграждаются великим блаженством. В вечер перед Лайлатуль-Кадр деревья пригибаются к земле, падая ниц перед Аллахом, что видят лишь особые люди, которым Аллах дал духовное зрение. Избранные могут узреть особое сияние – разливающийся нездешний свет не от солнца, не от луны, не от электричества, увидеть ангелов с крыльями и услышать звуки ангелов (и услышанное Клюевым через годы воплотится в строках цикла «Земля и железо»: «Звук ангела – собрат бесплотному лучу и недруг топору, потёмкам и сычу…»). «Ночь могущества лучше тысячи месяцев», – цитирует Клюев суру из Корана, ибо за добрые деяния этой ночью верующие вознаграждаются так, как вознаграждается беспрерывное служение в течение тысячи месяцев или более восьмидесяти трёх лет.








