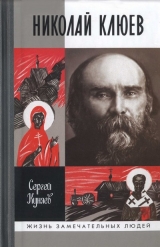
Текст книги "Николай Клюев"
Автор книги: Сергей Куняев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 51 страниц)
Так могли ли верующие мусульмане в ночи перед Лайлатуль-Кадр, во время непрестанных молитв и покаяния в ожидании божественного вознаграждения возжаждать противоестественного греха? «Эта ночь такой любви, какую Вы никогда и нигде больше не узнаете», – говорили современные мусульманки близкому мне человеку – православной христианке, приглашая её разделить с ними эту радость. Ночь духовной любви к Господу и друг к другу, когда неземное блаженство овладевает всем человеческим существом.
Вот какую «любовь» брали у Николая «мальцы». Брали, одновременно оспаривая право каждого на поучение иноверца. И лишь кинжал Али «спас», ибо он был «из рода Мельхиседеков»… Происхождение из названного рода имело существенное значение: Мельхиседек, царь Салимский («Дружба птичкой из Салима» появится и в стихах Клюева 1930-х годов, посвящённых Анатолию Яр-Кравченко), по Святителю Филарету, «священник Бога Всевышняго. Именем Бога Всевышняго Мелхиседек отличается от служителей многих божеств… а именем священника и от прочих царей, и от самого Авраама… Причиною столь великого уважения, оказанного Патриархом царю Салимскому, полагать должно не царское достоинство, коему Авраам не имел нужды подчинять себя, будучи победителем и избавителем царей; но священство и благословение именем истинного Бога…». В 109-м псалме Давида говорится, что Мессия будет «священником по чину Мельхиседека». И у апостола Павла в Послании к Евреям: «Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину Мельхиседека». И у излюбленного Клюевым Аввакума в его беседе «Об Аврааме»: «…Прежде век вечных из чрева от отца родися, не имать начала днем, ни животу конца по чину Мелхиседекову царь и священник пребывают вовеки»… Провиденциальность этой встречи для Клюева подчёркивалась ещё и воспоминанием о пребывании у христов, где он был и «Христом», и «Давидом»… Словно «высшие силы» соединяли «избранников» и определяли его собственную судьбу. И «кинжал Али» был знаком для остальных – что лишь он один среди собравшихся имеет право наставника. И сравнение здесь Али с кипарисом – это не просто восхищение его красотой, если вспомнить, что кипарис в «Стихе о Голубиной Книге» – «мать всех деревьев», из него был сделан крест, на котором распяли Христа.
Когда «посвящённые» в таинство «обретения Адама» потеряли друг друга и по какой причине, из-за ареста Николая или ещё до него, и сколько времени длились клюевские скитания по Кавказу, какими перипетиями сопровождались – сказать невозможно… Через три примерно года после того, как записал Николай Архипов «Гагарью судьбину» – он же зафиксировал и такое клюевское выражение: «Лучше врать, чем быть верным и точным до одуряющей тоски, до зелёной скуки». И кажется, что Клюев сочинил красивую сказку с терпким привкусом. Ибо великий грех – единение в общей молитве с иноверцами, даром что после этой великой ночи, после всех открывшихся видений «скала, скрывающая жгучий ключ, была пробита» и «открылся целый мир… осознанных прекрасных путей». Невозможно сейчас даже примерно определить, насколько адекватно записал Архипов рассказ Клюева, ибо, судя по изложению, он всё рассказанное воспринимал буквально – в плане материальном и плотском. В 1934 году на допросе в ОГПУ Клюев показал, что первый его опыт однополого соития относится к 1901 году, то есть к семнадцатилетнему возрасту. Если учесть, что Архипов до этого давал на Клюева показания в ОГПУ и, возможно, рассказал также «кавказскую историю» в своей интерпретации, то несложно представить, как эти показания были предъявлены Николаю на следствии, и он даже не попытался что-либо объяснять. Если также учесть, что на этот год приходится документально зафиксированная учёба Клюева в фельдшерской школе, то очевидно, что поэт намеренно спутывал всю хронологию. Не для «архангелов» из карательных служб были его рассказы, его житие. Если же вся история о Кавказе, рассказанная Архипову, – миф, то миф, о котором писал А. Ф. Лосев: «Миф есть бытие личностное, или, точнее, образ бытия личностного, личностная формула, лик личности… Не… догмат, но история». Но факт остаётся фактом – Клюев не раз «путал след», смещая даты своей жизни…
Но если бы всё рассказанное было сплошной выдумкой – Николаю ничего не стоило бы расписать свои дальнейшие приключения в самых ярчайших красках: и воображения, и художественного дара хватило бы… Единственно, о чём он упомянул – о пребывании в Кутаисе у турецких братьев-христиан. О турках-христианах идёт ли речь, или о сектантах, главная община которых была на турецкой земле (кстати, немало староверов обреталось там во второй половине XIX – начале XX века) – не определишь… Правда, Иванов-Разумник в своих воспоминаниях, писанных уже в годы Второй мировой войны, упоминал рассказы Клюева о его пребывании в Баку на конспиративной квартире, которая «служила явочным местом для посетителей из секты „бегунов“, державших постоянную „эстафетную связь“ между хлыстами олонецких и архангельских северных лесов и разными мистическими сектами… Индии… Всё это похоже на сказку – и в то же время это доподлинная быль, о которой Клюев рассказывал интереснейшие вещи (далеко не всем)…». Это «далеко не всем» заставит задуматься любого скептика, если ещё учесть, что клюевские рассказы не предназначались для печати, и кроме Архипова и Иванова-Разумника, никто больше о подобных рассказах Клюева не вспоминал. Другое дело, что Иванов-Разумник, в отличие от Архипова, не записывал сказанное непосредственно за рассказчиком и невозможно определить – точно ли он помнил, что именно говорил ему Клюев…
Во всяком случае, мы вправе предположить здесь, что «братья-христиане» вытащили Николая из круга ревнителей Корана, а Али покончил с собой, утратив след своего «ученика» и посему не выполнив своего предназначения… После бегства от стражников бывший соловецкий послушник и был поселён на «конспиративной квартире», где имел возможность отсидеться некоторое время… Но всё это из области предположений и реконструкций. Здесь важно подчеркнуть следующее.
Общение с восточными язычниками, мусульманами, сектантами разных толков, очевидно, и с суфиями, также имевшими свои общины на Кавказе, – всё это кирпичик к кирпичику, компонент к компоненту формировало духовный мир Николая, настраивая его на совершенно особый лад. Общение сопровождалось и чтением самой разнообразной духовной литературы, не чужд был в этот период Клюев, увы, и соблазна введения себя в транс путём приёма наркотика (вспомним о табаке с «индийским коноплём»). Совершенствовал он и традиционные эзотерические методики введения себя в пограничное состояние между здешним и нездешним мирами, достигая ясновидения, о чём поведал тому же Николаю Архипову: «О послушании моём в яслях и купелях скопческих в Константинополе и Смирне, в садах тамошних святых тебе, милый, выведывать рано, да и не вместишь ты ангельского воображения… Саровский медведь питается мёдом из Дамаска».
Как многозначительна последняя фраза! Первое, что вспоминается – медведь, приходивший к келье Серафима Саровского. Но нельзя не вспомнить и того, что истовые староверы не признавали Серафима святым, как канонизированного новообрядческой церковью, считая, скорее, колдуном… Для Клюева же Серафим – святой, и сам он соотносит себя и с Серафимом, памятуя о своём изначальном предназначении, и с медведем – сакральным животным на Руси.
А «мёд из Дамаска»… Вот тут уж можно было дать волю своей фантазии – но Клюев не фантазировал, лишь упомянул об «ангельском воображении»… Доступное в видениях ему – недоступно более никому другому. И совершенно напрасно Архипов позднее иронически комментировал: «Клюев ни в Персии, ни в Китае, нигде за границей не был, но держался так, как будто был». Человек, которому доступны эзотерические видения, может спокойно «держаться так, как будто был», ибо был – в духе, временно отлетевшем от грешной плоти.
…Когда Николай снова переступил порог родного дома и обнял мать – он рассказал ей обо всём, что с ним приключилось. Встретили его тогда, как блудного сына, а для Прасковьи Дмитриевны произошедшее было настоящим ударом. Мало того что нарушил родительский наказ, из монастыря ушёл, крест с себя снял, с «хлыстами» водился – ещё и с иноверцами молился – и перекрыл себе (хоть и временно) пути духовного совершенствования, на которые мать наставляла… Пусть свершилось на время преодоление соблазна, вернулся Николай ко Христу, и снова крест на его груди – но расплелась тончайшая, незримая нить, соединяющая мать и сына, – и все рассказы Николая о том, что открылось ему в его скитаниях, на Прасковью Дмитриевну уже не действовали. Она осталась для него самым дорогим человеком на земле, но пропасть взаимного непонимания, видимо, переступить было уже невозможно.
Если вернуться к уже сказанному, нетрудно понять – как отнёсся Клюев к свинскому поступку Брихничёва, прилежно зафиксировавшего на газетной странице жалобы Клюева на домашнюю жизнь, непонимание родителями сына и их «неграмотности»… Не о грамоте книжной речь – об иной, открывшейся Клюеву в его скитаниях.
«От норвежских берегов до Усть-Цыльмы, от Соловков до персидских оазисов знакомы мне журавиные пути. Плавни Ледовитого океана, соловецкие дебри и леса Беломорья открыли мне нетленные клады народного духа: слова, песни и молитвы. Познал я, что невидимый народный Иерусалим – не сказка, а близкая, родимая подлинность, познал я, что кроме видимого устройства жизни русского народа как государства или вообще человеческого общества существует тайная, скрытая от гордых взоров иерархия, церковь невидимая – Святая Русь, что везде, в поморской ли избе, в олонецкой ли позёмке или в закаспийском кишлаке есть души, связанные между собой клятвой спасения мира, клятвой участия в плане Бога. И план этот – усовершенствование, раскрытие красоты лика Божия»…
Об этом обо всём Клюев рассказывал в 1922 году, когда не было уже в живых никого из родителей. И уж, естественно, крепкая печать лежала на устах Николая, пока здравствовала мать. Мотивы Востока и скопчества проявились в его стихах уже после смерти Прасковьи Дмитриевны. Именно её кончина развязала ему язык, а отнюдь не стремление «подладиться» под окружающую литературную среду «новой мифологией».
* * *
Вот с этим нажитым опытом (в духе – безусловно нажитым) и вошёл Клюев в московскую и петербургскую литературную жизнь. И узрел тамошние нравы. И увидел наркоманов, педерастов, «интеллигентных» шлюх, мальчиков и девочек со склонностью к суициду (самоубийства возводились в культ), «мудрецов», одержимых проблемами половой жизни и млеющих в разговорах об «одиноких», «кошкодавах» и прочих тогдашних «неформалах». Узрел равнодушный, ни к чему не обязывающий разврат «интеллигентного общества» столицы, где «беременный мужчина» Бурлюка прекрасно соседствовал с банными описаниями кузминских «Крыльев» («баня с мягкими господами» во многом навеяна этими описаниями наряду с картинами из жизни «жоржиков» – Иванова и Адамовича, для которых гомосексуальный разврат был привычным делом и которые в конце концов смотались в Европу, избегая уголовного преследования за убийство партнёра). Кланялся Клюев Михаилу Кузмину и его «наперснику» Юрию Юркуну в письме сыну богатого промышленника, вхожему в литературные круги Израилевичу, интересуясь мнением Кузмина о «Лесных былях». Тонкого художника в нём увидел, но человеческой близости не ощутил – напротив. Позже в письме Есенину он напишет: «А умиляться тем, что собачья публика льнёт к нам, не для чего, ибо понятно и ясно, что какому-либо Кузьмину или графу Мон-те-тули не нужно лишний раз прибегать к шприцу с морфием или кокаином, потеревшись около нас. Так что радоваться тому, что мы этой публике заменили на каких-либо полчаса дозу морфия – нам должно быть горько и для нас унизительно». Знал, что писал. Чересчур легко, точнее, легковесно было бы, вчитываясь в позднейшие клюевские похвалы Кузмину, сводить часть этих похвал к физиологическому интересу. Ведь это клюевское «потеревшись» ясно говорит о том интересе, который он вызывал у Кузмина и его свиты.
Сейчас же в письмах Николай, отвращаясь от городского интеллигентского блуда, пишет Ширяевцу не без иронии над происходившим на его глазах, над жалобами Ширяевца на любовную неудовлетворённость: «В феврале был в С. П. Б. Клычков, поэт из Тверской губернии из мужиков, читал там в литературном интимном театре под названием „Бродячая собака“ свои хрустальные песни, так его высмеяли за то, что он при чтении якобы выставил брюхо, хотя ни у одной петербургской сволочи нет такого прекрасного тела, как у Клычкова. Это высокий, с сокольими очами юноша, с алыми степными губами, с белой сахарной кожей… Для меня очень интересна твоя любовь и неудовлетворённость ею. Но я слыхал, что в ваших краях сарты прекрасно обходятся без преподавательниц из гимназий, употребляя для любви мальчиков, которых нарочно держат в чайных и духанах для гостей. Что бы тебе попробовать – по-сартски, авось бы и прилюбилось, раз уж тебя так разбирает, – да это теперь и в моде „в русском обществе“. Хвати бузы или какого-нибудь там чихирю, да и зачихирь поволжски. Только обязательно напиши мне о результатах…» В ответ на последовавшее недоумение Ширяевца такой откровенностью уточняет: «Почему тебе кажется, что мне не идёт говорить про любовь и сартские нравы – я страшно силён телом, и мне нет ещё 27-ми годов (на самом деле Клюев был годом старше. – С. К.). Встречался я с Клычковым, и всегда мы с ним целовались и дома, и на улице… Увидел бы я тебя, то разве бы удержался от поцелуев?..» Не исключено, что он здесь и проверял своего собеседника в отношении к нему самому (как проверял в другой области Леонида Семёнова – не выдержавшего этого испытания) и больше «давил» на интимную сторону в контрасте с описанными питерскими «игрищами»… А ещё подобные откровения в сочетании с похвальбой своим здоровьем, которое на самом деле было не очень хорошим (болезни преследовали Николая одна за другой – и для него, слабосильного, в самом деле было «свить сенный стог мудрее, чем создать „Войну и мир“ иль Шиллера балладу»), скорее, давали возможность заглушить страх смерти, который всё чаще и чаще одолевал его… Впрочем, подобные откровения возможны были для него лишь с человеком, которого он действительно считал близким себе по духу – чувство сиротства после ухода матери его не оставляло, а поведение расхвалившего его и рядящегося в близкого друга Городецкого уж слишком хорошо напомнило Николаю поведение Брихничёва.
«Потрясает невольно идущая Жизнь. Потрясает и грядущая гибель себя наружного: горьким соком одуванчика станет прекрасное, столь любимое тело моё. Чему я радуюсь, так это, к изумлению моему, народившимся Врагам своим: Иван Гус ел арбуз, Брихничёв корки подобрал, но от этого Гусом не стал – и Брихничёв стал Врагом моим. (Врагом-то врагом, только личные контакты все равно не прервались – и звал Брихничёв Клюева ещё с собой в дальнейшие странствия по Азии. – С. К.) Откуда-то вынырнуло и утвердилось понятие, что с появлением „Лесных былей“ эпосу Городецкого приведётся заяриться до смерти, и Городецкий закатил болотные пялки и загукал на мои песни, и т. д. и тому подобно…» (из письма Валерию Брюсову.) Это – констатация факта, а в письме Ширяевцу – дружеское увещевание: «Я предостерегаю тебя, Александр, в том, что тебе грозит опасность, если ты вывернешься наизнанку перед Городецкими. Боже тебя упаси исповедоваться перед ними, ибо им ничего и не нужно, как только высосать из тебя всё живое, новое, всю кровь, а потом, как паук муху, бросить одну сухую шкурку. Охотников до свежей человеческой крови среди книжных обзорщиков гораздо больше, чем в глубинах Африки. Городецкий написал про меня две статьи зоологически-хвалебные, подарил мне свои книги с надписями: „Брату великому слава“, но как только обнюхал меня кругом и около, узнал мою страну-песню (хотя на самом деле ничего не узнал), то перестал отвечать на мои письма и недавно заявил, что я выродился, так как эпос – не принадлежащая мне область (судя по всему, в этом выступлении Городецкий впрямую полемизировал с Гумилёвым, отвечая на слова последнего, что „в творчестве Клюева намечается возможность поистине большого эпоса“. – С. К.). Вероятно, он подразумевает свою „Иву“ (а ведь читал Клюев восторженные отзывы того же Гумилёва об „Иве“ и в „Гиперборее“, и в „Аполлоне“. – С. К.)… Вот, милый, каковы дела-то… Брат мой: не исповедуйся больше, не рассылай своих песен каждому. Не может укрыться город, на верху горы стоя…»
С нежностью и заботой, сочетающейся со строгой требовательностью, пишет Николай Ширяевцу о его стихах, поминая и «литературщину», и «неискусность», и «шелудивые слова», от коих надо избавляться. Жалуется на бедность и на то, что не дошёл до него гонорар за стихи ни из народнических «Заветов», ни из «Северных записок» – «тарана искусства по царизму», как называла их издательница Софья Чацкина («Получил ли ты с „Ежемесячного“ что и по скольку за строку? Пишу это потому, что очень нуждаюсь. Мама умерла: на руках у меня 70-летний отец, пеку и варю сам, мою пол, стираю – всё это надбавка к моей лямке») – и чередует эти жалобы с картинами северной красы, приглашает Александра бросить Ташкент, устроиться где-нибудь в Архангельском округе, шлёт ему открытки с изображениями родного края… «Ты правду сказал, что на нас с Клычковым ни<что> не висит, кроме бедности. Особенно прекрасен мой север с лесами, с озёрами, с избами такими же, каку<ю> я присылаю тебе. Это <так> называемая „столбовая или Красная изба“, а есть ещё Белая и чёрная – т. е. курная. У нас не надо картин Горюшкина-Сорокопудова аль Васнецовых – всё ещё можно видеть и ощущать „взаправду“. Можно посидеть у настоящего „косящата окна“, можно видеть и душегрейку, и сарафан-золотарь, и жемчужную поднизь, можно слышать и Сказителя». В этом воздухе только бы творить, да собственное творчество уже не радует, ибо те сокровища, что носит в себе Николай, не ценятся по их истинному достоинству – не ко двору русские поэты, идущие из глубинной традиции. Его поэзия – лишь отзвук величественной симфонии, где песня человеческой души соединяется в полнозвучии с музыкой природного и нездешнего миров, а у шумящих вокруг современников на душе и уме иное: «Из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам»… «Я могу из падали создавать поэмы»… Всё это в конечном счёте отольётся в формулу (затрёпанную впоследствии и зацитированную) той, к кому он обращался с душевной нежностью, восхищаясь строгостью её поэтических линий и которая «фыркала» на его стихи, за «истощение запаса культурных слов»: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…»
Не из «сора» – из природной красы, из высокого строя Ветхого Завета, Евангелия, «Поморских ответов», из народной речи рождались клюевские стихи.
Понимание высокой жизни в духе – и поэзии расходятся у Клюева всё дальше и дальше, о чём он и пишет Ширяевцу, увещевая его в невозможности совмещать творчество с жизнью – обыденной ли и обеспеченной «литератора модного» – или общинной, братской, о чём вопрошал его Александр, и на что отвечал ему Николай, сомневаясь и в себе, и в намечаемых лишь пунктиром путях дальнейшего бытия: «Меня вовсе не радуют свои писанья. Вот издам ещё книжку, – и прикрою лавочку: потому что будь хоть семи пядей во лбу, – а Пушкинские премии будут получать Леониды Афанасьевы да Голенищевы-Кутузовы, – а тебе гнилая изба, вонючая лохань, первачный мякиш по праздникам, а так „кипятоцик с хлибцём“, сущик да день в неделю Крутикова каша с коровячим маслом, бессапожица и беспорточица, а за писания – фырканье г<оспод> поэтов да покровительственный басок г<оспод> издателей – вот и всё. И ты, милый, не жди ничего другого – предупреждаю тебя… Есть у тебя хлеба кусок, правда, горький, но в случае писательского успеха тебе не перепадёт и крошки… Ты говоришь про общину „Писателей из народа“. Я принимаю братство – житие вкупе вообще людей, а не одних писателей. Община осуществима легко при условии безбрачия и отречения от собственности и довольствования „насущным“. Какая радость жить вместе с людьми одного духа, одного Света в очах!.. Есть община в Воронежской губ<ернии>, основана Иваном Беневским по-толстовски, но мне что-то не по себе, когда подумаю об ней. Братству, Шура, писанье будет мешать. Только добровольная нищета и отречение от своей воли может соединить людей. Считать себя худшим под солнцем, благословить змею, когда она ужалит тебя смертельно, отдать себя в пищу тигрице, когда увидишь, что она голодна, – вот скрепы между людями. Всемирное, бесконечное сожаление – вот единственная программа общежития. Вере же в человека нужно поучиться, напр<имер>, у духоборов, или хлыстов-бельцов, а также у скопцов. Вот, братик мой, с кем надо тебе сойтись, если ты искренне ищешь Вечного и Жизни настоящей. Александр Добролюбов и Леонид Семёнов, два настоящих современных поэта, ушли к этим людям – бросив и прокляв так наз<ываемое> искусство, живут в бедности и в трудах земельных (сами дети вельмож), их молитвами спасёмся и мы. Аминь».
Клюев мечется внутренне. Он не может не понимать, что подобное «отречение» от мира, ведущее к созданию своего учения, и поиск своего спасения – воплощение предельного индивидуализма, завершение того духовного раскола, глобальный процесс которого начался в XVII веке. А соблазн – поистине велик. И не может Клюев не чувствовать, что выбор уже сделан, что с избранного пути уже не свернуть, что участие в литературном процессе наложило свои вериги, потяжелее тех, которые он некогда носил ради умерщвления плоти… А в это время продолжается за ним постоянная слежка властей предержащих. В Олонецком губернском жандармском управлении множатся донесения о распространении им противоправительственных брошюр среди участников Верхнепятницкого земского училища, о поездках в Москву, о пребывании в Санкт-Петербурге и проживании там на квартире зятя В. П. Расщеперина, наконец, о выходе стихотворных книг. И обо всём этом допрашивается его отец.
«Николай Алексеев Клюев, выбывший осенью прошлого (1912-го. – С. К.) года в Москву (донесение мое от 31 октября прошлого года за № 235), до нового года переслал из Москвы 270 рублей. Из разговора с отцом вахмистр Стриноголович узнал, что означенные деньги получены Клюевым-сыном в счёт причитающейся ему суммы в размере 750 руб. за издание им в одной из московских редакций сборника под названием „Братские песни“. Кроме того, по словам отца, сын его готовит к изданию ещё какие-то три книжки. Означенные выше деньги, а также вся корреспонденция получаются Клюевым-отцом не через волостное правление, отстоящее от дер. Делвачёво в 2-х верстах, а через Мариинское почтовое отделение, находящееся на расстоянии 8 вёрст от деревни. В данное время Клюев-сын проживает в С.-Петербурге по Усачёву пер. в д. № 16, кв. 11, у своего зятя Василия Расщеперина, служащего в каком-то судостроительном заводе в электрическом отделении. В 20-х числах сего февраля (1913 года. – С. К.) Клюев предполагает вернуться на родину.
Из всего вышеизложенного, принимая во внимание политическую неблагонадёжность Клюева-сына, является сомнение в законности источника, из коего получает Клюев деньги, а также не заключается ли в корреспонденции Клюева чего-либо преступного или, по меньшей мере, тенденциозного».
Газетная, журнальная, книжная жизнь требует своего – старания о гонорарах как единственном способе существования, которые действительно с трудом закрывают материальные прорехи. Заботы о публикациях и отзывах на книги – и хочешь не хочешь, а будешь интересоваться у издателя «Лесных былей» К. Некрасова и переизданием, и тиражом, и деньгами за него. И книги современников спрашивать будешь, дабы быть в курсе новейшей литературы, притворяясь при этом, что о Верхарне не слышал, Бальмонта почти не читал (дескать, подмогните несведущему!), да интересоваться мнением о своих стихах Ремизова, Философова да того же Михаила Кузмина… А что касается «культурных» и «некультурных» слов, то по этому поводу Клюев исчерпывающе объяснился с Виктором Миролюбовым, посылая ему для публикации в «Ежемесячном журнале» «Скрытный стих».
«…Сейчас же посылаю Вам мою новую поэму – был бы счастлив, если бы она Вам понравилась. Сложена она под нестерпимым натиском тех образов и слов, которыми в настоящее время полна деревня. Перекроить эти образы и слова так, чтобы они были по плечу людям, знающим народ поверхностно и вовсе не имеющим представления о внутреннем содержании „зарочных“, „потайных“, „отпускных“ слов бытового народного колдовства (я бы сказал, народного факиризма), которыми народ говорит со своей душой и с природой, – я считаю за великий грех. И потому в этой моей вещи, там, где того требовала гармония и власть слова, я оставлял нетронутыми подлинно народные слова и образы, которые прошу не принимать только за олонецкие, так как они (слова, наречие) держатся крепко, как я знаю из опыта, во всей северной России и Сибири. Некоторая густота образов и упоминаемых выше слов, которая на первый взгляд может показаться злоупотреблением ими, – создавалась в этом моём писании совершенно свободно по тем же тайным указаниям и законам, по которым, например, созданы индийские храмы, представляющие из себя для тонкого (на самом деле идущего не из глубин природы) вкуса европейца невообразимое нагромождение, безумное изобилие и хаос скульптур богов, тигров, женщин, слонов, многокрылых и многоликих существ…»
«Густота образов и слов» органично вплетается в былинный стих, повествующий о пришествии «на Олон-реку, на Секир-гору» – «нищей братии» разных толков и сект:
Становилася нища братия
На велик камень, со которого
Бел плитняк плитят на могилища,
Опосля на нём – внукам памятку —
Пишут теслами год родительский,
Чертят прозвище и изочину (отчество. – С. К.),
На суклин щербят кость Адамову.
«Внукам памятка» – «год родительский» и «изочина» – снова отсылают памятью к ушедшей матери, чья смерть сдвинула мироздание в сознании поэта и породила апокалиптическое ощущение близкой гибели мира сего. «Нища братия» вопиет Спасу о чудовищном преображении сущего, где живому нет места:
Во посад идти – там табашники,
На церковный двор, – всё щепотники,
В поле чистое, – там Железный Змий,
Ко синю морю – во море Чудище!
…………………………………
Запропасть от них Божью страннику,
Зверю, птичине на убой пойти,
Умной рыбице в глубину спляснуть!
Природа у Клюева одухотворена изначально – в её земной реальности, запечатлённой тонкой кистью, как в доличном иконном письме, – он прозревает явление Духа Святого и слышит неземной Глас, вешающий торжество Ума Любви над Умом Зла: «Положу препон силе Змиевой, / проращу в аду рощи тихие, / по земле пушу воды сладкие, – / чтобы демоны с человеками / перстнем истины обручилися, / за одним столом преломляли б хлеб, / и с одних древес плод вкушали бы!..» В этом пророчестве ад перестаёт быть адом и демоны теряют свою демонологическую сущность, становятся иными, то есть возвращаются к своему прежнему ангельскому состоянию, одолевая любовью зло, вошедшее в них после исторжения из райских куш… Эсхатология Оригена, Климента Александрийского, Григория Нисского, их учение об апокастасисе – о всеобщем спасении, претворении всего мира в обоженное состояние – вот что исповедовал он. И суждено молящимся старцам «по лугам идти – муравы не мять, во леса ступить – зверю мир нести…».
И рядом с этой картиной возникает другая, картина убежища мужицкой души и плоти под покровом Лика Святого, воплощённого дониконовскими иконописцами, Лика – растворённого в приметах родной земли, укрытой незримым омофором.
Посконным портам не бывает износу,
К моленной рубахе нечистый не льнёт…
Строй келью под елью оконцами к плёсу,
Где пегая зыбь и гагарий полёт.
Пречудный Андрей, что зовётся Рублёвым,
Знал пегую глубь, легкопёрость гагар,
С плакучей берёзы на злате еловом
Списал он Два Плача и Троицын Дар.
…………………………………
Олипий Печерский и Гурий Никитин
Воспели корягу в «Небесных Столпах» —
То Руси судьбина, но образ тот скрытен,
Улыбкой почив на мужицких Христах.
«Мужицкие Христы» – это не только лики на иконах. В каждом шве моленной рубахи мужицкой – Христово явление в молчании, в тайне, которую хранят заповедные клады народного слова и образа, то величие народного сказания, что дремлет до поры, когда настанет час урочный воплотиться в живое на «новой земле».
* * *
Восемнадцатого июля Николай II подписал указ о всеобщей мобилизации, а 20-го был обнародован манифест об объявлении войны Германии. Российская империя вступила в Первую мировую войну – и это стало началом конца великого государства.
Ликование подданных было беспредельным. Возле императора уже не было Столыпина, однажды спасшего Россию от вступления в балканскую войну, грозившую перерасти в мировую. Не было и Григория Ефимовича Распутина – также ярого противника войны, который был тяжело ранен в самые роковые дни женщиной, даже не знакомой с ним лично, наведённой «на нужный след» агентурой промышленников, тесно связанных с Англией и Францией и ох как заинтересованных в военной авантюре!
Их слушал император, воодушевлённый идеей помощи братьям-славянам и возможностью выйти к Черноморским проливам и водрузить православный крест над Святой Софией в Константинополе. Преодолевал тяжкие сомнения – и слушал. Гласом вопиющего в пустыне осталось пророческое послание Николаю II бывшего министра внутренних дел, члена Государственного совета Петра Николаевича Дурново: «…Начнётся всё с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнётся яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся революционные выступления… Армия, лишившаяся… за время войны наиболее надёжного кадрового состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишённые действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддаётся даже предвидению…»
Это писалось в феврале 1914 года, а через полгода в столице толпа на углу Большой Морской и Исаакиевской площади громила немецкое посольство, за использование немецкого языка людей сажали на три месяца в тюрьму или штрафовали на сумму до трёх тысяч рублей. И художник Константин Сомов записал в дневнике: «Поражение наших войск, уничтожено два корпуса, убит Самсонов (генерал Александр Васильевич Самсонов, потеряв управление войсками, застрелился 19 августа. – С. К.). Позорное переименование Петербурга в Петроград».








