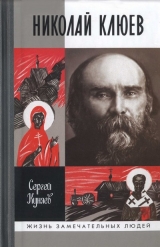
Текст книги "Николай Клюев"
Автор книги: Сергей Куняев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 51 страниц)
«Там я жил, почитай, два года царём Давидом большого Золотого Корабля, белых голубей – христов. Я был тогда молоденький, тонкоплечий, ликом бел, голос имел заливчатый, усладный».
О мистической секте христов часто говорили и писали, что возникла она под влиянием западных мистических течений, преимущественно гностического характера, в период грандиозной церковной смуты в середине XVII века в Костроме – её основателем называли Данилу Филипповича, выдававшего себя за «бога Саваофа». На самом деле оно было непосредственно связано с мистико-аскетическими и эсхатологическими движениями русского раскола, в первую очередь – с последователями Капитона Костромского и Даниила Викулова Поморского. Само по себе мистическое сектантство было тесно связано с радикальными направлениями русского старообрядчества, в частности с беспоповщиной. Сектанты называли себя «христами» и никогда – «хлыстами», говорили, что дьявол «не может выговорить слово „христы“ и поэтому говорит „хлысты“». Сам термин «христовщина» впервые появился в «Розыске о раскольнической брынской вере» Димитрия Ростовского, который описывал христовщину как отдельный раскольнический толк.
И здесь необходимо сказать, что все имеющиеся в литературе (художественной ли, «научной» ли) сведения о так называемом «свальном грехе» христов, что свершается во время радений, не имеют ничего общего с реальностью. Более того, эти радения по своей обрядово-символической природе ассоциировались со старыми староверческими «гарями», которые ко второй половине XIX века были уже крайне редки. Радение как бы символизировало и гарь, и последующий Страшный суд, перед которым предстают члены «христова корабля».
Завершается радение – и коленопреклонённые христы, ещё не отошедшие от дикой пляски, пребывающие «в духе», выслушивают пророчество главы своего. А после пророчества следует общее пение последней молитвы:
Царю, свет небесный, милосердный наш Бог,
Упование Божие, прибежище Христово,
Покровитель свят Дух в пути!
Бог с нами, с нами Бог и над нами,
За нами, пред нами! Сохрани нас, Господь,
От злых от злодеев, от лихих иудеев.
Достигнув состояния «в духе», «братья» и «сёстры» после выноса блюда с нарезанным хлебом и братины с квасом вкушали хлеб и питие, в которое был трижды погружён крест – вместо причастия Святых Таин. Подобное «причастие» было унаследовано от выговцев, которые вкушали «богородичен» хлеб, прототипом которого послужила просфора, из которой на проскомидии вынимается частица в память Богородицы… А в иных сектантских общинах, по показаниям сектантов, толковалось, что «когда в церкви поют: „Тело Христово примите“, это-де надобно петь: „дело Христово примите“, а не тело, „источника бессмертнаго в сердцах закуситя“, а святое и пречистое Тело и Кровь Христова назывались – „от земли взято, в землю и пойдёт“»… Эти воззрения нам ещё надлежит вспомнить, когда мы будем пристально вчитываться в стихи Клюева, особенно в стихи, написанные во время Первой мировой войны – перед революцией.
* * *
Клюев обозначил начало своего творческого пути как начало пути слагателя псалмов и гимнов для секты. Псалмы иудейского царя Давида, основавшего династию, недолго правившую после его смерти – в период кратковременного объединения Израиля и Иудеи, были своего рода образцом для сектантских песнеслагателей, и сам Николай в позднейшей автобиографии упоминал царя Давида в числе своих любимых поэтов, называя рядом с ним Романа Сладкопевца и Поля Верлена. Текстов его этого времени мы не знаем – и остаётся лишь верить ему на слово. Впрочем, наверняка сплошь и рядом новоявленный «Давид» перепевал на свой лад бытовавшие в сектантской среде песнопения, не отличавшиеся особой стихотворной изощрённостью. А дальше – произошло ещё одно ключевое событие в жизни поэта.
«Великий Голубь, он же пророк Золотого Корабля, Духом Божиим движимый и Иоанном в духовном Иордане крещённый, принёс мне великую царскую печать. Три дня и три ночи братья не выходили из Корабля, молясь обо мне с великими слезами, любовью и лаской ко мне. А на четвёртый день опустили меня в купель.
Купель – это деревянный сруб внутри дома; вход с вышки по отметной лесенке, которую убрали вверх. Тюфяк и подушка для уготованных к крещению набиты сухим хмелем и маковыми головками. Пол купели покрыт толстым слоем хмеля, отчего пьянит и мерещится, слух же и голос притупляются. Жёг я восковые свечи от темени, их было числом сорок; свечки же хватало, почитай, на целый день, они были отлиты из самого ярого белого воска, толщиной с серебряный рубль. Кормили же меня кутьёй с изюмом, скаными пирогами белыми, пить же давали чистый кагор с молоком.
В такой купели нужно было пробыть шесть недель, чтобы сподобиться великой печати. Что подразумевалось под печатью, я тогда не знал, и только случай открыл мне глаза на эту тайну».
И опять неизбежен вопрос: насколько точен и справедлив Клюев в устной передаче тех давних событий? Даже в скопческих сектах (не говоря уже о «христовых кораблях», где была принята эта практика) далеко не все подвергались оскоплению, а лишь те, кто достиг необходимого духовного предела. Естественно, этот шаг был абсолютно добровольным. Более того, оскопление воспринималось многими христами как экстраординарный подвиг, доступный лишь немногим, способным вернуться в безгрешное, «ангельское» состояние. А самой ритуальной операции предшествовали обряд клятвенной присяги перед иконой или крестом и прощальные слова, которые посвящающийся должен был повторить за наставником общины:
– Прости меня, Господи, прости меня, Пресвятая Богородица, простите меня, ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и вся небесная сила, прости, небо, прости, земля, прости, солнце, прости, волна, простите, звёзды, простите, озёра, реки и горы, простите, все стихии земные и небесные!
Уже одно это прощание не даёт никакого иного толкования «великой печати».
Но, опять же, если верить Николаю, известие о «великой царской печати» он принял за ещё более высокое посвящение, за инициацию, позволяющую достичь ещё большей духовной высоты – и дал своё согласие. Соответствующая диета и хмельное опьянение поддерживали его в необходимом «братьям» состоянии и навевали ему сладкое предвкушение постижения тончайших энергий… Вся эта «подготовка» рухнула разом, когда, по клюевским словам, «брат» Мотя проговорился ему, что ждёт «Давида» полное оскопление, – «и если я умру, то меня похоронят на выгоне и что уже там на случай вырыта могила, земля рассыпана по окрайку, вдалеке, чтобы незаметно было; а самая яма прикрыта толстыми плахами и дёрном, чтобы не было заметно».
Мотя, тронутый слезами Николая, указал ему на новое бревно внизу срубца, которое можно расшатать и выбраться наверх. «И я, наперво пропихав свою одежду в отверстие, сам уже нагишом вылез из срубца в придворок, а оттуда уже свободно вышел в конопляники и побежал куда глаза глядят. И только когда погасли звёзды, я передохнул где-то в степи, откуда доносился далёкий свисток паровоза».
Но не естественнее ли предположить, что Клюев изначально знал, на что идёт, – и лишь в «купели» обуял его дикий страх, и он уговорил со слезами своего нового «брата» помочь ему бежать… Так бывает, что поначалу гордыня в предвкушении «высшего совершенства» захлёстывает иного человека, а когда воочию осознаётся плата, которую придётся принести за это «совершенство», – не у каждого хватает духу.
* * *
Хронологию этих лет жизни нашего героя практически невозможно расписать – о событиях, причудливо перемежающихся в сознании поэта, мы знаем только с его слов. Не представляется возможным определить, в частности, хотя бы приблизительную дату одной из его встреч со Львом Толстым, о которой Клюев рассказал в той же «Гагарьей судьбине»: «За свою песенную жизнь я много видел знаменитых и прославленных людей. Помню себя недоростком в Ясной Поляне у Толстого. Пришли мы туда с рязанских стран: я – для духа непорочного, двое мужиков под малой печатью и два старика с пророческим даром».
«Двое мужиков под малой печатью» – скопцы с неполностью удалёнными органами (ядрами), а два старика, надо полагать, – руководители общины, считавшиеся пророками у единоверцев.
«Толстой сидел на скамеечке, под верёвкой, на которой были развешаны поразившие меня своей огромностью синие штаны.
Кое-как разговорились. Пророки напирали на „блаженни оскопившие себя“. Толстой торопился и досадливо повторял: „Нет, нет…“ Помню его слова: „Вот у вас мальчик, неужели и его по-вашему испортить?“ Я подвинулся поближе и по обычаю радений, когда досада нападает на людей, стал нараспев читать стих: „На Горе, Горе Сионской…“, один из моих самых ранних Давидовых псалмов. Толстой внимательно слушал, глаза его стали ласковы, а когда заговорил, то голос его стал повеселевшим: „Вот это настоящее… Неужели сам сочиняет?..“
Больше мы ничего не добились от Толстого. Он пошёл куда-то вдоль дома… На дворе ругалась какая-то толстая баба с полным подойником молока, откуда-то тянуло вкусным предобеденным духом, за окнами стучали тарелками… И огромным синим парусом сердито надувались растянутые на верёвке штаны.
Старые корабельщики со слезами на глазах, без шапок шли через сад, направляясь к просёлочной дороге, а я жамкал зубами подобранное под окном яснополянского дома большое, с чёрным бочком яблоко.
Мир Толстому! Наши корабли плывут и без него».
Уже после революции Клюев рассказывал переплётчику Вытегорской типографии М. Каминеру о том, что он посетил Ясную Поляну весной 1910 года, то есть незадолго до ухода и смерти Толстого. В изложении Каминера это выглядит так:
«Приехали туда, идёт по дорожке, женщину встретил простую.
– Дома ли граф?
– Дома.
– А графиня?
– Ох, наша графинюшка в одной оранжевой юбке скачет…
Вышел к нему Толстой.
– Здравствуйте, Лев Николаевич, – сказал Клюев.
И тот ответил:
– Здравствуйте, брат Николай».
Это больше напоминает вторую встречу уже знакомых людей, но ни о каком продолжении столь «содержательного» разговора нет и речи ни в воспоминаниях переплётчика, ни, судя по всему, в рассказе самого Клюева. Зато первая встреча чрезвычайно любопытна.
Состоялась она, как видно, ещё до бегства Клюева из секты, когда он был ещё «недоростком». Про «рязанские страны», то есть про Данковский уезд Рязанской губернии, где он продолжал общение с христами, Николай вспоминал и позже… А мимо Толстого эти «религиозные диссиденты» пройти не могли – поздний Толстой, автор «Исповеди» и трактата «В чём моя вера?» подобных персонажей притягивал к себе, словно магнит. О помощи Толстого духоборам хорошо известно, менее известно о его контактах со скопцами, в частности, о переписке со скопцом Г. П. Меньшениным, которому Толстой писал 31 декабря 1897 года: «Насильственное или даже добровольное оскопление противно всему духу христианского учения». А встретившись через десять с лишним лет, незадолго до смерти, со скопцом А. Я. Григорьевым, заявил, «что он с ним сходится, кроме оскопления», как указано в «Яснополянских записках» Д. Маковицкого. Так что слова Толстого, запомнившиеся Клюеву, полностью согласуются по смыслу с мнениями «второго царя России» по сему вопросу.
Но куда интереснее детали толстовского обихода, которые подмечает Клюев в Ясной Поляне! И «толстая баба с полным подойником молока», и «вкусный предобеденный дух», несущийся из открытых окон дома, где «стучали тарелками», и яблоко «с чёрным бочком», который грыз «недоросток», не приглашённый, как и его спутники, к обеденному столу (сектанты соблюдали строжайший пост, и можно себе представить, как временами мучился от него Николай!) – всё это произвело на него куда большее впечатление, нежели отказ Толстого согласиться со скопческим «блаженством», отчего слёзы выступили на глазах у старых корабельщиков… Толстой – моралист и проповедник опрощения и обращения к «простому трудовому народу», о чём вещал в «Исповеди», – в его глазах предстал человеком, совершенно не соответствующим тому образу, который, судя по всему, был вымечтан.
Впрочем, в той же «Исповеди», распространявшейся по России в списках, и сам Толстой со своей колокольни объяснял подобные «несовпадения»: «По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда, никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первых. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большею частию встречалось в людях тупых, жестоких и безнравственных и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравственность большею частью встречались в людях, признающих себя неверующими».
…А самое запоминающееся – огромные синие штаны, которые «сердито надувались… синим парусом». «Христов корабль» плыл под своим парусом – незримым для всех, кроме «белых голубей», – и нежные видения, запечатленные в христовых песнопениях, навсегда отложились в памяти Николая.
Уж по морю житейскому,
Как плывёт, плывёт тут лёгкий корабль,
Об двенадцати тонких парусах,
Тонкие парусы – то есть Дух Святой;
Как правил кормщик – сам Иисус Христос,
В руках держит веру крепости,
Чтобы не было, братцы, лепости;
Уж вокруг его все учители,
Все учители, все пророки…
Это вам не штаны-паруса, под которыми плывёт толстовский «корабль»… Поистине мир Толстому!
Пройдут годы после этой встречи, и Россия, и весь мир будут потрясены уходом Толстого из Ясной Поляны и его смертью на станции Астапово. И Клюев в журнале «Новая земля» опубликует «Притчу об источнике и о глупом мудреце» – ответ Михаилу Арцыбашеву, автору скандальных и до предела циничных «Записок о Толстом», появившихся в «Итогах недели», – где дал яркий и пророческий портрет того, кто слыл «большим умником» и посему вознамерился испоганить источник чистой воды… Притча эта завершается словами верующих, обращённых к сему «мудрецу»: «Пустой человек, ты не только осквернил себя наружно, вымазавшись навозом, но и внутренне показал своё ничтожество, сходив в источник „до ветра“. Пёс, и тот брезгует своей блевотины, а ты ведь человек, к тому же и умом форсишь… Источник не может быть опоганен чем-либо, – вода в нём прохладная, да и жила глубоко прошла. Она неиссякаема и будет поить людей вовеки».
Тогда же в той же «Новой земле» Клюев напечатает рецензию на только что вышедшие книги Толстого «Бог» и «Любовь», вернее, не рецензию, а стихотворение в прозе, навеянное чтением этих книг: «Миллионы лет живы эти слова, и как соль пишу осоляют жизнь мира. Исчезали царства и народы, Вавилоны и Мемфисы рассыпались в песок, и только два тихих слова „Бог и Любовь“ остаются неизменны… Два тихие слова „Бог и Любовь“ – две неугасимых звезды в удушливой тьме жизни, мёд, чаще тёрн в душе человечества, неизбывное, извечное, что как океан омывает утлый островок нашей жизни, – выведет нас „к Материку желанной суши“».
Это писалось уже в преддверии выхода первой книги «Сосен перезвон», где были собраны стихи, в большинстве своём рождавшиеся на фоне эпистолярного общения с Александром Блоком.
…А что из себя представлял клюевский, «из самых ранних» Давидов псалом, мы не знаем и лишь можем предположить, что это была вариация на один из многочисленных христовских гимнов, где воспевалось совместное радение с воскресшими Христом, Саваофом и Богородицей.
На горе, горе, на Сионской горе
Стоит тут церковь апостольская,
Апостольская, белокаменная,
Белокаменная, златоглавая.
Как во той ли во церкви три гроба стоят,
Три гроба стоят кипарисовые.
Как во первом во гробе Богородица,
А в другом во гробе Иоанн Предтеч,
А в третьем гробе сам Иисус Христос.
Как над теми гробами цветы расцвели;
На цветах сидят птицы райские,
Воспевают они песни архангельские.
А с ними поют все ангелы,
Все ангелы со архангелами,
С серафимами, с херувимами
И со всею силою небесною…
Под это ангельское пение встаёт из гроба Богородица, за ней – Иоанн Предтеча и ставит «людей божиих во единый круг на радение», а сам скачет и «играет по Давыдову»; встал Иисус Христос и «поскакал в людях божиих»… Вариаций на тему Воскресения и сошествия «с небеси Духа Святого» на благоверных было множество, и авторство этих гимнов давным-давно утеряно…
Глава 2
«СОЦИАЛИСТ-РЕВОЛЮЦИОНЕР»
Пока Николай путешествовал, его родные устраивали свою земную, обыденную жизнь. Сестра Клавдия по окончании гимназии работала с 1898 года учительницей в Суландозёрском земском училище Кондушской волости. К началу 1905 года она, по свидетельству Василия Фирсова, «как видно, окончательно рассталась с учительской работой». Брат Пётр служил по почтовому ведомству сперва в селе Вознесенье Оштинской волости Лодейнопольского уезда, а затем – в Федовском почтово-телеграфном отделении в деревне Федово Каргопольского уезда.
Николай же, вернувшись домой, жил на иждивении отца – сидельца казённой винной лавки в Желвачёве. Помогал по хозяйству, но, видно, больше времени проводил за чтением книг – старых и новых, был погружён в себя, о чём-то непрестанно размышлял. Время от времени отправлялся в путешествия по Вытегорскому уезду и за его пределы. Обзаводился новыми знакомствами – уже из среды сосланных в Олонецкую губернию, в том числе и с Кавказа (революционную социалистическую литературу, как свидетельствовал Владимир Бонч-Бруевич, распространяли по Руси и сектанты, которыми живо интересовался Ленин). С земляками-вытегорами ездил в Санкт-Петербург, где они – охотники и рыболовы – сбывали свой товар, а он налаживал первые связи с литературной средой, показывал свои робкие стихотворные опыты.
Одно из таких стихотворений (в первой редакции) переписала своей рукой сестра Клюева Клавдия и отослала графологу Константину Владимирову, который помещал в периодике объявления с обещаниями дать характеристику личности по почерку. Клавдия (как и многие другие) отозвалась на это заманчивое приглашение. Так в архиве графолога и сохранился этот весьма банальный и непритязательный текст.
Люблю мечтой переноситься
В тот чудный и волшебный край,
Где юность вечно веселится
И на земле находит рай.
Но только радужные грёзы
Успеет кто-либо отвлечь,
Опять везде я вижу слёзы
И хочется в могилу лечь.
Пройдут годы – и масон, чекист, мистик Константин Владимиров на основе анализа почерка самого Клюева нарисует его психологический портрет: «Сильная впечатлительность, нервность, громадный подъём духа. Возвышенность и аристократизм. Благородство в способах мышления… Страстное желание объять по возможности шире мир. Когда Вы творите – то священнодействуете. Кротость – милосердие, снисхождение. Серьёзное сознание долга. Пылкость чувств, идеализм… Сознание своего нравственного достоинства в соединении со скромностью… Любовь к мудрости… Смиренномудрость, способность чувствовать грозу, но не бояться её… Строгое охранение своего внешнего и духов(ного) облика… Национализм – фетиш Вашего ego… Отсутствие умения отстоять свои личные интересы. По временам мистическое увлечение… Честность, добросовестность… Символом В(ашего) творчества является Тишина и покой – в понимании голоса безмолвия Вы найдёте ито<говый> угол творчества, и в этой сфере Вы будете первым номером».
И тогда же Клюев надпишет ему первую книгу своего «Песнослова»: «Константину Константиновичу Владимирову память чистых слов о Руси Корсунской, о живых путях, что ведут в хризопраз-камень на нём же имя, которого не знает никто, кроме того, кто получает».
Что говорить – этот противоречивый и в некоторых отношениях достаточно таинственный человек лучше многих почувствовал и понял Клюева как личность. Лучше многих других, самоуверенных в своём «понимании»…
Не годы – десятилетия пройдут. А тогда, в самом начале века, неизвестно как вышел Николай на издателя Н. Иванова, который поместил два его стихотворения в сборнике «Новые поэты» в 1904 году. Во всяком случае, первая публикация двадцатилетнего поэта отнюдь не выделялась на общем фоне многочисленных стихотворений того времени – ни сентиментальной жалостливой интонацией, ни словарём, в котором преобладают общеупотребительные «поэтизмы». Видно, что Клюев ещё только нащупывает свою дорогу и, естественно, начинает с повторения уже отработанных мотивов одиночества «среди житейской суеты», гибели «идеалов красоты» и «юных стремлений». Такова была и новая редакция сохранившегося у Владимирова стихотворения. Впрочем, одна строфа обращает на себя внимание:
Мне нужно вновь переродиться,
Чтоб жить, как все, – среди страстей.
Я не могу душой сродниться
С содомской злобою людей.
«Мне нужно вновь переродиться…» Это уже предощущение собственной протеевской сущности и свойства менять облик, как позже сформулирует Клюев, «быть в траве зелёным, а на камне серым…». Ему уже не единожды приходилось «перерождаться» – из монастырского послушника – в хлыста, из хлыста – в «отреченного», из послушного сына – в непокорную «тварь»… Теперь предстоит новое «перерождение», – «чтоб жить, как все, – среди страстей…». Только его «страсти» – иной природы, чем общечеловеческие. И невозможность сродниться «с содомской злобою людей» – для него, вечнообвиняемого позднее в содомском грехе, узревшего подлинный содом в человеческих взаимоотношениях в «миру» и осудившего его в своей душе, – уже как бы провозвестие грядущей судьбы: он будет со многими – и до конца не будет ни с кем, он будет менять социальные роли (отнюдь не маски!) на противоположные тем, в которых выступал ранее, – и останется по сути с самим собой.
…Поэтический дебют совпал с дебютом революционным. Русская деревня бурлила, как перекипевший котёл. Клюев был не просто захвачен этой волной – он мечтал о революции, творимой «всёвыносящим народом», который «факел свободы зажжёт», и исчезнет «кошмар самовластья», и земля, и леса станут Божьими и принадлежать будут народу – Божьему телу… И он сам, «не раб, а орёл», готов вместе с «братьями» петь «новые песни» и слагать «новые молитвы».
Но не стоном отцов
Моя песнь прозвучит,
А раскатом громов
Над землёй пролетит.
Не безгласным рабом,
Проклиная житьё,
А свободным орлом
Допою я её.
Чисто кольцовский размер, и кажется, что для Клюева Кольцов и стал поначалу поэтическим ориентиром… Так – да не так. В стихах 1905 года Клюев использует образы и мотивы и Леонида Трефолёва, и Петра Якубовича (а источник стихотворения «Безответным рабом…» – трефолёвская «Наша доля – наша песня», посвящённая памяти Ивана Захаровича Сурикова, на что указал Сергей Субботин). Использует, не подражая, а вплетая в свой текст, подобно тому как древнерусские книжники вплетали в свои тексты скрытые цитаты из Писаний и Псалтири.
О «Велесовом первенце» Кольцове Клюев вспомнит позже как о насельнике поэтического вертограда – наравне с Пушкиным, «яровчатым Меем» и Никитиным… Но пройдёт ещё несколько лет, и для «Велесова первенца» найдутся уже совсем другие слова – слова отчуждения.
«Кольцов – тот же Венецианов: пастушок играет на свирели, красна девка идёт за водой, мужик весело ладит борону и соху; хотя от века для земледельца земля была страшным Дагоном: недаром в старину духу земли приносились человеческие жертвы. Кольцов поверил в крепостную культуру и закрепил в своих песнях не подлинно народное, а то, что подсказала ему усадьба добрых господ, для которых не было народа, а были поселяне и мужички.
Вера Кольцова – не моя вера, акромя „жаркой свечи перед иконой Божьей Матери“».
…«Вольнолюбивые» и ещё не самостоятельные по интонации и подбору слов стихи появляются в сборниках, выпускаемых «Народным кружком», – «Волны» и «Прибой». «Народный кружок» возглавлял участник «Суриковского литературно-музыкального кружка» П. А. Травин, которому Клюев посылал эти свои первые стихотворения. Позже Иван Белоусов, близкий к «суриковцам», вспоминал, что клюевские стихотворения предназначались также для сборника «Огни», который был изуродован цензурой и так и не вышел в свет. В частности, цензорский карандаш погулял и по стихам Клюева.
Пусть я в лаптях, в сермяге серой,
В рубахе грубой, пестрядной,
Но я живу с глубокой верой
В иную жизнь, в удел иной!
Века насилья и невзгоды,
Всевластье злобных палачей
Желанье пылкое свободы
Не умертвят в груди моей!
Наперекор закону века,
Что к свету путь загородил,
Себя считать за человека
Я не забыл! Я не забыл!
Вторая строфа и последняя строчка были вымараны, а из стихотворения «Мужик» цензор удалил четыре строфы из пяти.
К этому же времени относятся и первые стихи, в которых явятся образы волн и морской пучины. Навеяны они были и гибелью крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» (стихотворение «Плещут холодные волны…» о матросе молодом, «замученном братской рукою», так прямо и воспроизводит мотив знаменитой песни Я. Репнинского, посвящённой «Варягу», и первая строка оттуда), и известием о восстании на броненосце «Потёмкин» и о матросских бунтах на кораблях в Балтийском море. Есть и ещё один источник этого стихотворения – баллада, певшаяся в те годы поморами и крестьянами Русского Севера о капитане, убитом матросами и внезапно воскресшем, и направившем корабль на рифы.
И волны корабль рассекает,
Послушный движеньям руля.
Смеркается, ночь наступает,
Вдали показалась земля.
Там мрачно чернеют утёсы
Сквозь серый вечерний туман,
Вдруг в ужасе видят матросы:
На мостике встал капитан…
Но не капитан, а матрос гибнет в стихотворении Клюева, лишённом всяческой мистики, матрос, замученный «за дело святое», убитый «своим же собратом, казнён на родном корабле»… И позже Николай будет по-своему обрабатывать чужие тексты, превращая их в собственные творения, с потаёнными смысловыми перекличками, что даст повод многочисленным завистникам и недоброжелателям перешёптываться о возможном «плагиате».
Стихотворение «Матрос», впервые опубликованное лишь в 1919 году во втором томе «Песнослова», и по интонации, и по словарю относится именно к этому времени, – времени первых собственно стихотворных опытов.
Рыдает холодное море,
Молчит неприветная даль,
Темна, как народное горе,
Как русская злая печаль.
Не только в стихах отдавался Клюев революционным порывам. Обходя Олонецкую губернию, он раздавал прокламации, произносил зажигательные речи – и этим не ограничивались его действия, в полном смысле этого слова преступные по критериям тогдашней власти. О своей подпольной деятельности в Олонии Николай отчитывался в живописных подробностях в письме «Политическим ссыльным, препровождаемым в г. Каргополь Олонецкой губернии»: «Я отдал всё, что имел, не пожалев себя и бедных старых родителей – добиться удалось: обложить Пятницкое общество Макачевской волости сбором в 5 коп. с души (немаленькая сумма по тем временам! – С. К.) в пользу Кр<естьянского> союза, постановить приговор с требованием Учредительного собрания (приговор отослан Царю), отменить стражников, отобрать церковную землю и все сборы отменить, приобрести 9–11 ружей, сменить старшину, писаря, место которого заменял я – только 2 месяца. Всё дело велось больше года, и я успел за это время раздать больше 800 прок<ламаций>, получен<ы> все от бюро содействия Кр<естьянскому> союзу…» Если ещё учесть, что далее следует упоминание об известии, «что в Петербург благополучно провезены из Финляндии 400 ружей и патроны, это известие я получил 17 февраля (1906 года. – С. К.)», то вырисовывается портрет форменного активного заговорщика против самодержавия, готового действовать с оружием в руках… Впрочем, тут всё не так однозначно, если учесть, что начинается это письмо фразой «Я, Николай Клюев, за Крестьянский союз и за все его последствия», а заканчивается подписью «С<оциалист>-Р<еволюционер>».
Крестьянский союз… Это была весьма загадочная организация, и исследователи долго не могли прийти к однозначному выводу – кто стоял у её истоков, кто вёл агитацию на местах и кто созывал и финансировал её съезды. Естественнее и проще всего было бы напрямую связать происхождение Всероссийского крестьянского союза с партией эсеров, тем паче что эсеры, создавая свои организации в многочисленных губерниях Российской империи, делали себе всевозможную рекламу и создавали собственные «крестьянские союзы». Сам же Всероссийский крестьянский союз был создан неонародниками для решения совершенно конкретных, локальных задач, стоящих перед крестьянским миром, в его создании принимали участие и земство, и часть бюрократии, и определённые силы от либеральной оппозиции – соответственно Всероссийский крестьянский союз не предполагал ни аграрного, ни какого-либо иного террора, что составляло смысл всей деятельности эсеров. Тем не менее все «насущные задачи» в процессе создания этой организации перекрыла одна-единственная: требование «земли и воли». Причём если социал-демократы требовали вернуть крестьянам часть земли, что была отрезана у них в ходе реформы 1861 года, дабы не произошло насильственной ликвидации всех помещичьих землевладений, что, по их мнению, ослабляло развитие капитализма на селе и архаизировало сельское хозяйство, – то эсеры настаивали на социализации – передаче земли в распоряжение земельных обществ. И Клюев, подписавшийся «Социалист-революционер», был, безусловно, на их стороне, хотя и не входил формально в саму эсеровскую партию.
Самыми смелыми по тем временам были именно эсеры, в руководстве которых заправлял, в частности, племянник Петра Столыпина Алексей Устинов, и анархисты, партию которых украшал своим присутствием, в частности, князь Хилков.
Очень скоро бывшие союзники станут непримиримыми врагами – но пока… они делают одно дело.
Слегка ошарашивает «р-р-революционный настрой» тогдашней творческой интеллигенции. По-настоящему совестливых людей, подобных Льву Толстому (впрочем, он сам никогда бы не назвал себя интеллигентом) или Александру Блоку, в этой среде было не много. Народолюбие этой публики в большей мере было «оппозиционно-карнавальным», отдавало модным «модерном» – тем более напыщенно-фальшиво и одновременно устрашающе звучали стихотворные декларации Константина Бальмонта о «сознательных смелых рабочих», Валерия Брюсова о «грядущих гуннах» или садомазохистское выступление Сергея Дягилева в журнале «Весы»: «Я совершенно убедился, что мы живём в страшную пору перелома, мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть новой культуре, которая возьмёт от нас то, что останется от нашей усталой мудрости… Мы – свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой, неведомой культуры, которая нами возникнет, но и нас же отметёт. А потому, без страха и недоверья, я подымаю бокал за разрушенные стены прекрасных дворцов, так же как и за новые заветы новой эстетики».
Но когда думаешь о деяниях и вообще о судьбе подобных «юношей бледных со взором горящим», непреклонных в своём фанатизме «херувимов» (как вспоминал тот же Егор Сазонов, террорист Иван Каляев внешне напоминал Сергия Радонежского с картины М. В. Нестерова) – легче не становится. Тот же Егор Сазонов перед покушением на министра внутренних дел Плеве вдохновлялся и набирался сил в постели отъявленной блудницы, хорошо известной в декадентских кругах – Паллады Богдановой-Бельской. Вдохновился…








