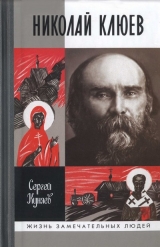
Текст книги "Николай Клюев"
Автор книги: Сергей Куняев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 51 страниц)
Как на это ли жито багровое
Налетели птицы нечистые —
Чирея, Грызея, Подкожница,
Напоследки же птица-Удавница.
Возлетала Удавна на матицу,
Распрядала крыло пеньковое,
Опускала перище до земли.
Обернулось перо удавной петлёй…
Если вспомнить «серых нетопырей», что «мешали спать и жить» поэту из некролога Николая Тихонова, то выходит, что «детинушка себя сразил», да не сам себе петлю на шею накинул… «Птицы нечистые» – не из старых ли славянских мифологических сказаний, где бесицы-трясавицы, дщери Иродовы – Трясея, Огнея, Ледея, Коркуша, Невея – мучают человека смертными болезнями и сводят его со света? Существа, исполненные зла, пирующие на чужой крови – не те ли, кого встретил Клюев в «Англетере», и кто уже начал пробавляться в печати мерзким словечком «есенинщина» – прямым производным от князевской «клюевщины»? Древние мифы и живая, кровавая современность сливаются воедино.
А лебедь белая – символ неба, верховного божества, передатчик человеческой души из мира живых в мир мёртвых – несёт «душу убойную» в хризопрасе-камне не в царство смерти, где, мнится Клюеву, уготованы ей вечные муки, а «под окошечко материнское». Его, клюевская, лебедь спасает душу неприкаянную Серёженьки после гибели! «Прорастёт хризопрас берёзынькой, кучерявой, росной, как Сергеюшко»… Как берёзкой чистой, белой пришёл в город, так и после кончины берёзкой расти будет…
Заклинает Клюев земные и небесные силы, заклинает божества и чертей в аду – дабы не отдавали собрата на мучения посмертные после всего перенесённого в жизни… Матушка его поёт сгинувшему, обращённому в берёзыньку, колыбельную, а сам Клюев завершает свой «Плач» неторопливой лирической песней, где слышен голос спасённого «Сергеюшки», где отзываются его зимние мелодии последних стихов – «снежная замять дробится и колется» – и любимый кот выглядывает с лежанки, и дед из старого стихотворения улыбается в бороду… И слышится хрипловатое, немного срывающееся, есенинское: «Приемлю всё, как есть, всё принимаю. Готов идти по выбитым следам…» Всё принимает и его живой ещё старший собрат, сумевший, мнится, совершить невозможное…
Падает снег на дорогу —
Белый ромашковый цвет,
Может, дойду понемногу
К окнам, где ласковый свет,
Топчут усталые ноги
Белый ромашковый цвет.
……………………
Жизнь – океан многозвенный —
Путнику плещет вослед.
Волгу ли, берег ли Роны —
Всё принимает поэт…
Тихо ложится на склоны
Белый ромашковый цвет.
Два небольших отрывка из «Плача о Сергее Есенине» были напечатаны в «Красной газете», а в следующем, 1927 году поэма вышла отдельным изданием с предваряющей её большой статьёй Павла Медведева «Пути и перепутья Сергея Есенина», который писал, в частности: «Это – именно плач, подобный плачам Иеремии, Даниила Заточника, Ярославны, князя Василька. В нём личное переплетается с общественным, глубоко интимное с общеисторическим, скорбь с размышлением, нежная любовь к Есенину со спокойной оценкой его жизненного дела, одним словом – лирика с эпосом, создавая сложную симфонию образов, эмоций и ритмов… На „Плаче“ лежит печать огромного своеобразия и глубокой самобытности…»
Надо сказать, что в данном случае статья Медведева служила неким «конвоиром» клюевской поэмы. Но спасти от цензурного вмешательства поэму не удалось. Из текста были исключены три строфы:
Для того ли, золотой мой братец,
Мы забыли старые поверья, —
Что в плену у жаб и каракатиц
Сердце-лебедь растеряет перья,
Что тебе из чёрной конопели
Ночь безглазая совьёт верёвку,
Мне же беломорские метели
Выткут саван – горькую обновку.
Мы своё отбаяли до срока —
Журавли, застигнутые вьюгой.
Нам в отлёт на родине далёкой
Снежный бор звенит своей кольчугой.
Лишь последнюю из них удалось напечатать, поставив вторым эпиграфом к «Плачу».
А незадолго до издания поэмы Клюев, выступавший практически на всех вечерах, посвящённых памяти Есенина в Ленинграде (он ничего не рассказывал, только читал стихи – и уходил), прочёл её вместе с другими стихотворениями 10 января 1927 года на вечере в ленинградском Большом драматическом театре. На вечере, где Борис Эйхенбаум вещал, что «поэзия Сергея Есенина – великого национального поэта – путь от литературы к жизни, трагически неудавшийся… Нам дорога не поэзия Есенина сама по себе, но следы его судьбы в ней – судьбы, чей смысл близок каждому из нас…». Воронский, отвечая Эйхенбауму, заявил: «Поэта обвиняют в упадочничестве. Но его поэзия полна тяготения и сочувствия к простым вещам и людям, с чего, собственно, и начинается любовь к жизни… В чём трагедия Есенина? В том, что отдал „жизнь за песню“…» Само собой, «поэт, конечно, не сработался с советской общественностью, но он делал громадные усилия, чтобы пойти ей навстречу и принять в ней органическое участие… Столкновение есенинской песни с собой загубило в Есенине человека…». А репортёр, освещавший вечер, подвёл своеобразный итог: «Символ судьбы поэта только сгустился. Пристрастия, находящиеся на границе с легендой, только плотнее облегли его имя. Ещё сильно пахнет елеем и фимиамом…»
Замечательное по-своему воспоминание о чтении «Плача о Сергее Есенине» оставила Ольга Форш, назвав чтение Клюева «неслыханными поминками… по ушедшему самовольно другу».
«На поминальном вечере зал был полон и взволнован отвратительно. На зрителях – нездоровый налёт садизма. Пришли не ради поэзии, а чтобы на даровщинку удобно, но в меру остро поволноваться, замирая от стихов, за которые не они заплатили жизнью…
Настал черёд и Микулы. Он вышел с правом, властно, как поцелуйный брат, пестун и учитель. Поклонился публике земно – так дьяк в опере кланяется Годунову. Выпрямился и слегка вперёд выдвинул лицо с защуренными на миг глазами. Лицо уже было овеяно песенной силой. Вдруг Микула распахнул веки и без ошибки, как разящую стрелу, пустил голос.
Он разделил помин души на две части. В первой его встреча юноши-поэта, во второй – измена этого юноши пестуну, старшему брату и себе самому.
Голосом, уветливым до сладости, матерью, вышедшей за околицу встретить долгожданного сына, сказал он своё известное слово о том, как
С Рязанских полей коловратовых
Вдруг забрезжил конопляный свет.
Ждали хама, глупца непотребного,
В спинжаке, с кулаками в арбуз,
Даль повыслала отрока вербного,
С голоском слаще девичьих бус.
Ещё под обаянием этой песенной нежности были люди, как вдруг он шагнул ближе к рампе, подобрался, как тигр для прыжка, и зашипел язвительно, с таким древним, накопленным ядом, что сделалось жутко.
Уже не было любящей, покрывающей слабости матери, отец-колдун пытал жестоко, как тот, в „Страшной мести“, Катеринину душу за то, что не послушала его слов. Не послушала, и вот —
…На том ли дворе, на большом рундуке,
Под заклятою чёрной матицей,
Молодой детинушка себя сразил…
Никто не уловил перехода, когда он, сделав ещё один мелкий шажок вперёд, стал говорить уже не свои, а стихи того поэта, ушедшего.
Чтобы воочию представить уже подстерегавшую друга гибель, Микула говорил голосом надсадным, хриплым от хмеля.
И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое…
Было до тонкой верности похоже на голос того, когда с глухим отчаянием, ухарством, с пьяной икотой он кончил:
Ты Рассея моя… Рас… сея…
Азиатская сторона.
С умеренным вожделением у публики было кончено. Люди притихли, побледнев от настоящего испуга. Чудовищно было для чувств обывателя это нарушение уважения к смерти, к всеобщим эстетическим и этическим вкусам.
Микула опять ударил земно поклон, рукой тронув паркет эстрады, и вышел торжественно в лекторскую. Его спросили:
– Как могли вы…
И вдруг по глазам, поголубевшим, как у врубелевского Пана, увиделось, что он человеческого языка и чувств не знает вовсе и не поймёт произведённого впечатления. Он действовал в каком-то одному ему внятном, собственном праве.
– По-мя-нуть захотелось, – сказал он по-бабьи, с растяжкой. – Я ведь плачу о нём. Почто не слушал меня? Жил бы! И ведь знал я, что так-то он кончит. В последний раз виделись, знал – это прощальный час. Смотрю, чернота уж всего облепила…
– Зачем же вы оставили его одного? Тут-то вам и не отходить.
– Много раньше увещал, – неохотно пояснил он. – Да разве он слушался? Ругался. А уж если весь чёрный, так мудрому отойти. Не то на меня самого чернота его перекинуться может! Когда суд над человеком свершается, в него мешаться нельзя. Я домой пошёл. Не спал ведь – плакал».
Многие свидетели этой сцены совершенно не поняли того, что происходило на их глазах. Не поняла, естественно, и Ольга Форш.
Клюев при всей собравшейся «отвратительно взволнованной» публике вёл свой диалог с Есениным. Соединив в единое целое в определённой последовательности стихотворение «Оттого в глазах моих просинь…» и «Плач» – он дал ответ Есенина голосом Есенина. Сергей, словно вернувшийся с того света, отвечал Клюеву изнутри самого Клюева – стихами, тогда ещё, три года назад, пронзившими Николая, когда они оба выступали в Москве… Если бы зал понял, что происходит на самом деле – можно не сомневаться: в помещении театра тут же не осталось бы ни одного человека. Но никто ничего не понял – и в то же время все почувствовали: происходит что-то не то. Клюев явно внушал страх – и проще всего было обвинить его в «нарушении уважения к смерти», в том, что он «не понимает человеческого языка»… Форш почуяла, что Клюев действует «в одному ему внятном собственном праве», но суть этого «права» осталась для неё за семью печатями…
Через много лет она хотела переиздать свой «Сумасшедший корабль» в восьмитомном собрании сочинений. На этот замысел наложил своё вето всё тот же Николай Тихонов – к тому времени солидный советский сановник и депутат Верховного Совета СССР, обладающий и немалым авторитетом, и немалой властью. В письме к Форш от января 1961 года он популярно объяснил, почему выступил против переиздания этой вещи, указав на целый ряд «неудобств». И главным «неудобством» послужил здесь именно Клюев, памятное выступление которого Тихонов также лицезрел в Большом драматическом театре и, видимо, долго не мог от него отойти. «Я читал, например, про Клюева, – писал Тихонов. – Ваши страницы эти не поддаются действию времени. Они точны самой строгой точностью – художественного припечатывания действительно бывшего… Но сегодня столько подымется на тень Клюева вопросов, что уж лучше пусть она себе покоится, где нашла приют». Тихонов прекрасно знал, где именно душа Клюева нашла себе «приют». И рука его не дрогнула, когда он выводил эти строки.
…Уже в 1988 году при переиздании «Сумасшедшего корабля» к нему было предпослано предисловие, автор которого – учёная дама, разделяя взгляд Ольги Форш на писателей – героев книги, охарактеризовала Клюева в полном соответствии с мнением напуганных его современников и опасливых – наших, предпочитавших увидеть в нём что-нибудь по возможности удобное и не мешающее жить: «В духовную исступлённость Микулы, в его могучую корневую систему О. Форш вкладывает стихийную мощь мужицкого уклада, с которым рядом нет места цивилизации. В своей тысячелетней неподвижности она не хочет уступать места не только революционному настоящему, но, как показывает жизнь, не увядает и в будущем. В поисках духовного наставничества Клюева запутались многие умы молодой русской интеллигенции…» Тень Клюева встала во весь рост и, поистине, вместе с ней встала масса вопросов, на которые – хочешь не хочешь – надо было отвечать. Но сплошь и рядом многие пытались не отвечать, а отходить в сторону, процеживая отдельные характеристики с использованием фразеологии Троцкого и Князева вместе взятых.
* * *
Одновременно с «Плачем о Сергее Есенине» в июле 1926 года Клюев пишет поэмы «Заозерье» и «Деревня». По существу все эти вещи составляют единый триптих. Языческо-христианская славянская идиллия – в «Заозерье», где одухотворено каждое природное движение, и в то же время вся картина выписана словно тонкой кистью строгановского иконописца – со свойственной мастерам старой школы прозрачностью света и лёгкостью мазка. Люди и святые живут в едином мире, в полной гармонии и ладу – и в ладу с ними все явления природы и быта – и одно неотделимо от другого. Крестьянская ойкумена, та, что чаялась издавна в народных преданиях, та, за которой уходили в таинственное Беловодье русские мужики.
Всё неторопливое действие поэмы – точнее, не действие, а саму жизнь в поэме сопровождает литургия, что служит отец Алексей: «бородка – прожелть тетерья, волосы – житный сноп». За литургией незаметно сменяются времена года, и как кульминация – наступает Пасха. Воскресение Христово.
Великие дни в деревне,
Журавиный плакучий звон: —
По мёртвой снежной царевне
Церквушка правит канон.
…………………………
Христос воскресе из мёртвых,
Смертию смерть поправ, —
И у елей в лапах простёртых
Венки из белых купав.
Идиллия разрушается с гибелью поэта Руси – Сергея Есенина. Да, не на ту дорогу свернувшего, получившего своё «за грехи, за измену зыбке, запечным богам Медосту и Власу», но великого поэта… И само обрушение русской жизни предстаёт воочию в поэме «Деревня». Как смерть Настеньки – предвестие гибели керженских скитов, так смерть русского поэта – предвестие конца прежней жизни. Насколько идилличен тон в «Заозерье» – настолько он напряжён, рыкающ до срыва – в «Деревне». Кажется, что весь деревенский люд от парней (схожих то с Буслаевым Васькой, то с Евпатием Коловратом) и девок (каждая, что Ефросинья Полоцкая, Ярославна или Евдокия, Дмитрия Донского суженая), до матерей – «трудниц наших», до Бога, писанного «зографом Климом» – весь поднялся на защиту своего бытия от страшной современности, от полного её разброда и нестроения внутреннего. И рефрен воистину угрожающий:
Будет, будет русское дело,
Объявится Иван Третий —
Попрать татарские плети,
Ясак с ордынской басмою
Сметёт мужик бородою!
Это, мнится, не слишком далеко ушло от пушкинского: «Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!..» Это «ужо тебе!» – сплошь и рядом от бессилия, от невозможности сопротивляться нашествию чумной новизны. Новая эпоха железа наступает – и скрыться от неё некуда.
Ты, Рассея, Рассея матка,
Чаровая заклятая кадка!
Что там, кровь или жемчуга,
Иль лысого чёрта рога?
Рогатиной иль каноном
Открыть наговорный чан?..
Мы расстались с Саровским звоном —
Утолением плача и ран,
Мы новгородскому Никите
Оголили трухлявый срам, —
Отчего же на белой раките
Не поют щеглы по утрам?
Кажется, принесены все жертвы, какие только можно было принести, а облегчения не наступает. Меняется весь мир вокруг, замолкают птицы, деревья бегут со своих мест, «разодрав ноженьки в кровь», при виде трактора, выехавшего на ниву, железного коня, с которым «от ковриг надломятся полки…». Да не хлебом ведь единым… Жизнь старая гибнет.
И не зря в «Деревне» трактор под стать паровозу из есенинского «Сорокоуста»… И не зря «Ты Рассея, Рассея-тёща, насолила ты лихо во щи» – тут же перекликается с «Рас…сеей» Есенина из «Москвы кабацкой»… Ведь вся Русь в богохулье ударилась, и сам Клюев в стороне не стоял – и никакие мотивы не послужат оправданием. Вот и ему, как и младшему собрату, «за грехи, за измену зыбке» – доводится увидеть крушение прежнего мира, где «от полавочных изголовий неслышно сказка ушла»… Одна надежда – вернётся, когда чаша Божьего гнева переполнится.
Только будут, будут стократы
На Дону вишнёвые хаты,
По Сибири лодки из кедра,
Олончане песнями щедры,
Только б месяц, рядяся в дымы,
На реке бродил по налимы
Да черёмуху в белой шали
Вечера, как девку, ласкали!
* * *
В третьем номере журнала «На литературном посту» за 1927 год появилось «открытое письмо» члена редколлегии «Звезды» А. Зонина, который руками и ногами открещивался от публикации «Деревни» в «Звезде»: «Черносотенное стихотворение Н. Клюева, как и все другие стихи первого № Ленинградского журнала „Звезда“, принимались без меня. В настоящее время, в связи с переездом в Москву фактического участия в работах редакции „Звезды“ я не принимаю. Вместе со всеми т.и. по ВАППу я считаю напечатание стихов Клюева в марксистском журнале недопустимым».
Не единожды потом задавались читатели и исследователи вопросом: каким чудом «Заозерье» и «Деревня», которую вполне можно было проинтерпретировать как политическую прокламацию в тех условиях – вообще попали в печать, когда «Заозерье» было опубликовано в сборнике «Костёр», а «Деревня» – в журнале «Звезда»?
Объяснение этому есть. И оно может показаться достаточно неожиданным.
Ещё при Зиновьеве с помощью Ионова Клюев начал печататься с осени 1925 года в «Красной газете». Ионов буквально «выжимал» из него «новые песни» – «волчий брёх и вороний грай»… Николай взялся-таки за «советскую тематику», но не брехал и не граял. Он нашёл единственный и самый точный ход – «новые песни» пелись от имени нового поколения, той молодёжи, что вошла в жизнь с Октябрём – и иной жизни себе не представляла.
В результате его стихи, насыщенные реалиями новой жизни, обретали куда более полную интонационную завершённость и смысловую убедительность, чем километры виршей на ту же тему множества пролетарских и комсомольских поэтов. Даром поэтического перевоплощения Клюев владел, как мало кто.
Ты мой чумазый осьмилеток,
Пропахший потом боевым.
Тебе венок из лучших веток
Плетут Вайгач и тёплый Крым.
Мне двадцать пять, крут подбородок
И бровь моздокских ямщиков,
Гнездится красный зимородок
Под карим бархатом усов.
Эти стихи ещё вязались интонационно и тематически с его прежними выступлениями, с прославлением «красных орлов». Но Клюев шёл ещё дальше. Он пел от имени пролетария – классическим пушкинским ямбом и пушкинскими же словами.
Друзья, прибой гудит в бокалах
За трудовые хлеб и соль,
Пускай уйдёт старуха-боль
В своих дырявых покрывалах…
Друзья, прибой гудит в бокалах!
Нам труд – широкоплечий брат
Украсил пир простой гвоздикой,
Чтоб в нашей радости великой,
Как знамя, рдел октябрьский сад…
Нам труд – широкоплечий брат.
И всё это Клюев печатал в «Красной газете» – вместе с «Железом», перепечатанным из «Львиного хлеба». Кажется, ни у одного поэта того времени нет столь взаимоисключающих друг друга публикаций на страницах одной и той же газеты.
После свержения Зиновьева и «вокняжения» в Ленинграде Кирова главным редактором «Красной газеты» и ближайшим соратником нового партсекретаря стал Пётр Иванович Чагин (с Кировым они были в одной «связке» ещё в Баку). Чагин рассчитывал стать надёжной опорой для собиравшегося переехать в Северную Пальмиру на постоянное место жительства Сергея Есенина. И Киров, по его воспоминаниям, собирался взять над Сергеем «шефство», точнее, продолжить его, начавшееся всё в том же Баку… Свершившаяся трагедия была для них настоящим ударом. Не успели…
Чагин знал о Клюеве как о друге и учителе Есенина. Нет ни малейших оснований говорить, что он, убеждённый коммунист, хоть в малейшей степени разделял идеи Клюева. Но судьба распорядилась так, что ближайший есенинский друг, тем паче пишущий и печатающий «новые песни», оказался под его покровительством. Клюев обращался к Чагину с просьбой напечатать «самые простые и любопытные для вечернего читателя (читателя „Вечерней Красной Газеты“. – С. К.) стихи». И если не появлялись они в газете, то по рекомендации Чагина печатались (если их можно было напечатать) в других местах.
Чагин дал Клюеву своеобразный «карт-бланш» – ленинградские газеты, журналы, сборники в эти два года принимали практически всё, что выходило из-под клюевского пера. Николай приобрёл такую известность, как полноправный советский поэт, что напечатался даже у Вороне кого в «Прожекторе». Памятуя о словах, что ему, редактору, нужны «рыжие», которые ломались бы в его цирке бесплатно, поднёс горькую пилюлю, которую Воронский ничтоже сумняшеся проглотил. В цикле «Новые песни» вторым шло стихотворение, написанное от имени «кузнеца Вавилы» (одно из любимых клюевских мужских имён). Запев – лучше некуда, все «комсомольцы» и «пролетарии» обзавидуются.
По мозольной блузе
Всяк дознать охоч:
Сын-красавец в вузе,
В комсомоле дочь.
Младший пионером —
Красногубый мак…
Дедам-староверам
Лапти да армяк.
Ленинцам негожи
Посох и брада,
Выбродили дрожжи
Вольного труда.
«В художнике, как в лицемере, таятся тысячи личин…» – напишет он позже. Здесь он поворачивался к своим «работодателям» одной из личин, «закладывая» в текст смысловую и звуковую ассоциацию с рефреном из «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, что отчётливо придавало стихотворению пародийный привкус. Но подлинный смысл приоткрывался в финальной строфе:
И над всем, что мило
Ярому вождю,
Я – кузнец Вавила —
С молотом стою.
…Этой «счастливой» жизни Клюеву хватило ненадолго. Ровно до публикации поэмы «Деревня» в журнале «Звезда» и выхода отдельным изданием в «Прибое» «Плача о Сергее Есенине».








