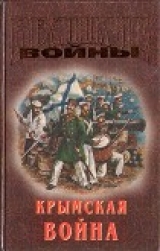
Текст книги "Крымская война"
Автор книги: Сергей Семанов
Соавторы: Сергей Сергеев-Ценский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 49 страниц)
Французская кавалерия в этот день воевала более расчётливо. Это была бригада африканских конных егерей под командой генерала д'Алонвиля. Она одержала немало побед над алжирскими кабилами во время восстания Абд-эль-Кадера. Егеря помчались в атаку немного позже Кардигана. Им было приказано нанести поражение отряду Жаббкритского на Федюхиных высотах, артиллерия которого очень досаждала союзникам.
Д'Алонвиль разделил свою бригаду на два отряда, чтобы одним уничтожить артиллерийскую прислугу, другим – пехоту.
Атака обоих отрядов егерей была стремительна, но два неполных батальона владимирцев – всё, что осталось от полка после сражения на Алме, – встретили африканцев таким сосредоточенным огнём, что д'Алонвиль счёл за лучшее повернуть обратно.
Эта атака помогла остаткам конницы Кардигана проскочить остаток их пути – около четвёртого редута, где они могли бы быть совершенно истреблены батареями с Федюхиных высот, но зато вывела из строя до полусотни егерей д'Алонвиля.
Так закончилось к часу дня дело под Балаклавой, единственное в своём роде.
Как флот союзников после 5/17 октября больше уже ни разу всей своей массой не подходил к грозным севастопольским фортам с желанием помериться с ними силой, так и конница ярко блеснула через неделю после того на Балаклавской долине как будто только затем, чтобы потом совершенно угаснуть и предоставить дело войны только сухопутной артиллерии и пехоте.
Перестрелка в тот день тянулась ещё часа три, но была уже выдыхающаяся, вялая, бесцельная.
Собрались и выстроились в боевой порядок дивизии союзников, но оба главнокомандующих согласились с тем, что силы их слабы для наступления, и отвели, наконец, войска, уступив поле сражения русским.
Раглан был под тяжёлым впечатлением полного истребления бригады Кардигана и боялся ещё значительнее увеличить свои потери. Неудача этого дня поразила старца чрезвычайно.
– Как могли вы атаковать русскую батарею с фронта вопреки всем решительно правилам войны? – сильно повысив голос, спрашивал он Кардигана.
– Я только подчинялся правилам воинской дисциплины, – отвечал Кардиган. – Мне было приказано это сделать графом Луканом.
– Так, значит, это вы, вы, милорд, погубили нашу лёгкую бригаду? – обратился Раглан к Лукану.
– Но ведь я только передал лорду Кардигану ваш же категорический письменный приказ! – отвечал Лукан.
Меншиков, наблюдавший за ходом сражения издали, от Чоргуна, откуда далеко не всё было для него ясно, появился на позициях, занятых Липранди, только тогда, когда артиллерийская пальба совершенно утихла, когда Виллебрандт, посланный к нему, в самых ярких красках изобразил ему успехи русских войск.
Виллебрандт всегда казался Меншикову наиболее пустым из его адъютантов. Между прочим, он почему-то отстаивал мнение, что крупные линейные корабли союзников ни за что не пройдут в узкие ворота Балаклавской бухты. Но он попал к нему в адъютанты по желанию сына царя, Константина, «августейшего начальника флота». Зная способность этого капитан-лейтенанта слишком увлекаться во время изложения даже совершенно мизерных событий, Меншиков тем более не вполне доверял ему теперь. Но оставалось бесспорным то, что 12-я дивизия не отступала, как армия на Алме, одно это приходилось уже считать видным успехом.
В Меншикове рождалось странное для него самого чувство. Не то чтобы это была мелкая зависть к генералу Липранди, которому удалось то, чего не добился он, – одержать успех над союзниками в открытом поле, – нет, конечно; всё-таки, совершенно наперекор своему желанию казаться обрадованным победой, Меншиков придирчиво присматривался ко всему кругом, что он видел, когда подъезжал к мосту через Чёрную речку.
На перевязочном пункте, приткнувшемся около обоза, ему показалось прежде всего слишком много раненых – гораздо больше, чем можно было предположить, судя по рассказам Виллебрандта. Поток раненых ещё не прекратился, – кто шёл сам, кого несли на руках. Больше было раненных в лицо и голову теми самыми саблями, по поводу которых так ещё недавно, на балу в Бородинском полку, пытался он острить, что их полгода точили, перетачивали и дотачивали в разных городах Англии.
Мост через Чёрную ясно говорил о кровавой схватке на нём. Между кустов острой, как сабли, рыжей осоки барахталась, разбрызгивая грязь, и ревела, как бык, подстреленная кавалерийская лошадь… Какие-то колеса торчали из воды на мелководье…
Среди других трупов русских солдат бросился в глаза светлейшего раскинувшийся на пригорке труп знакомого ему унтер-офицера богатыря Зарудина.
Приостановив лошадь, он по-стариковски покачал головой, обращаясь укоризненно к Виллебрандту:
– Вот какого молодца потеряли мы, а вы мне говорите!..
– А разве из убитых англичан мало молодцов, ваша светлость? Мы сейчас будем ехать мимо них… Их несколько сот валяется, если не вся тысяча! – успокаивал его возбуждённо Виллебрандт.
Действительно, дальше всё гуще и гуще лежали трупы гусар, драгун и улан Кардигана, и всё это был очень рослый, красивый, видимо тщательно подобранный народ в красивых мундирах. Породистые крупные лошади, как раненые, так и здоровые, но потерявшие своих хозяев, бродили, опустив к земле шеи, около тел или сходились кучками и медленно кивали головами, может быть то же самое думая, что думал и старый светлейший над трупом бравого Зарудина.
Ожидавший приезда главнокомандующего, удачливый генерал Липранди подъехал к нему с готовым уже рапортом и, передавая бумажку, отчётливо перечислил все подвиги своего отряда в этот день: взяты редуты, одно турецкое знамя, одиннадцать орудий, шестьдесят патронных ящиков, турецкий лагерь, шанцевый инструмент и прочее; сосчитанные потери противника: сто семьдесят турок, убитых в штыковом бою при занятии редута № 1; прочие потери противника, так же как и свои потери, приводятся в известность; в плен взято шестьдесят англичан, из них три офицера.
Несмотря на несомненно пережитые им кое-какие тревоги этого дня, Липранди имел, к удивлению Меншикова, свой обыкновенный вид человека, у которого, как у ротного фельдфебеля, в голове всегда и при любых обстоятельствах должно быть ясно и бывает ясно.
Безукоризненно фронтовой, сидел ли он на коне, или был пешим, генерал этот почему-то был неприятен Меншикову, и ему всё хотелось найти в нём какие-нибудь явные недостатки, а в том, что он отрапортовал так отчётливо по-строевому, – какую-нибудь подтасованность или просто фальшь.
После рапорта он пожал ему как мог крепко руку своей большой, но холодной рукой; он сказал ему, даже как будто растроганно:
– Благодарю вас, Павел Петрович, искренне благодарю вас!.. Вы очень, очень обрадуете государя этой победой… очень!
Он даже приветливо улыбнулся при этом, именно так, как по его же собственному представлению, улыбался бы заждавшийся победы русского оружия над союзными силами сам Николай.
Но в то же время он переводил глаза с правильного, как будто тоже вытянутого во фронт, моложавого лица Липранди на весьма некрасивое, даже несколько курносое, как-то уж очень подчёркнуто простонародное пожилое лицо Семякина, и ему, – пока ещё как-то неясно, почему именно, – хотелось, чтобы героем этого дня был не ясноголовый, проглотивший аршин Липранди, а сутуловатый и угловатый, не имеющий никакой выправки Семякин.
– Шестьдесят англичан, вы говорите сдались? Нераненых? – спросил он без задней мысли Липранди.
– Большей частью раненые, ваша светлость, а из офицеров один не англичанин даже, а сардинец, адъютант самого Раглана, – ответил Липранди.
– А-а! Вот как! Раглана!.. Вы мне его потом покажете… Однако наши гусары бежали от английских, как я это видел из Чоргуна.
И Меншиков сделал при этом свою привычную гримасу.
– Они их заманивали в ловушку, ваша светлость, – невозмутимо объяснил Липранди. – Не совсем умело сделали это и пострадали при этом, но что же делать: без этого не удалось бы так чисто уничтожить англичан.
Меншиков внимательно смотрел на него и думал, сделал ли он сам ошибку, что не доверил ему всех сил, какие были у него на Бельбеке, или не сделал.
Собственно этот вопрос и мучил его с тех пор, как Виллебрандт примчался к нему вестником победы: не упустил ли он счастливого случая, который, может быть, и не повторится? Если так удачно захвачены редуты и деревня Комары в тылу англичан, то ведь, развивая этот успех при более крупных силах, может быть можно было захватить в этот день и Кадык-Кой и Балаклаву? А если в это же время сделать вылазку большею частью сил севастопольского гарнизона, то, может быть, союзникам пришлось бы подумать и о посадке на свои суда, и была бы окончена Крымская война?
Когда Липранди обратился к нему, – не пожелает ли он посмотреть редуты, отнятые у союзников, – Меншиков внешне с большой готовностью отозвался:
– Непременно, непременно посмотрю! – и помахал слегка плёточкой около правого глаза своего тихоходного коня, чтобы он прибавил ради такого предлога рыси.
Но вопрос, овладевший им, продолжал торчать в нём и требовать ответа.
Первый редут, с которого начали осмотр, удивил Меншикова высотой и крутизной холма, на котором он был построен. Когда же узнал он от Липранди, что своих азовцев вёл на приступ лично Семякин, князь нелицемерно расцвёл, поздравляя угловатого командира бригады.
– Где вы получили образование? – спросил он Семякина.
– В академии генерального штаба, ваша светлость, – несколько выпрямился сообразно с требованием момента Семякин.
– А-а!.. Вот видите, да… генерального штаба! Я почему-то именно так и думал, – пристально и благосклонно оглядывал его Меншиков.
Теперь ему показалось вдруг, что он нашёл решение своего вопроса.
Успех этого дня принадлежит совсем не щёголю Липранди, а вот этому генерал-майору, такого невзрачного вида, но академику и имеющему большой уже военный опыт, которого, между прочим, не имел никто из его адъютантов.
Дело было в том, что в последние дни он начинал уже склоняться к мысли о главном штабе, так как был уже назначен главнокомандующим армиями Крыма – звание, которого официально он не имел раньше. Но он затруднялся найти себе начальника штаба. И вдруг именно здесь, на холме Канробера, ему показалось бесспорным, что более подходящего на эту должность, чем бригадный генерал Семякин, он не найдёт.
Он подробно расспросил Семякина о его прежней службе. Он сознавался самому себе, что несколько отстал от современных требований, как вождь сухопутных армий, что помощь в этом нужна была ему, конечно, а перед ним был боевой генерал-майор, как оказалось, речистый, несмотря на свою угловатость, и, видимо, деловой.
Решение взять Семякина в начальники своего будущего штаба зрело в Меншикове, когда он поднимался на холм и входил в редут. Но вот он увидел груды тел убитых турок и солдат-азовцев, поморщился и сказал Липранди тоном приказа:
– Закопать надо!
– Если, ваша светлость, нас не вздумают ночью выбить отсюда, то завтра же закопаем, – ответил Липранди.
Этот ответ не понравился князю.
– Выбить?.. Как так выбить отсюда? – повысил он голос. – Нет-с, этих редутов уступить нельзя! Я прикажу придвинуть сюда к ночи бригаду драгун.
Сам я тоже останусь здесь, в Чоргуне, – здесь и на будущее время будет моя штаб-квартира… Нет, редутов этих мы никому не отдадим!.. Мы можем их не занимать сами, – это другое дело. Но все трупы из них вынести и закопать непременно.
Поглядев ещё раз на убитых, он спросил вдруг Семякина:
– А если бы в редутах сидели не турки, то как вы полагаете, были бы они взяты?
– Они потребовали бы тогда гораздо больше жертв с нашей стороны, но всё-таки были бы взяты сегодня, – очень твёрдо ответил Семякин, и Меншиков вышел из редута, также очень твёрдо решив, что начальник его будущего главного штаба им счастливо найден, но счастливый случай захватить с боя Балаклаву потерян, потому что едва ли можно уж было теперь надеяться встретить на ответственных местах укреплённой линии союзников турок.
Он остался действительно ночевать в Чоргуне, – в первый раз на целый месяц не на бивуаке, а в доме, какой его адъютанты нашли более удобным. А на другой день по его приказу из Севастополя произведена была вылазка двумя полками – Бутырским и Бородинским – на Сапун-гору. Полки эти должны были поддержать отряды Липранди и Жабокритского, чтобы выбить корпус Боске с Сапун-горы. Но вылазка не удалась, и оба полка вернулись в Севастополь с большими потерями. Боске же с этого дня начал усиленно укрепляться.
Однако отобрать редуты на холмах, которые Меншиков приказал на картах обозначить, как «Семякины высоты», союзники тоже не покушались.
Казаки в Чоргуне продавали офицерам переловленных ими английских лошадей по дешёвке: за три, за два империала, иногда и за один. А когда до Англии дошла злая весть о гибели лёгкой конной бригады Кардигана, возмущению газет не было меры.
Спасшегося от смерти благодаря только быстроте бега своей лошади Кардигана обвиняли в том, что он позорно бросил свой отряд и бежал с поля сражения гораздо раньше, чем его кавалерия доскакала до русских орудий.
Его отставили от командования лёгкой конной бригадой, – впрочем, ему уж некем было и командовать.
Лорд Лукан, травимый газетами, вынужден был просить, чтобы наряжена была комиссия для расследования его действий в этом злополучном для англичан сражении.
Правительство спешно снимало полки из гарнизонов Мальты, Корфу, Пирея, Дублина, Эдинбурга; их сажали на пароходы и отправляли в Крым; но газеты не удовлетворялись этими мерами, они писали, что это только капли на горячий камень. И это писали те же самые журналисты, которые за месяц до того уверяли английскую публику, что Севастополь – совершенно картонный город и рассыплется при первых же залпах английских пушек.
Необычное волнение и в Париже вызвали депеши об успехе русских войск под Балаклавой. Как ни старался братец Наполеона граф Морни сохранить спокойствие на бирже, она отозвалась на это событие понижением курса почти на франк.
Издатели иллюстрированных журналов, заранее заготовившие рисунки Густава Доре и других известных тогда художников, изображающие величественный приступ французских войск, отчаянный штурм и взятие Севастополя, конфузливо спрятали эти иллюстрации в долгий ящик.
Султан Абдул Меджид предал военному суду бежавшего из редутов со всем своим отрядом генерала Сулеймана-пашу. Под давлением английского посланника в Константинополе, лорда Радклифа, суд приговорил Сулеймана-пашу к смертной казни. «По неизреченному милосердию своему», султан смягчил этот приговор – разжаловал осуждённого в рядовые на семь лет.
В Петербурге вестником победы под Балаклавой был Виллебрандт. Он явился в гатчинский дворец с донесением Меншикова рано утром, когда царь был ещё в постели. Несколько дней он скакал на перекладных по осенне-звонким и осенне-грязным, но одинаково ухабистым дорогам без отдыха и без сколько-нибудь продолжительного сна, так как ухабы и кочки не давали заснуть во время езды, поминутно и жестоко встряхивая тележку.
Едва только успев сдать донесение светлейшего дежурному генералу для передачи царю, Виллебрандт свалился в мягкое кресло и уснул, как убитый.
Николай поднялся, как всегда, рано. Донесение Меншикова о победе так обрадовало его, что он тут же захотел расспросить адъютанта светлейшего о подробностях боя; но Виллебрандта никто не мог добудиться.
Его трясли за плечи, всячески тормошили, щекотали за ушами и подмышками, наконец стащили с кресла на пол, – он даже и не мычал в ответ, как это принято у крепко спящих; он продолжал спать и на полу.
– Я его разбужу сейчас сам! – весело сказал Николай, вышедший на эту возню с мертвецки сонным адъютантом из своего кабинета.
Он наклонился, насколько позволил это ему громадный рост, и гаркнул в лицо спящего:
– Ваше благородие! Лошади поданы!
– А, лошади? Счас! – И Виллебрандт вскочил и испуганно замигал белыми ресницами, разглядев перед собой самого царя.
Но он проснулся уже не капитан-лейтенантом, а полковником артиллерии и флигель-адъютантом. Он сделал скачок через чин, как до него сделал то же самое Сколков, очевидец Синопского боя, так же точно посланный к царю Меншиковым, а немного позже Сколкова восемнадцатилетний прапорщик Щёголев, отстаивавший с четырьмя мелкими орудиями Одессу от обстрела союзной эскадры и произведённый за это сразу в штабс-капитаны.
При личном докладе царю о сражении Виллебрандт дал полную волю своей живой фантазии.
У него лейхтенбергцы и веймарцы не бросились в беспорядке толпою на мост под натиском англичан, а «встретили их по-хозяйски и тесали их саблями без всякого милосердия!» У него командир сводных улан полковник Еропкин, имея саблю в ножнах, «так свистнул кулаком по башке одного англичанина, что тот кувыркнулся с лошади замертво и потом попал к нам в плен…»
После подобного доклада Николай расчувствованно расцеловал Виллебрандта и оставил его во дворце обедать, как следует выспаться, а на другой день скакать снова в Севастополь с письмом Меншикову.
"Слава богу! Слава тебе и сподвижникам твоим, слава героям-богатырям нашим за прекрасное начало наступательных действий! – писал царь светлейшему. – Надеюсь на милость божию, что начатое славно довершится так же.
Не менее счастливит меня геройская стойкость наших несравненных моряков, неустрашимых защитников Севастополя… Я счастлив, что, зная моих моряков-черноморцев с 1828 года, быв тогда очевидцем, что им никогда и ничего нет невозможного, был уверен, что эти несравненные молодцы вновь себя покажут, какими всегда были и на море и на суше. Вели им сказать всем, что их старый знакомый, всегда их уважавший, ими гордится и всех отцовски благодарит, как своих дорогих и любимых детей. Передай эти слова в приказе и флигель-адъютанту князю Голицыну вели объехать все экипажи с моим поклоном и благодарностью.
Ожидаю, что все усилия обращены будут англичанами, чтоб снова овладеть утраченною позицией; кажется, это несомненно, но надеюсь и на храбрость войск и на распорядительность Липранди, которого ты, вероятно, усилил ещё прибывающими дивизиями, что неприятелю это намерение недаром обойдётся.
Вероятно, дети мои прибудут ещё вовремя, чтобы участвовать в готовящемся; поручаю тебе их; надеюсь, что они окажутся достойными своего звания; вверяю их войскам в доказательство моей любви и доверенности; пусть их присутствие среди вас заменит меня.
Да хранит вас господь великосердный!
Обнимаю тебя душевно; мой искренний привет всем. Липранди обними за меня за славное начало…"
Одновременно с этим письмом Николая императрица также писала Меншикову. В её письме было только повторение просьбы её, уже высказанной раньше и присланной с другим фельдъегерем, – беречь великих князей. Это было чисто материнское дополнение к воинственному письму её мужа.
В те времена при петербургском дворе, как, впрочем, и во всей тогдашней Европе, процветал месмеризм, называвшийся по-русски «столоверчением». Устойчиво верили в то, что можно вызывать души умерших и даже беседовать с ними на разные текущие темы, предполагая в них как «бесплотных и вечных», безусловное знание настоящего и будущего тоже.
У иных это странное препровождение времени каким-то непостижимым образом связывалось с неплохим знанием точных наук, с чисто деловым складом мозга, с обширными практическими предприятиями и заботами, которыми они были заняты всю жизнь.
К этим последним принадлежал, между прочим, инженер-генерал Шильдер, учитель Тотлебена, умерший при осаде Силистрии от раны.
Этот старый сапёр, отлично умевший делать укрепления разных профилей, проводить мины и контрмины и взрывать камуфлеты, очень любил «вызывать» дух Александра I и беседовать с ним часами.
Однако и во дворце Николая, – правда, на половине императрицы, – тоже часто беспокоили усопшего в Таганроге «Благословенного» вопросами о том, что готовит ближайшее будущее.
После того как отправлен был в обратный путь Виллебрандт, – уже как флигель-адъютант и полковник, – на половине императрицы, беспокоившейся не столько об участи Севастополя, сколько о безопасности своих двух сыновей, Николая и Михаила, выехавших в это время от Горчакова к Меншикову, состоялось таинственное столоверчение, и вызывался, по обыкновению, дух Александра.
Предсказания его на ближайшее будущее были вполне успокоительны и благоприятны.
Даже когда отважились задать ему вопрос, когда и чем именно закончится война, он, отвечавший раньше на такие вопросы очень неохотно и уклончиво, ответил решительно, что окончится скоро и со славой для России.
Это предсказание немедленно было сообщено Николаю.








