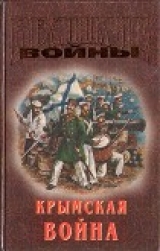
Текст книги "Крымская война"
Автор книги: Сергей Семанов
Соавторы: Сергей Сергеев-Ценский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 49 страниц)
Ночью, как и предполагал Истомин, снова была сильная пальба по Камчатке. Французы, руководимые энергичным Боске, задались, очевидно, целью не только мешать ночным работам на Зелёном Холме, но и разрушить, сровнять с землёй всё это скороспелое укрепление, которое не успело ещё вооружиться достаточно сильно, чтобы вести поединок с их батареями.
Истомин был там в полночь. Туда везли орудия. Одно из этих орудий было подбито, чуть только его поставили. Когда вместо него подоспело новое, Истомин сам наблюдал за его установкой, хотя командир люнета Сенявин и упрашивал его не рисковать напрасно.
Думая над тем, как можно применить приказ Нахимова в ночные часы, когда идут и должны идти совершенно необходимые сапёрные работы и в то же время открывается – и не может не открываться – канонада, он пришёл к мысли отводить людей по траншее с более опасного участка на менее опасный.
Это заметно уменьшило число потерь, хотя и замедлило работы.
Начальник большого участка линии обороны Истомин видел, что с началом тёплых весенних дней союзные войска ожили, как стаи мух, и вот к ним, ожившим, обогревшимся на щедром крымском солнце, везли и везли на больших океанских пароходах, как «Гималай», и новые дальнобойные мортиры, и огромные запасы снарядов, и большие пополнения людьми. Об этом говорили дезертиры и пленные, но об этом писали также весьма откровенно, не считаясь ни с какими военными тайнами, корреспонденты английских газет.
Между тем он знал и то, какие древние пушки выволакивались из хранилища адмиралтейства и ставились на бастионы взамен подбитых, но прозорливое высшее начальство требовало, чтобы из этих музейных старух палили умеренно не только потому, что они были почти безвредны для атакующих, но и по недостатку пороха и снарядов, что стало обычным.
Ближайший к Севастополю пороховой завод был в местечке Шостка, Черниговской губернии – в нескольких сотнях вёрст от Перекопа; снаряды шли из Луганска, тоже через Перекоп, но Луганск был довольно далеко от Севастополя.
И, однако, дела обстояли так, что защищать Севастополь было делом чести русского имени, хотя бы он и был схвачен железной хваткой.
Истомин нашёл в себе и то хладнокровие среди опасностей, даже презрение к ним, и ту жажду деятельности во вред противнику, которые его отличали.
Он и теперь шёл к Камчатскому люнету, как шёл бы хозяин на своё поле, пережившее ночью грозу, град и ливень. Кроме того, с сапёрным капитаном Чернавским, который теперь ведал там работами вместо Сахарова, ему хотелось поговорить о новой траншее для резерва батальонного состава между исходящим углом Малахова и правым флангом люнета.
Лихие фурштаты умчали уже чем свет убитых этой ночью, сложив их тела, как поленницы дров, на свои зелёные фуры и еле накрыв их заскорузлым и чёрным от крови брезентом; раненых же отнесли на Корабельную, на перевязочный, к профессору Гюббенету, и теперь на Камчатке всё пришло в будничный вид, даже аванпостная перестрелка велась уже лениво.
Жёлтая, чуть заметная на фоне молодой тощенькой и низенькой травки линия французской параллели против Кривой Пятки, такую лаву чугуна извергавшая ночью из своих орудий, теперь не представляла ничего внушительного. Странно было слышать жаворонков вверху, в чистом синем небе, но они пели… они трепетали крылышками и заливались, потому что была ранняя весна, время их песен.
В первый раз именно в этот день – 7 марта – услышал их Истомин в этом году.
Когда капитан-лейтенант Сенявин встретил его рапортом о благополучии, он отозвался ему, добродушно улыбнувшись:
– И даже – о, верх благополучия! – жаворонки поют, чего же больше хотеть?
На молодом, но усталом лице Сенявина с чёрной пороховой копотью в ушах, ноздрях и на крыльях большого прямого носа мелькнуло было недоумение, но он поднял воспалённые глаза кверху, тоже улыбнулся и сказал:
– Да, жаворонки… А рано утром журавли летели, курлыкали…
– Вот видите – и журавли ещё…
Истомин пошёл вдоль укрепления, попутно спрашивая о потерях. Орудия в исправном виде стояли на починенных, а кое-где и не тронутых бомбардировкой платформах, и матами из корабельных канатов были завешаны амбразуры. Истомин знал, что маты эти стали плести по почину капитана 1-го ранга Зорина, ведавшего теперь первой дистанцией, как он четвёртой. Это очень простое нововведение оказалось очень удачным, предохраняя артиллерийскую прислугу от пуль, и спасло много людей. Прежде ставили с этой целью деревянные щиты, но штуцерные пули пробивали их, как картонку, а в матах из канатов они застревали. Кроме того, щиты, раздробленные ядрами, калечили много людей своими обломками: этого не случалось с матами. Так мешковатый Зорин, решившийся в сентябре на совете у Корнилова первым высказать мысль о затоплении судов, теперь показал, что он вполне освоился и с сухопутьем.
Истомин недолюбливал Зорина, но подумал о нём с невольным уважением;
«Всё-таки не глуп… Ведь вот же мне не пришло в голову насчёт этих матов, а вещь получилась большой цены…»
Старый боцман с корабля «Париж» Аким Кравчук оказался здесь же, на Камчатке.
– А-а! Кравчук, здорово! – проходя, крикнул ему Истомин; и Кравчук, у которого к Георгию за Синоп прибавился ещё крест за Севастополь, вытянувшись насколько мог при своей короткой, дюжей фигуре, гаркнул осчастливленно:
– Здравь жлай, ваш присходитьство!
В левой руке у него был крепко зажат кусок хлеба. Это была привилегия нижних чинов севастопольского гарнизона – печёный хлеб; солдаты на Инкермане получали хлебную порцию сухарями.
Артиллеристы-матросы, которым пришлось много поработать ночью, иные спали тут же, около своих орудий, за бруствером, иные ели копчёнку, курили трубки, а заступившие их места с рассвета ревностно дежурили, так как редкая стрельба всё-таки велась.
Сменившиеся и спавшие здесь около орудий были, конечно, те самые лишние люди, о которых писал в своём приказе Нахимов, но Истомин знал, что бесполезно, пожалуй, гнать их отсюда в блиндажи, к тому же не вполне ещё надёжные, что у них повелось так с самого начала осады – и прочно держится по традиции – не отходить от своих орудий до полной смены всей своей части; они рыцарски соблюдали этот неписаный свой приказ, и трудно было так вот на ходу решить, что это такое: удальство или храбрость.
На своих местах стояли сигнальщики, иногда покрикивая: «Чужая!..», «Армейская!..», «На-ша, берегись!..» Особые дежурные, устроившись между мешков, наблюдали за действиями противника в трубы… Обычный распорядок редутной жизни привился уже и на Камчатке.
Сапёрный капитан Чернавский, проведший беспокойную ночь вместе с Сенявиным, пока тоже не уходил спать и так же, как Сенявин, казался усталым, но бодрым, а небольшое и подвижное лицо его было так прихотливо и щедро разрисовано и копотью и пылью, что стало совсем обезьяньим.
О произведённых им ночью работах он докладывал обстоятельно и с выбором точных выражений, так что Истомин, слушая его, досадливо думал, что он несколько излишне увлекается мелочами, однако не перебивал, иногда даже сам задавал вопросы.
Они шли втроём, и Истомин сознательно направлялся именно к тому месту, где он думал удобнее всего соорудить траншею для резерва на случай штурма, чтобы иметь батальон и в относительной безопасности и всегда под руками…
Но если дежурили матросы с подзорными трубами на Камчатке, то наблюдали за Камчаткой в такие же трубы и оттуда, со стороны французов, и человек в ярко блестевших на весеннем солнце густых адмиральских эполетах, шедший в середине между двумя другими офицерами по открытому пространству внутри люнета, был замечен.
Первое ядро пролетело довольно низко над головами всех трёх, повизгивая.
– Ого! – сказал Чернавский. – Это по нас!
– Прямой наводкой! – крикнул Сенявин. – Ваше превосходительство, прячьтесь в траншею!
Они шли как раз вдоль траншеи, которую уже начали копать ночью, но не там, где облюбовал место Истомин, а гораздо ближе к переднему фасу люнета.
Ему это казалось лишним: передний фас и без того был хорошо защищён валом и рвом, между тем как правый был открыт, а французы всегда при штурмах прибегали к обходам с флангов.
Адмирал посмотрел на капитан-лейтенанта с недоумением: ему, Истомину, этот молодчик, только что поступивший под его команду, даёт уже совет прятаться в траншею! Плохо же он знает своего начальника!
Очень насмешливы были истоминские глаза, когда он поглядел на Сенявина, сказавши:
– От ядра, батюшка, не спрячешься!
При этом он повернул лицо в сторону французских батарей, и то страшное, что произошло дальше, было делом всего только одной секунды.
Ядро среднего калибра, пущенное также прямой наводкой вслед за первым, встретило на своём пути именно это белое, нервное, ясноглазое лицо Истомина, и в тот же момент упал наземь Сенявин, контуженный в голову костями черепа Истомина, а Чернавский, ослеплённый белыми клочьями истоминского мозга, плеснувшего ему в лицо, отшатнулся и тоже не удержался на ногах…
От Георгия 3-й степени остался на шее Истомина только обрывок ленты.
Когда обезглавленное тело бессменного в течение полугода командира Малахова кургана подносили на носилках к башне, Витя Зарубин беспечно смотрел на отдыхавших солдат, игравших поблизости в «носы». Это была любимая игра всех солдат. От шлёпанья по носам, умеренным, маленьким и большим, распухали не столько носы, сколько карты, и Витя удивлялся, как игроки различали в них масти и фигуры, до того они были засалены и черны.
Солдаты хохотали, Витя улыбался их веселью, но вдруг остановились невдалеке люди с носилками…
Витя не спрашивал, кого принесли: для него достаточно было только взглянуть на забрызганный кровью серебряный адмиральский эполет… над эполетом же торчал только почерневший остов шеи: головы не было…
Витя вскрикнул, закрыл руками лицо, и спина и плечи его сразу крупно задрожали от рыданий…
На другой день торжественно хоронили останки того, кто был душой Малахова кургана. Тот склеп, в котором лежали тела адмиралов Лазарева и Корнилова, был тесен: он мог вместить только три могилы. Третью Нахимов оставил за собою ещё тогда, в скорбный день похорон Корнилова.
Но вот Истомин предупредил его на пути смерти… Где же было хоронить Истомина?
– Эти прыткие молодые люди… они… да-с, да-с… они очень спешат, спешат-с… – бормотал Нахимов, вытирая слёзы платком в стороне от тела, обезглавленного на гильотине войны.
Даже как-то совершенно против правил дисциплины, не только против ожиданий это вышло. Истомин был не только моложе его годами чуть не на десять лет, не только гораздо моложе чином, но за ним не числилось и никакого самостоятельного и яркого подвига, как, например, хотя бы за Корниловым. Этот последний, руководя боем колёсного парохода «Владимир» с равносильным турецким пароходом «Перваз-Бахры», что значит «Морской вьюн», победил его в единоборстве, взял на буксир и притащил в Севастополь, как Ахилл приволок в стан греков труп побеждённого им Гектора, прикрутив его за лодыжки к своей боевой колеснице…
В склепе было только три места.
Лазарев, Корнилов, Нахимов – этот триумвират был бы бесспорно триумвиратом равноценных в глазах всего флота, в глазах народа, в глазах истории, – так при всей своей скромности привык уже думать сам Нахимов. Но как же быть теперь с этим пылким молодым адмиралом, погибшим на своём трудном и почётном посту стража Севастополя?
Чувство собственника на почётную могилу в склепе оказалось в Нахимове гораздо сильнее, чем чувство собственника в отношении разных житейских благ, начиная с денег, которые обыкновенно он раздавал до копейки, еле дотягивая месяц перед получкою огромного жалованья. Лазаревский склеп был как бы пантеоном в его глазах, и, однако же, явно было, что четвёртая могила там не могла поместиться.
Часы очень острой внутренней борьбы переживал Нахимов; наконец, он решился и, отправившись к Сакену, как временно командующему Крымской армией, просил у него дозволения похоронить молодого адмирала, достойнейшего защитника Севастополя, на своём, нахимовском, месте.
После похорон он вспомнил, что на свете было существо, которому не безразлично, кто погребён вместе с Лазаревым: это была вдова Лазарева, жившая в Николаеве. И он, так ненавидящий всякую письменность, написал ей письмо:
«Екатерина Тимофеевна! Священная для всякого русского могила нашего бессмертного учителя приняла прах ещё одного из любимейших его воспитанников. Лучшая надежда, о которой я со дня смерти адмирала мечтал, – последнее место в склепе подле драгоценного мне гроба я уступил Владимиру Ивановичу Истомину! Нежная, отеческая привязанность к нему покойного адмирала, дружба и доверенность Владимира Алексеевича (Корнилова) и, наконец, поведение его, достойное нашего наставника и руководителя, решили меня на эту жертву. Впрочем, надежда меня не покидает принадлежать к этой возвышенной, благородной семье; друзья-сослуживцы, в случае моей смерти, конечно, не откажутся положить меня в могилу, которую расположение их найдёт средство сблизить с останками образователя нашего сословия. Вам известны подробности смерти Владимира Ивановича, и потому я не буду повторять их. Твёрдость характера в самых тяжких обстоятельствах, святое исполнение долга и неусыпная заботливость о подчинённых снискали ему общее уважение и непритворную скорбь о его смерти. Свято выполнив завет, он оправдал доверие Михаила Петровича…»
Торжественное введение Истомина в пантеон русской славы закончилось к семи часам вечера 8 марта, а через час после того и Нахимов, как начальник гарнизона и командир порта, и Сакен, как заместитель главнокомандующего, получили донесение, что на Северную сторону уже прибыл и желает их видеть новый распорядитель судеб Севастополя и Крыма князь Горчаков.
Так гибель Истомина стала на рубеже двух периодов обороны: ею закончился меншиковский, после неё начался горчаковский.
Разницу между собой и Меншиковым новый главнокомандующий подчеркнул сейчас же, как прибыл. Он спросил Сакена и Нахимова, где их квартиры и штабы, и, узнав, что в городе, на Екатерининской улице, оскорблённо вскричал:
– Ну, вот видите! В городе, в приличных, конечно, домах!.. А для меня и для моего штаба вы приготовили какую-то молдаванскую хибару!
– Это инженерный домик, – ответили ему, – в нём помещались до своего отъезда их высочества, великие князья.
– Вы слышите? – обратился желчно Горчаков к своему начальнику штаба, генералу Коцебу. – Меншиков заставил их высочества жить в этом убежище!..
А где же помещался он сам?
– По Сухой балке, здесь же поблизости, в матросской хатёнке, ваше сиятельство.
– Во-от ка-ак! – Горчаков в недоумении обвёл всех кругом подслеповатыми глазами, вооружёнными сильными стёклами очков, и заключил трагически:
– Ну, теперь уж я вижу ясно, какое я получил наследство!

ЧАСТЬ VII
НОЧЬ НА КЛАДБИЩЕ
Дня через три после праздника Охотского полка Хрулёва вызвал к себе Горчаков, который теперь бросил уже инженерный домик около бухты и переселился гораздо дальше, на Инкерман, вёрст за шесть от Севастополя, так как дальнобойные орудия с английской батареи «Мария», бившие дальше, чем на четыре километра, стали частенько посылать ядра на Северную, а у Горчакова был, не в пример Меншикову, огромный штаб, очень чувствительный к ядрам. На этих высотах бивуакировала дивизия Павлова перед злополучным днём Инкерманского сражения, потом сюда переведена была на отдых 16-я дивизия, а до войны здесь, невдалеке от развалин древнего Инкермана, действовала почтовая станция. Постройки этой станции и были заняты Горчаковым под штаб-квартиру. Кроме того оборудовали кругом для многочисленных адъютантов и ординарцев уютные землянки, а несколько поодаль забелели солдатские палатки.
Здесь было и безопасно, и в то же время это был центр расположения вспомогательной для севастопольцев армии. Отсюда открывался вид и на Сапун-гору, и на долину Чёрной речки, и на Федюхины высоты.
Против деревни Чоргун, откуда в октябре Меншиков следил за Балаклавским сражением, размещались теперь новоприбывшие сардинцы по соседству с французами; французы же прочно заняли и Федюхины высоты, очень деятельно укрепляя их скаты, обращённые к речке.
Хрулёв видел эти работы и раньше, теперь же его опытные глаза артиллериста отмечали желтеющие брустверы там, где прежде их не было, и это заставляло его озабоченно приглядываться к тому, что делалось у своих.
Он знал, что здесь тоже строятся редуты, но эти редуты – так ему казалось – были слишком разбросаны, чтобы служить надёжной защитой при нападении противника в больших силах. Впрочем, нападения с этой стороны он не ожидал, как не ожидал его и Горчаков.
Дорога, по какой он ехал верхом, шла у подножия невысоких гор; направо, по берегу Большого рейда, установлено было в линию, одна за другою, несколько батарей. Иногда они перестреливались с батареями интервентов, но теперь молчали, как молчал их ближайший противник – редут Канробера, разлёгшийся на одном из скатов Сапун-горы.
Орудия здесь молчали, зато разноголосо упражнялись флейтисты, горнисты, барабанщики, фаготисты и другие из музыкантских команд разных частей, так как музыка в лагере по вечерам играла ежедневно, кроме того, ежедневно же тот или иной оркестр отправлялся в город играть на бульваре Казарского.
На одной из гор влево от дороги торчал маяк – высокий шест с верёвками, что-то вроде корабельной мачты с вантами[16]16
Ванты – веревочные снасти, поддерживающие с боков и сзади мачты на судне.
[Закрыть], а около него паслись тощенькие казачьи лошадёнки и виднелись покрытые хворостом землянки офицеров. Это был главный наблюдательный пункт; отсюда следили за неприятелем и на Сапун-горе, и на Федюхиных высотах, и в долине Чёрной речки: только эта самая, ничтожная в летнее время, Чёрная речка и разделяла две обсервационные армии – русскую и союзную.
Дорога была оживлённая: часто попадались навстречу то офицеры верхом, то казаки из конвоя Горчакова, то троечные фуры, то небольшие группы солдат… Так встретилась Хрулёву и команда человек в пятьдесят пластунов, которую вёл молодой хорунжий.
Кавказские папаха и бурка Хрулёва (день был довольно прохладный) ещё издали притянули к себе возбуждённое внимание пластунов, как и самого Хрулёва заставил остановиться уже один вид команды кубанцев, совершенно неожиданных на Северной стороне.
Хрулёв поздоровался с пластунами; те ответили хотя и громогласно, но нестройно и сбивчиво, не определив точно, в каком он может быть чине.
– Какого батальона, братцы? – спросил Хрулёв, обращаясь, впрочем, к одному только хорунжему.
В Севастополе было два батальона пластунов, теперь уже сильно поредевшие.
– Тiлькы що прибыли, ваше прэвосходительство, – рассмотрев, что перед ним генерал, а не войсковой старшина, ответил хорунжий.
– Откуда прибыли? С Кавказа, что ли?
– Так точно, пополнение з охотникiв, ваше прэвосходительство!
– А-а, вон в чём дело! Это хорошо, благодетели: давно мы вас ждём; очень вы нужные нам тут люди, только что чертовски вас мало… Молодцы, молодцы!.. А ты где же это потерял своё оружие? – заметил он вдруг одного пластуна без винтовки.
– Так что попал в плен к черкесам, ваше превосходительство, они и отняли винтовку, а другой уж мне не дало начальство, – несколько сконфуженно ответил пластун.
Певучий говор и чисто русский склад речи этого пластуна очень удивили Хрулёва. Рослый, плечистый, сероглазый, стоял этот пластун прямо перед ним, в первой шеренге. Необыкновенной длины кинжал в ножнах, слаженных из трёх кусков старых вытертых ножен, торчал у него спереди, а черкеска его решительно вышла уже из всех допустимых сроков давности и едва не сползала с плеч.
– Постой-ка, постой, братец! Ты, значит, не хохол, а кацап, так, что ли? – оживлённо и улыбаясь спросил Хрулёв.
– Звiстно, из кацапiв, – поняв, что допустил большую оплошность, забывчиво на вопрос, заданный по-русски, по-русски же и ответив, совершенно потерялся было пластун, но тут же оправился, когда этот черноусый генерал в бурке воскликнул обрадованно:
– Да ты для меня, братец, чистый клад в таком случае!.. А как же тебя из плена выручили?
– Сам бежал, ваше превосходительство, – снова и невольно переходя на русский язык, бойко ответил пластун.
– Ну, ты мне будешь нужен, братец!.. Как фамилия?
– Чумаков Василий, ваше превосходительство!.. Або Чумаченко, – добавил пластун.
– Ну, в какой бы он там батальон ни попал при распределении, пришлите его ко мне, к генералу Хрулёву, на Корабельную, – обратился Хрулёв к хорунжему. – А ещё лучше сами придёте с ним вместе.
– Слухаю, ваше прэвосходительство, – откозырял хорунжий. – Когда прикажете?
– Хотя бы даже и сегодня вечером: чем скорее, тем лучше.
Хрулёв послал своего белого коня вперёд, а Терентий Чернобровкин, ставший Василием Чумаковым – «або Чумаченко», на Кубани, оглядываясь ему вслед, раздумывал, к добру для себя или к худу встретил он этого генерала Хрулёва, чуть только удалось ему добраться до Севастополя, и зачем именно понадобилось этому генералу, чтобы он, пластун-волонтёр, пришёл к нему в этот день вечером. Мелькнула было даже и такая мысль: не родич ли какой он помещику Хлапонину?.. Впрочем, эта мысль так же быстро и пропала, как возникла: не приходилось никогда ему видеть такого в Хлапонинке… На всякий случай всё-таки спросил он у хорунжего, для каких надобностей звал его к себе генерал. Хорунжий ответил:
– А мабудь ув дэнщики чи що…
– Як же так в дэнщики? – опешил Терентий. – Хиба ж я ув Севастополь за тiм и просився, щоб в дэнщики?
– Э-э, так на то ж вона и служба! – недовольно буркнул хорунжий.
Это был тот самый хорунжий, который дал Терентию трёхрублёвую ассигнацию, когда он, переправившись через Кубань, сидел голый около незнакомого ему поста. Фамилия его была – Тремко, и Терентий из понятного чувства благодарности к нему за то, что не приказал он тогда задержать его и отправить в Екатеринодар «для выяснения личности», а даже помог ему одеться и взял в свою команду, часто и охотно услуживал ему во время пути, но ведь это не называлось быть денщиком, это он делал по доброй воле.
Распределять небольшое пополнение пластунов по батальонам предоставлено было старшему из батальонных командиров, войсковому старшине Головинскому, неоднократному руководителю вылазок, ходившему теперь, опираясь на палку по случаю раны в ногу.
Василий Чумаченко, хотя и не состоящий даже в списках новоприбывших пластунов, ему понравился, и он, только спросив о нём хорунжего, хороший ли он стрелок, зачислил его в свой батальон.
Но, отправившись вечером на Корабельную вместе с Тремко, Чумаченко не застал там генерала в папахе: Хрулёв получил от Горчакова назначение на Городскую сторону, так как там замечена была секретами усиленная деятельность противника перед Кладбищенской высотой, то есть рядом с теми самыми контрапрошами, которые были взяты французами в ночь на 20 апреля.








