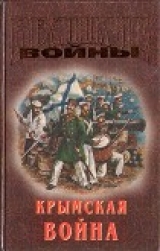
Текст книги "Крымская война"
Автор книги: Сергей Семанов
Соавторы: Сергей Сергеев-Ценский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 49 страниц)
Что не удалось Бурбаки с его тремя батальонами, то удалось Боске, который в одиннадцать часов явился на помощь англичанам с девятитысячным свежим отрядом.
Этот отряд, слившись с тем, что осталось после пятичасового боя от восемнадцати тысяч англичан, принёс с собою живую энергию зуавов, меткость алжирских и венсенских стрелков, обилие патронов. Четыре эскадрона африканских конных егерей примчались вместе с этим отрядом и стали пока в резерве, чтобы в свой час довершить победу над полками дивизии Павлова, которые свелись уже к пяти – пяти с половиной тысячам усталых, частью даже и легко раненных и контуженных, но не покинувших строя людей.
Данненберг думал, что к нему подойдёт дивизия Липранди из отряда Горчакова, стоявшего в полном бездействии и видного с Казачьей горы, когда относило дым ветром; но оттуда никто не двигался; не поднимались свежие полки и со стороны Инкерманского моста или Килен-балки.
Напротив, верховья Килен-балки всё гуще заполнялись англичанами, беспрерывно стрелявшими вниз по Углицкому полку, стоявшему в колоннах.
Шла ещё ожесточённая схватка между охотцами, якутцами, селенгинцами и батальоном французов, но наметавшийся глаз Данненберга в этом скоплении англичан в Килен-балке видел уже сигнал к отступлению. А через несколько минут подобные сигналы стали чудиться ему везде кругом. И когда вдруг из облака дыма, отпрянувшего от только что бахнувшего рядом с ним орудия, вынырнула лошадиная голова, а за нею закруглилось сытое лицо адъютанта Меншикова, полковника Панаева, Данненберг почувствовал острую боль под ложечкой, точно был контужен.
– Это вы? Что? – спросил он с тревогой, думая, что Меншиков извещает его об идущем на помощь резерве, который теперь уже не поможет.
– Его светлость спрашивает, в каком положении дело, – обратился к нему Панаев.
– Дело?..
Весь прокопчённый дымом, так что даже серые усы его почернели, худощёкий, с оторопью в воспалённых глазах, Данненберг закричал желчно:
– Скажите главнокомандующему, чтобы войска, войска мне ещё прислал! У меня нет резервов!.. Даже прикрытия артиллерии нет!.. И все орудия подбиты! Можете полюбоваться!
Точно для доказательства как раз в это время на батарее, шагах в двадцати, взлетел взорванный неприятельским снарядом зарядный ящик.
Осколки долетели до того места, где стоял, верхом на лошади, Данненберг, и один из них ударил в ногу его лошади выше колена. Лошадь повела головой в сторону Панаева, застонала от боли и медленно повалилась на бок. Данненберг едва успел спрыгнуть с неё.
– Вот… Вы видите? – яростно кричал он Панаеву. – Это уж вторая сегодня. Прошу передать это князю!.. Мы не можем больше держаться и сейчас начнём отступать.
Но Панаев, ещё когда взбирался на Казачью гору, видел, что отступление уже шло самотёком.
Не то чтобы здоровые окружали раненого и, пользуясь этим, уходили, как это наблюдалось им часа три назад, – нет, теперь спускались вниз уже целыми толпами, величиною со взвод и больше, и некому было остановить их…
Когда Панаев передал ответ Данненберга Меншикову, он увидал новое для себя, совсем исступлённое лицо старика, которое даже не плясало от нервных конвульсий, как обычно, а будто окостенело.
– Этот Данненберг… – почти простонал, так же как раненная осколком гранаты лошадь, искажённый светлейший, – он… он погубил всё!
И вдруг заверещал каким-то заячьим фальцетом, какого не приходилось тоже слышать у него Панаеву:
– Моим именем передай ему: не отступать, а наступать! Наступать он должен!.. Чтоб он забыл и думать об отступлении! Не Ольтеница ему тут, – нет! И я ему не Горчаков! Позови его ко мне сейчас же! – добавил он решительно, взглянув на стоявших в отдалении великих князей. – Пусть генералу Павлову передаст командование, а сам едет сюда! Я буду здесь!
Панаев поскакал поспешно, но за первым же поворотом разглядел, что Данненберг уже спускался с горы на ординарческой лошадке, а за ним тянулось на тормозах с кручи несколько орудий, окружённых солдатами, видимо пехотинцами: отступление началось, и возглавлял его сам командующий боем.
Великие князья к этому времени проголодались, и тот из их свиты, который должен был заботиться об их удобствах во время сражения, достал дорожную серебряную коробку с закусками. Однако, заметив такое легкомыслие, Меншиков подъехал к ним с озабоченным лицом.
– Ваши высочества, здесь вам нельзя уже больше оставаться, – сказал он, стараясь найти тон, средний между просьбой верноподданного и приказом главнокомандующего.
– А что?.. Что может быть? – спросили они его наперебой.
– Данненберг уступил поле сражения врагу и отступает! – пояснил Меншиков. – Вам нужно будет сейчас же вернуться в Севастополь, ваши высочества.
Коробка с закусками была спрятана, и кавалькада, нельзя сказать, чтобы очень удивлённо или уныло, устремилась вниз, а Меншиков зло двинул коня в сторону Данненберга, увидя Панаева около этого генерала.
– Что вы делаете? Как вы смели это без моего приказания? – закричал Меншиков, подъезжая. – Остановить!.. Сейчас же остановить!
– Как так остановить? – изумился больше, чем обиделся, Данненберг. – Здесь остановить?
– Здесь, здесь! Остановить сейчас же!
– Здесь нельзя остановить, что вы! Здесь можно только всех положить!
– начал также кричать Данненберг. – Отчего вы не прислали мне резерва?
– Я… вам… приказываю… остановите войска! – захлёбываясь и так пронзительно закричал Меншиков, что Данненбергу оставалось только перейти на совершенно официальный тон.
Он отозвался, понизив голос:
– Ваша светлость! Если вы думаете, что теперь можно остановить войска и наступать, то примите сами командование над армией и делайте, что можете сделать…
Он махнул рукою, прощаясь с князем, оглянулся на артиллерию и направил лошадь к киленбалочной плотине.
Меншиков невольно посмотрел на Панаева, точно своего адъютанта призывал в свидетели того, что позволил себе сделать этот горчаковец.
Но в пяти шагах от него был и другой его адъютант, лейтенант Стеценко, а впереди над явно разбитым и растрёпанным, в беспорядке, но плотными кучами отступающим каким-то полком рвалась злая картечь, вырывая новые десятки раненых и убитых.
– Рассыпать их!.. Кто их ведёт так, какой дурак! – обернулся к Стеценко Меншиков. – Командующего полком ко мне!
Едва Стеценко успел ринуться к этому полку, как полковник Исаков, третий его адъютант, доложил обеспокоенно, что великие князья едут как раз на линию обороны, где рвётся уже не картечь, а снаряд за снарядом из огромных осадных орудий. Кстати, и сын светлейшего, уже слегка контуженный в голову, едет тоже с ними.
– Скачи к ним, голубчик, скачи, как же можно! Ах, боже мой, целая орда ординарцев с ними, и все олухи! Поверни их, куда надо! – заторопился и сморщился, еле сидя на седле от волнения, Меншиков.
Всё рухнуло как-то сразу, а ещё утром казалось ему, что всё обдумано им, предусмотрено и сколочено хорошо, и Тотлебен укрепится на правом фланге позиций интервентов так же, как укрепился Липранди у них в тылу, и тогда можно было бы написать царю, что успешно приводится в исполнение его план войны: выжимать союзников постепенно и действовать только наверняка.
Что могло быть приятнее для царя? Сам сидит в Гатчине, но незримо и непогрешимо руководит войной, как гениальнейший из русских стратегов!.. И вот ничего не вышло из этого плана.
Всё рушилось… Рухнуло и падает вниз… Обвал людей в серых шинелях – людей, лошадей, пушек… Наверху ещё идёт стрельба, это, конечно, отстреливаются полки, поставленные в прикрытие артиллерии, но надолго ли их хватит? Устоят ли, пока все русские пушки продерутся через узкое ущелье? Штуцерные пули звенят уже над головой и почти каждая там, ниже, находит свою жертву… Вот уже два больших снаряда, явно из осадных орудий, один за другим взорвались почти около утром наведённого моста…
Исполнительный лейтенант Стеценко возник около с каким-то пехотным штабс-капитаном, неумело сидящим на лошади, замухрышкой.
– Вы что? – воззрился на козыряющего истово штабс-капитана светлейший.
– Честь имею явиться, командующий Томским полком, штабс-капитан Сапрунов, ваша светлость! – неожиданно отчётливо продекламировал замухрышка, в то время как лошадь его фыркала и трясла головой.
– А-а, это тот самый полк, – кучей стоит, – вспомнил Меншиков. – Рассыпать его сейчас же!
– Рассыпать, ваша светлость? Куда прикажете рассыпать? – ничего не понял штабс-капитан Сапрунов.
– Рассыпьте, чтобы меньше нёс потерь, – досадливо поморщился Меншиков.
– Если рассыпать, ваша светлость, то как же его собрать потом? – удивился Сапрунов. – Ведь люди приучены так стоять – в колоннах.
– Старше вас неужели нет никого в полку? – повысил голос Меншиков.
– Никак нет, я остался старший в чине, остальные все перебиты.
– Кто же командует ротами, если вы – полком?
– В пяти ротах совсем нет ни офицеров, ни юнкеров, ваша светлость.
Прикажете унтер-офицеров поставить в ротные?
Сделать унтеров ротными командирами – это не укладывалось в сознании Меншикова, но он слабо махнул рукой в сторону штабс-капитана, чтобы ехал к полку, и сказал, отвернувшись:
– Поставьте…
Но вот неожиданно увидел он шагов за двести от себя кого-то очень знакомого верхом.
– Это не Тотлебен ли, посмотрите! – крикнул он Стеценко, указывая рукой.
– Полковник Тотлебен, так точно, – тут же ответил Стеценко, привыкший уже к сухопутному строю службы и ответов начальству.
Тотлебен, – видно было, – деятельно устанавливал на киленбалочной площадке разрозненные полки пехоты; там даже старательно равнялись по жалонёрам с красными флажками на штыках.
– Ведь вот же делает человек именно то самое, что и надо! – обрадованно обратился к Стеценко Меншиков, мгновенно забыв, что только что сам приказал замухрышке штабс-капитану рассыпать заботливо собранный им полк.
Помахав хлыстиком перед правым глазом коня, затрусил он к Тотлебену.
Этот флегматичный с виду инженер-полковник, которого месяца два назад до того недоброжелательно встретил светлейший, что хотел даже отправить обратно в Кишинёв к Горчакову 2-му, своей неутомимой деловитостью нравился ему всё больше и больше. К тому же он был, когда не при деле, достаточно остроумен и весел, что тоже ценил Меншиков в людях. Теперь же, среди общей разбросанности, растерянности, разбитости, казалось так, только он один и мог как-нибудь наладить всё и привести хоть сколько-нибудь в порядок.
– Ну, вот это хорошо, голубчик, что хоть вы здесь, очень хорошо, – говорил он, по-стариковски горбясь на седле, Тотлебену. – А Данненберг сбежал! От него не ждите приказаний: сбежал!.. Нет-с, он у меня здесь больше не будет, нет-с! Я не хочу его терпеть около себя и одного дня-с! – удивляя Тотлебена, кричал он, яростно выкатывая глаза из дряблых зеленовато-жёлтых мешков.
Между тем совершенно некогда было слушать вышедшего из себя главнокомандующего, – нужно было действовать: дорога была буквально каждая секунда.
Кусты наверху на кручах уже зацвели красными цветами зуавьих фесок; батареи лёгких орудий поспешно ставились по отрогам, чтобы обстреливать отступающих; владимирцы, поставленные Данненбергом на Казачьей горе прикрывать отход орудий, потеряли уже раненным в руку своего командира полка, барона Дельвига, племянника поэта, и пятились под напором алжирских стрелков Боске. Штуцерные пули пели всё чаще; валились, вскрикивая, люди.
Построив в ротные колонны толпы солдат, Тотлебен рассыпал одну роту в цепь отстреливаться от зуавов, другую роту послал помогать спускать на руках орудия; отправил лейтенанта Скарятина к контр-адмиралу Истомину, чтобы прислал матросов на помощь артиллеристам…
Меншиков одобрительно кивал головой на всякое распоряжение Тотлебена, а когда полковник Панаев сказал ему: «Ваша светлость, здесь небезопасно стоять от пуль!» – он сразу же согласился и с этим и повернул лошадь, сказав на прощанье Тотлебену:
– Я на вас надеюсь, как на самого себя.
Только подъезжая к киленбалочной плотине, он вспомнил о генерале Тимофееве и сказал Панаеву:
– Что же Тимофеев? Как удалась ему вылазка, и жив ли остался? Надо бы узнать…
Панаев тут же направился к шестому бастиону, а светлейший, заметив издали генерала Кирьякова, не менее ненавистного ему, чем с нынешнего дня стал ненавистен Данненберг, постарался объехать его стороною, хотя он делал то же самое, что делал на середине подъёма Тотлебен: собирал и строил полки своей разгромленной дивизии, бывшие под начальством Соймонова и Жабокритского, – Бородинский и Тарутинский, которые отступали со стороны каменоломен. Третий полк его – Бутырский – прикрывал ретираду дивизии Павлова, но толпы солдат-бутырцев оказались и здесь, внизу, около перевязочного пункта: они деятельно сопровождали раненых, и на них кричал знаменитым своим тенором Кирьяков.
С «Херсонеса» и «Владимира» летели, визжа, снаряды туда, где зуавы Боске устанавливали свои батареи.
На киленбалочной плотине, устроенной незадолго перед войной как часть Сапёрной дороги, стояла такая глубокая вязкая грязь, что не только орудия застревали в ней, даже и люди с трудом вытаскивали ноги, а иные теряли в ней сапоги.
Меншиков, пробираясь по ней, желчно бросил ехавшему на шаг сзади его Исакову:
– Вот мерзавцы, а! Видишь, как они строили дорогу? Не смогли замостить как следует… Камня кругом прохвостам было мало.
Исаков согласился, конечно, что строили дорогу прохвосты, но мог бы заметить, так как отлично знал это, что на дорогу светлейший сам всячески старался не отпускать денег, находя её совершенно лишней, и, когда её бросили делать, наконец, не докончив, сказал облегчённо:
– Слава богу, отсосались казнокрады!.. Любопытен я знать, какой они ещё преподнесут мне проектец!
Казнокрады эти были из инженерного ведомства, но Меншиков не мог не знать за свою долгую, почти полувековую службу, что казнокрадов сколько угодно и во всех других ведомствах и что, если отнять у них возможность красть на необходимых работах, прекращая эти работы, они будут искать способы красть и на безработице, и в конечном счёте потеряет государство на бездействии и застое несравненно больше, чем на самом лихом казнокрадстве.
Корреспондент лондонской газеты «Морнинг кроникл» писал как очевидец об отступлении русской армии так:
"Судьба сражения ещё колебалась, когда прибывшие к нам французы атаковали левый фланг неприятеля. С этой минуты русские не могли уже надеяться на успех, но, несмотря на это, в их рядах незаметно было ни малейшего колебания и беспорядка. Поражаемые огнём нашей артиллерии, они смыкали ряды свои и храбро отражали все атаки союзников, напиравших на них с фронта и фланга. Минут по пяти длилась иногда страшная схватка, в которой солдаты дрались то штыками, то прикладами. Нельзя поверить, не бывши очевидцем, что есть на свете войска, умеющие отступать так блистательно, как русские.
Преследуемые всею союзною полевой артиллерией, батальоны их отходили медленно, поминутно смыкая ряды и по временам бросаясь в штыки на союзников. Это отступление русских Гомер сравнил бы с отступлением льва, когда, окружённый охотниками, он отходит шаг за шагом, потрясая гривой, обращает гордое чело к врагам своим и потом снова продолжает путь, истекая кровью от многих ран, ему нанесённых, но непоколебимо мужественный, непобеждённый".
Очевидец, кто бы он ни был, не мог, конечно, видеть всего поля сражения, как не мог видеть его любой из командующих боем.
Это мнение могло сложиться у него несколько позже, когда к своим личным впечатлениям мог он прибавить наблюдения других и сделать общий вывод.
Но о том, что русские полки, сбитые с английской позиции благодаря превосходству оружия и сил интервентов, не оставили в руках у них не только ни одного из шестидесяти четырёх введённых в дело орудий, но даже ни одного зарядного ящика, ни одной простой повозки с целыми колёсами, – об этом говорят многие очевидцы с обеих сторон.
Кому же приписать честь этого отступления, о котором восторженно отзываются даже враги?
Данненбергу ли, который уехал в Севастополь в самом начале этого отступления, или Меншикову, который уехал на час позже, – в то время как войска отступали до полной темноты, до восьми часов вечера, – или Тотлебену, который пробыл на месте почти до конца?
Тотлебен сделал, конечно, много, – гораздо больше, чем кто-либо другой из начальствующих лиц, – чтобы отступление велось в порядке и с меньшим количеством потерь. Он добился того, чтобы спустившиеся уже до половины дороги вниз роты Углицкого полка и батальоны Бутырского в большем порядке, чем они могли бы это сделать сами, отразили наседающих зуавов; он даже остановил полубатарею из четырёх лёгких орудий и заставил её вести перестрелку с лёгкой батареей союзников; посланный им к Истомину лейтенант Скарятин привёл матросов, и дюжие, привыкшие обращаться с пушками матросы действительно много помогли артиллеристам, на своих руках спуская орудия, потерявшие упряжки в бою; он даже посылал на пароходы «Херсонес» и «Владимир», чтобы усилили огонь, и эта мера оказала своё действие и значительно охладила пыл французов…
Но всё-таки настоящим и подлинным героем отступления, как и героем боя, проигранного неспособными и неспевшимися русскими генералами, оказался русский солдат.
Солдаты полков 10-й и 11-й дивизий, только что прибывшие из далёкой Бессарабии, которая рядом с чужою Молдаво-Валахией, знали и понимали, что вызваны они защищать родину, а не воевать с турком на его земле; и ещё, что очень крепко знали они о себе, это то, что они непобедимы.
Легенды ли, песни ли, предания ли, которые передаются от старых солдат молодым из поколения в поколение, внушили им веру в свою непобедимость, или это был просто приказ начальства: «Заучи наизусть, что ты непобедим, и знай это по гроб жизни, а то шкуру спущу!»
Могло быть и то, и другое, и третье, но главное всё-таки – такую уверенность солдатской голове давали ноги, которые вышагивали в походах маршруты в тысячи вёрст, пока приходили к границам русской земли.
Ведь солдаты русские были сами люди деревни; они знали, что такое земля, с кем бы ни довелось за неё драться, и без особых объяснений ротных командиров могли понять, что такую уйму земли, как в России, могли добыть с бою только войска, которые непобедимы.
География учила их истории и вере в себя, и на Инкерманские высоты поднялись они как хозяева, выгнать непрошеных гостей.
Гостей этих они не выгнали, правда, гости остались, но остались на весьма долгий срок, что совсем не входило в их расчёты.
Интервенты хотели покончить с Севастополем до наступления зимы, чтобы зиму провести под крышами, если русские тут же после взятия Севастополя не согласятся на мир.
У них всё уже было подготовлено к штурму двух соседних бастионов: англичане должны были штурмовать третий, французы – четвёртый, и была полная уверенность в успехе, тем более что со дня на день ждали они подкреплений войсками, орудиями, снарядами, патронами, порохом, зимней одеждой и прочим.
Укрепившись после Балаклавского дела на кадыккойских позициях и сделав почти неприступной Сапун-гору против Федюхиных высот, они считали обеспеченным свой тыл, если только не кинется на Балаклаву сразу вся армия Меншикова, но и на этот случай они приняли ряд необходимых мер.
О прибытии к Меншикову 4-го корпуса осведомлены были Канробер и Раглан, но они не думали, что русский солдат выкажет такое нечеловеческое упорство в бою с противником, вооружённым гораздо лучше его, и нанесёт ему такие страшные потери, после которых нельзя уже было и думать о штурме.
«В Инкерманской битве, – писала тогда „Таймс“, – нет ничего для нас радостного. Мы ни на шаг не подвинулись к Севастополю, между тем потерпели страшный урон». Урон же интервентов, особенно англичан, был так велик, что Раглан несколькими последовательными депешами подготовлял общественное мнение Англии к ошеломляющей цифре этого урона и всё-таки, по общему мнению корреспондентов газет, так и не рискнул назвать эту цифру.
Опасаясь волнений на бирже и падения ценных бумаг, значительно урезал список потерь французов Наполеон III. Напротив, чтобы поднять настроение в Париже, он приказал палить из пушек с Дома инвалидов, что делалось только в случаях большой победы французского оружия. Между прочим, при церкви Дома инвалидов погребён был прах трёх величайших французских полководцев:
Тюрення, Наполеона и… Сент-Арно!.. Так торопился маленький племянник великого дяди сравняться по части великих побед с эпохой Наполеона.
Конечно, братец его, граф Морни, делал хорошие дела на парижской бирже под победный, – и уже не выдуманный, – гром пушек с Инвалидного дома, а императрица Евгения приготовляла всё для балов и процессий.
Но это было значительно позже, а вечером в день Инкерманского боя Раглан с Канробером обсуждали начерно вопрос о том, не лучше ли будет как можно скорее снять осаду, так как ещё одна такая победа над русскими, и некому будет стоять около осадной артиллерии англичан, а следующая подобная победа обнажит позицию французов.
Официальные потери интервентов были показаны вдвое меньшими сравнительно с русскими потерями (в круглых цифрах: четыре с половиной тысячи против девяти), но список потерь офицеров и генералов нельзя было подчистить, – лица командного состава были на виду и на счету, – и если в русских войсках выбыло в этот день, считая и отряд генерала Тимофеева, двести восемьдесят девять офицеров и шесть генералов, то и у союзников вышло из строя двести шестьдесят три офицера и одиннадцать генералов, причём у англичан немногим больше, чем у французов.
И если Раглану казалось, что в сражении на Алме он в офицерском составе понёс большие потери, чем Веллингтон при Ватерлоо, то после Инкермана ему уже приходилось не вспоминать Ватерлоо.
Кроме того, в полках интервентов слишком велика была смертность среди раненных в штыковом бою, в то время как в списки русских потерь попало очень много легко раненных, скоро вернувшихся в строй.
При русской армии тогда не было корреспондентов газет, и некому было давать живые и правдивые картины этого исключительного по упорству сражавшихся боя.
В дыму пороховом и в тумане, в оврагах и в тесноте редутов, отнюдь даже не на глазах своего начальства, выбитого меткими пулями снайперов в самом начале боя, врукопашную, безвестно и геройски бился и побеждал или погибал русский солдат, очертя голову наступая и гоня перед собою лучших по тому времени солдат Европы.
И из всех героев в серых шинелях только об одном в дошедших до нас воспоминаниях сохранилось смутное указание, что он, уже при отступлении, несколько раз ходил под штуцерным и картечным огнём в овраги каменоломни за своими ранеными товарищами и притаскивал оттуда каждый раз по два и даже по три человека.
Но имя и этого героя всё-таки не сохранилось для потомства.
Все тяжело раненные в этом бою, как и на Алме, остались как пленные у англичан, зато англичане и всех своих убитых имели у себя под рукою, им не пришлось уже теперь посылать парламентёров в русский стан, как это было после кавалерийского Балаклавского дела.
Тогда благовоспитанные английские джентльмены-офицеры в числе трёх человек явились под белым флагом к генералу Липранди и, – может быть, они вспомнили сцену из «Илиады», как Приам привёз Ахиллу кучу драгоценностей для выкупа тела своего сына Гектора, или были просто осведомлены, что в России ничего вообще не добьёшься без приличной взятки, – они с первых же слов предложили Липранди денег за то, чтобы разрешил он взять с поля сражения трупы убитых английских офицеров бригады лорда Кардигана.
Конечно, это были трупы молодых представителей английской знати; они имели большую цену и для своих богатых семейств и для их великосветских родственников и хороших знакомых, но русский дикарь-генерал этого не понял. Он даже как будто оскорбился предложением денег. Он ответил высокомерно:
– Я мертвецами не торгую! – и отошёл.
Он ни о чём больше не хотел разговаривать с английскими джентльменами, и хотя разрешил, конечно, забрать трупы, но мотивировал это разрешение целями чисто санитарными, и о невежестве этого русского дикаря-генерала долго и язвительно писали потом не только английские, но и французские газеты, называя его, впрочем, для пущего эффекта князем Горчаковым.
Трупы английской знати и здесь, на Инкерманском плато, были тщательно собраны ещё до восхода луны. Но у многих английских солдат, большей частью ирландцев, были жёны, жившие на задворках лагеря в палатках. Для начальства трупы этих солдат какую же могли иметь цену, если даже и живым солдатам за их военную работу цена была всего один шиллинг в день? Но ко многим жёнам не вернулись в этот злой день их мужья-солдаты, и вот, при луне, среди гор трупов, лежащих повсюду: около редутов, возле лагеря, в оврагах, на взлобьях холмов, в кустах, бродили женщины, поворачивая бледные лица убитых к луне, надеясь узнать и боясь узнать в них своих мужей, причитая и плача.
Так когда-то, после битвы при Гастинге, Эдифь – Лебединая шея, воспетая Генрихом Гейне, – искала труп короля саксов Гаральда не потому, что он был король, а потому, что задолго до своей смерти он был её «незаконным» мужем.








