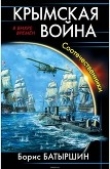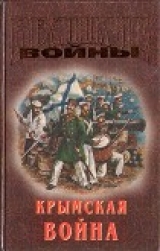
Текст книги "Крымская война"
Автор книги: Сергей Семанов
Соавторы: Сергей Сергеев-Ценский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 49 страниц)
Только в три часа перевезли тело Нахимова, через рейд в город, в тот дом около Графской пристани, в котором он жил постоянно: он доказал всё-таки Сакену, что перебираться в безопасные Николаевские казармы ему было действительно не нужно, – смерть дожидалась его не в городе, а на боевом посту.
Весь Севастополь уже знал о кончине Павла Степановича. Штатских людей оставалось теперь уже немного, однако они были очень заметны в густой толпе, собравшейся около Графской встретить траурный баркас, шедший на буксире парового катера.
Волновалось море, покрытое беляками; сильное волнение было даже и на рейде.
Панфилов, который был назначен на место покойного командиром порта и помощником начальника гарнизона, сам с тремя капитанами 1-го ранга принял с баркаса гроб с телом и перенёс в дом.
Там покрыли тело пробитым под Синопом в нескольких местах ядрами флагом с «Императрицы Марии», и открыли двери для желающих проститься с адмиралом, а этих последних было так много, что они заняли всю площадь, и с каждой минутой подходили новые – командами и одиночным порядком.
Одни только матросы, построившись в две шеренги и входя в дом сразу по двое, прощались больше часу… Много сошлось женщин, хотя покойный и высылал их всеми способами из осаждённого города во избежание напрасных смертей и увечий, и много было пролито слёз около тела, сурово покрытого боевым флагом.
Но плакали не одни только женщины – сёстры милосердия, солдатки и матроски с Корабельной, торговки, прачки, жёны и дочери офицеров… Мокрые глаза были и у матросов и солдат, у офицеров и генералов, и снова расплакался Горчаков, когда приехал на церемонию похорон.
Об умершем ли герое плакали?.. Может быть, только о человеке, который сумел сохранить душевную теплоту, несмотря на свой чин и положение во флоте и в осаждённом городе, несмотря на всю обстановку осады с каждодневными канонадами и частыми боями, обстановку, при которой неизбежно черствеет сердце, ожесточается душа.
Недаром месяца четыре спустя, когда Петербург встречал приехавшего на отдых Тотлебена, небезызвестный поэт того времени, Аполлон Майков, в стихах, посвящённых ему, не мог не вспомнить и о Нахимове:
Нахимов подвиг молодецкий
Свершил, как труженик-солдат,
Не зная сам душою детской,
Как был он прост, велик и свят!
Хоронили на другой день вечером.
Полевая батарея – шесть орудий в упряжках – стала на площади; два батальона – матросы с одной стороны, солдаты с другой – выстроились шпалерами от дома к Михайловскому собору. Народ толпился на бульваре Казарского, на лестнице библиотеки, на всех высоких местах кругом. Такого стечения народа не видал Севастополь ни раньше, ни после. Эти похороны были исключительны и потому, что неприятель прекратил обычную пальбу, хотя не мог не видеть огромных толп на площади и прилегающих улицах.
Пошёл гулять даже кем-то пущенный слух, будто суда противника скрестили реи и спустили флаги – дань уважения умершему герою Синопа, и минуты были так торжественно скорбны, что всем хотелось этому верить.
Гроб, обвитый тремя флагами – контр-адмиральским, вице-адмиральским и адмиральским, – вынесли из дома осиротевшие адъютанты и понесли в собор, а оттуда, после отпевания, в новый склеп рядом со старым.
Прощально загремели пушки, раздались залпы тысячи ружей, каменщики спешно заделывали склеп… И только когда уже начало темнеть и успели разойтись толпы вслед за уходившими батальонами матросов и солдат, в город полетели ракеты одна за другой. Досужие люди насчитали их ровно шестьдесят штук. Они были очень красивы в своём полёте на фоне ночного неба, но стоили дорого, мало принося вреда.
Они внесли даже свою долю скорбной торжественности в этот вечер 1/13 июля: они были как погребальные факелы, зажжённые врагами в честь русского народного героя.
Суровые, правда, факелы, но и знаменитый адмирал, уничтоживший без остатка турецкий флот, скрывавшийся в Синопской бухте, не мыслился ими иначе, как человек весьма суровый.
Он и был действительно суров и в море и на суше, несмотря на всю свою доброту, чуть только дело касалось чисто военной работы команд, но потому-то и была так чиста, потому-то и изумила мир военная работа «детей»
Нахимова на море, как и на суше, на севастопольских бастионах.
Конечно, куда пышнее было всего за несколько дней до похорон Нахимова шествие с прахом лорда Раглана от дома главного штаба английской армии до Камышовой бухты, где гроб был погружен на судно для отправки его в Англию.
Восемь пар лошадей в чёрных попонах везли катафалк с гробом, а около каждого угла катафалка ехали главнокомандующие союзных армий: спереди Пелисье и генерал-лейтенант Симпсон, старший из английских генералов, сзади Омер-паша и Ла-Мармора, и каждый главнокомандующий окружил себя своим штабом в блестящих парадных мундирах.
Парадные мундиры разнообразнейших цветов и покроев, украшенные золотым и серебряным шитьём и орденами, прекрасные кони, великолепные сёдла; английские сначала, а потом, ближе к Камышу, французские войска, выстроенные по обеим сторонам дороги; национальный английский флаг, покрывающий гроб, национальный английский гимн, исполняемый оркестрами, – всё это пышное и показное было представлено во всей полноте, но не было простых и тёплых слёз над гробом этого неудачливого «завоевателя Крыма» в угоду банкирам Сити.
Потерявший руку под Ватерлоо, а жизнь под Севастополем, Раглан должен был, по распределению подвигов среди союзных полководцев, взять у защитников крепости всего только один третий бастион – Большой редан, но так и умер, не осилив этой задачи; и английскую армию, бывшую под его начальством, перестали уважать даже и союзники англичан французы; презрительнее относились они только к туркам.
Когда Камыш наводнили парижские гризетки и за одной из них принялся усиленно ухаживать один богатый лорд в немалом чине, эта гризетка сделалась однажды героиней дня в лагере французов. Она, насквозь продажная, швырнула лорду в его холёную сытую физиономию всученный было ей кошелёк с золотом и патетически сказала при этом во всеуслышание:
– Я для вас так же неприступна, как русский Большой редан!
Французские офицеры за этот ответ носили её на руках и засыпали деньгами. Таково было сердечное согласие – entente cordiale – двух сильнейших европейских наций в этой войне.

ЧАСТЬ IX
ПЯТАЯ БОМБАРДИРОВКА
Две крепости одиннадцать месяцев стояли одна против другой: патриархальная русская Троя, возникшая наскоро, на авось, на глазах у многочисленного врага, внизу, у берегов узкого морского залива, и гораздо более сильная, устроенная на высотах над нею и по последнему слову техники, крепость четырёх союзных европейских держав.
И если русские генералы, повинуясь указке из Петербурга, не задумались бросать на приступ твердынь интервентов на Федюхиных горах полк за полком своей безотказной пехоты, которой на помощь где не успела, а где и совсем не могла прийти артиллерия, то гораздо расчётливей оказались их противники: чрезмерно богатые снарядами, они всячески берегли людей.
Крымская война и без того уже стоила слишком много союзникам, затянувшись, по мнению политических деятелей Лондона и Парижа, на непростительно долгий срок; огромное число потерь, понесённых армиями англичан и французов, и без того уже испугало тех, кто легкомысленно начинал войну на Востоке.
Несчастное словцо Горчакова «начинать» двинуло войска злополучного Реада в атаку почти за полверсты от французских батарей, совершенно необстрелянных, так как снаряды русских пушек туда не долетали. Траншеи интервентов были уже местами всего в нескольких десятках сажен от валов русских бастионов, и почти каждый снаряд, – французский он был или английский, прицельный или навесный, – находил свои жертвы, приносил свой вред.
Казалось бы, всё уже было подготовлено маршалом Пелисье и другими генералами союзных армий для несомненной удачи штурма Севастополя, но свежа ещё была память о 6/18 июня, а успех отражений русских атак на Федюхины горы достался не такой уж дешёвой ценой. Главное же, дело на Чёрной речке показало Пелисье и другим, что представляет из себя русский солдат, даже и предводимый совершенно бездарными генералами.
Беззаветная храбрость русских полков, лезших на неприступные горы, явилась причиной того, что бомбардировка, начатая утром 5/17 августа, была заранее рассчитана союзным командованием не только на огромнейшую интенсивность, но ещё и на очень долгое время, чтобы выбить, наконец, у героического гарнизона даже и самую мысль о возможности сопротивляться, когда начнётся общий штурм бастионов.
В превосходстве своего огня над огнём защитников Севастополя интервенты не сомневались – это было учтено и взвешено точно, – и бомбардировка, начатая ими, должна была не только непоправимо разметать все верки, но ещё и придавить их остатки миллионом пудов чугуна так, чтобы дело обошлось совсем без штурма, чтобы не для уборки трупов, а в целях сдачи крепости заплескали, наконец, в один прекраснейший день белые флаги, которых слишком заждались в нескольких европейских столицах.
Ровно в пять утра пять батарей французских, расположившихся на бывшей Камчатке, начали канонаду: весь Зелёный Холм (Кривая Пятка) сразу окутался плотным дымом, сквозь который замелькали жёлтые огоньки выстрелов, а не больше как через минуту загрохотало, засверкало и заклубилось во всю длину неприятельских батарей вправо и влево от Камчатки…
Как будто возобновился тот самый, прерванный ровно два месяца назад бой за второй и третий бастионы и за Малахов курган, потому что на них и на куртину между Малаховым и вторым бастионом был направлен весь ураган разрывных и сплошных снарядов.
Давно уже не было дождей; земля всюду на бастионах, – сто раз перемотыженная и перешвыренная с места на место лопатами земля, – расселась, растрескалась, расслоилась и теперь взвивалась густою пылью над глубоко уходившими в неё ядрами интервентов. А огромные – пяти– и семипудовые взрывчатые снаряды взмётывали уже не пыль, – целые земляные смерчи; местами же обрушивались с брустверов во рвы, ссовывались вниз сдвинутые взрывами до середины рыхлые насыпи, увлекая за собой и туры, и фашины, и мешки… То, на что рассчитывали, – ошибочно, как оказалось, – инженеры и артиллеристы интервентов в первую бомбардировку – 5/17 октября, было достигнуто ими теперь, в двенадцатый месяц осады: земля бастионов оставалась та же – хрящеватая, сухая, очень опасная для тех, кто доверился её защите, но число осадных орудий выросло вдвое, причём мортир среди них стало больше в несколько раз.
На помощь союзникам пришёл в это утро и ветер, который гнал густые тучи дыма на русские батареи, и уже в первые несколько минут канонады всё вздёрнулось на дыбы, напряглось до последних пределов сил, отведённых человеку…
Дым от своих орудий, туча чужого дыма, заслонившая всё кругом, так что и в двух шагах не было ничего видно; ежесекундные взрывы неприятельских снарядов; гул и треск, и мелкие камешки, срываясь с насыпей, бьют в лицо, как град, и около падают иные разорванные, иные стонущие товарищи; и всё же, не теряя ни одного мгновенья, нужно заряжать и посылать ответные ядра и гранаты… Куда посылать? – Неизвестно: нет ни малейших возможностей для прицела…
Траншеи противника были пусты: только артиллеристы работали там около орудий, разбившись на три смены, и чуть начинала выбиваться из сил или выбиваться русскими ядрами одна смена – место её заступала другая.
Совсем не то было на севастопольских бастионах: они были переполнены людьми. Никто из начальствующих лиц, начиная с самого Горчакова и Остен-Сакена, не ожидал, что канонада затянется надолго, поэтому для отражения штурма были собраны на бастионах испытанные полки.
Они таились до времени в длинных и в надёжных, казалось бы, подземных казармах-блиндажах, но в эту бомбардировку в дело введены были союзниками новые сильнейшие мортиры, от которых не спасали уже ни двойные накаты из толстых брёвен, ни двухметровые пласты утрамбованной земли над накатами блиндажей.
Даже если бомбы и не врывались внутрь блиндажа, действие их всё-таки было ужасно, так как вниз, на плотные массы солдат, валились брёвна, и раздавленные ими тела засыпало землёй, как в готовой могиле.
Обилие орудий и снарядов позволяло англо-французам скрещивать огонь многих соседних батарей на каком-нибудь одном из русских укреплений, и тогда буквально не было на нём места, где бы не падал снаряд, истребляя всю живую и чугунную силу его в две-три минуты.
Теперь уже не только простодушный кубанец, пластун Трохим Цап, но и любой из самых привычных и опытных артиллеристов русских мог бы сказать:
«Это уж не сражение – это душегубство!» И, однако, все стояли на своих местах и делали своё дело около орудий.
В одних рубахах, мокрых от пота и чёрных от дыма, в таких же парусиновых шароварах, в бескозырках, сдвинутых на затылок, а где и совсем без них, в чёрных форменных галстуках, а где и сорвав их с себя, чтобы не давили шеи, то и дело стряхивая и смахивая пот со лба, чтобы не ел глаза, действовали матросы, командуя при этом не словами, – сильными жестами и выпадами подбородков, теми солдатами, которые были присланы им в помощь.
Только изредка слышали солдаты ободряющее рычание матросов:
– Что? Жарко?.. Не рробь, братцы!
И вдруг взлетал на воздух или отбрасывался далеко в сторону, мелькнув широкими парусиновыми шароварами, матрос, и солдат, его ученик, тут же становился на его место: смерть была не страшна, потому что не было около шага земли, где бы не было смерти.
Люди сами не замечали, как переходили они за тот предел, куда не забиралась, не могла забраться боязнь, где сохраняется только сознание какого-то одного общего и совершенно неотложного дела, но теряется иногда надолго ощущение того, что твоей жизни угрожает опасность.
И что такое эта опасность? Мысль о том, что ты можешь потерять руку, ногу, что в твою грудь или в живот вопьётся осколок и причинит тебе много страданий? Здесь даже этой мысли неоткуда было взяться: раненых почти совершенно не было в этот день на бастионах, были только убитые наповал, разорванные в куски…
Залпы семипудовых мортирных батарей в первый раз за всё время осады именно в эту бомбардировку были применены французами, и действие этих залпов было таково, что в несколько минут совершенно изменялся внешний вид укрепления, так что его не узнавал даже и тот, кто им командовал.
Ранение Тотлебена и смерть Нахимова помешали укрепить Корабельную сторону так, как это хотел сделать первый: вместо ста двадцати новых орудий большого калибра было поставлено только сорок; поэтому батареи второго бастиона и Малахова кургана не могли выдержать борьбу с батареями французов. Семипудовая бомба взорвала около полудня пороховой погреб на втором бастионе; две другие такие же бомбы пробили крыши двух бомбохранилищ на Малаховом, и взрывы собственных бомб произвели огромные опустошения. К вечеру оба эти бастиона умолкли.
Весь день этот ядра, гранаты и бомбы густой и жадной стаей летели также и в город, ложась там, где их не видели раньше. Сплошь были завалены к концу дня щедро расточаемым чугуном улицы и площади, которые стали не только непроезжи, даже непроходимы от огромных воронок. Дома, ещё накануне имевшие нетронутый вид, теперь лежали в развалинах; кресты с церквей и колоколен сбиты.
Мало уже оставалось жителей в Севастополе к утру этого дня, но и те с началом бомбардировки кинулись спасаться частью в Николаевские казармы, большей же частью на Северную, куда перевозили их яличники, бывшие матросы.
Старики эти, из которых иные были участники Назаринского боя, спокойно относились к канонаде. Геройство это было с их стороны или нет, об этом они не думали, – перевоз давал им заработок, и этого с них было довольно. Но когда на середине бухты видели они рыбу кверху брюхом, они сокрушённо качали седыми головами и говорили своим пассажирам:
– Ишь, подлюги, рыбы-то сколько глушат снарядишками зря!
Все они были не только перевозчиками, но и рыбаками тоже, и в этот день, так же как во всякий другой, в каждом ялике торчали связка удочек, сачок и ведёрко с пойманными на ранней заре горбылями.
Два бастиона Корабельной стороны всё-таки вполне успешно состязались с осаждающими в этот грохотавший неслыханными громами день: первый, изумивший французов, и третий, одержавший решительную победу над англичанами.
Хотя усилия целой Англии были направлены только к тому, чтобы овладеть третьим бастионом, но это уж не казалось такою новостью для третьего бастиона, как в первую бомбардировку, в октябре. Враг был давно уже обследован, освоен. Если не было уж на бастионе, как тогда, в октябре, бравого капитан-лейтенанта Евгения Лесли, то был штабс-капитан артиллерии Дмитрий Хлапонин, который помнил, стоя на своей батарее, как говорил когда-то Лесли: «Погодите, господа энглезы, мы вам расчешем ваши рыжие кудри!..»
И расчесали действительно в этот день.
Ещё в седьмом часу был уже взорван у англичан большой пороховой погреб.
Увидев это, кричали «ура» на бастионе и батареях Будищева, Никонова, Перекомского, вошли в азарт и не больше как через полчаса взорвали другой погреб…
К вечеру пять погребов было взорвано у англичан и около половины батарей сбито.
Конечно, сильно пострадал при состязании и бастион, особенно его исходящий угол, но к этому уж привыкли, что исходящий угол при каждой сильной бомбардировке разрушался до основания, а наутро возникал вновь.
На третьем бастионе стоял в блиндажах Охотский полк, который только что приготовился было отпраздновать свой полковой праздник не менее пышно, чем праздновал он 1 мая полугодовую страду свою в Севастополе. Полковой праздник охотцев – «преображение господне» – приходился на шестое число, а пятого началась канонада, совсем другой праздник, праздник смерти и разрушения, – но всё-таки не будни же, так как напряглись до предела все человеческие силы.
От взрывов погребов у англичан пять раз дрожало всё на бастионе, как во время землетрясения. Батареей Будищева командовал теперь, чтобы оправдать её имя, младший брат основателя её, лейтенант Будищев, такой же приземистый, косоплечий и озорноватый. Большие снаряды к бомбическим орудиям отпускались по счёту, по девяти штук, но лейтенант, стоя у такого орудия, вошёл в раж, свойственный и его покойному брату.
– Сколько снарядов из этой выпустили? – спросил он.
– Да уж все девять, – ответили ему.
– Э-э, чёрт, валяй, в мою голову, десятый для ровного счёта! – энергично махнул рукой Будищев, и незаконный снаряд был послан, и он-то взорвал самый большой из английских погребов.
Полевая батарея, которой командовал Хлапонин, была в резерве, но он знал, что её со всей поспешностью нужно будет придвинуть к передовой линии для отражения штурма. Этого штурма ожидали рано утром на другой день, думая, что вошёл уже в привычку у союзников такой именно порядок действий: развивать бешеную канонаду в течение суток и потом идти на приступ.
Дмитрий Дмитриевич совершенно успел втянуться в прежнюю жизнь ещё там, в лагере на Инкерманских высотах. Когда он получил назначение на третий бастион, был период сравнительного затишья, так что, попав опять туда же, где был он контужен в голову в октябре, он как будто, – с очень большим перерывом, правда, – продолжал стоять на страже Севастополя там же, где начал.
Не было здесь совсем ни одного офицера из тех, кого он припоминал, и самый бастион почти неузнаваемо изменил свой вид, и в то же время как-то неразрывно крепко сплелось в Хлапонине то, что рисовала ему память с тем, что он видел и слышал теперь.
Матросов стало уже гораздо меньше, чем было тогда, девять месяцев назад, но зато каждый из них сделался куда заметней в массе солдат. И тот морской строй службы, какой ввели матросы здесь, на суше, он всё-таки остался. Не вывелись морские команды, и солдаты, назначаемые к орудиям, изо всех сил старались подражать во всех приёмах матросам.
Никто не мог объяснить Хлапонину, кто и когда назвал третий бастион «честным», но ему очень нравилось это название, особенно когда он слышал, как на его же батарее говорили между собою солдаты:
– Это ж вы знаете, братцы, на какой вы баксион попали? Называется баксион этот «честный», так что тут уж дела не гадь!
Хлапонин с кадетских лет привык к выражению «честь полка»; он вполне понял бы и выражение «честь бастиона». Но когда он услышал, что из всех севастопольских бастионов только один третий почему-то, – совершенно неизвестно почему именно, – даже среди солдат получил название «честного», он проникся и гордостью и радостью вместе, так как считал этот бастион своим.
Если на соседнем Корниловском бастионе несколько недель обитала сестра милосердия Прасковья Ивановна Графова, свидетелем гибели которой пришлось Хлапонину быть, то и на третьем жила совершенно бесстрашная женщина, матроска Дунька, имевшая прозвище Рыжей.
Перевязок делать она не умела, – она была бастионной прачкой. И не пришлая она была, как Прасковья Ивановна, а здешняя: её избёнка, полупещера, стояла тут же, на бастионе, за батареей Будищева.
Муж её, матрос, был убит ещё в октябре, а через месяц после того похоронила она двух своих ребятишек, задетых осколками бомбы. Но, оставшись бобылкой, всё-таки никуда не ушла из своей полупещеры, не уходила и тогда, когда получала приказания уйти. На неё, наконец, махнули рукой.
Неробкое, конечно, и раньше, скуластое, курносое обветренное лицо её сделалось после всех понесённых ею потерь явно вызывающим, чуть только дело касалось неприятельских бомб, ядер и штуцерных пуль. Но так как бомбы, ядра и пули, реже или гуще постоянно летели на третий бастион, то рыжеволосая голова, чаще открытая, чем повязанная платком, обычно сидела прямо на шее, украшенной ожерелкой из цветного стекляруса, и серые круглые глаза глядели по-командирски.
О мойке офицерского белья заботились денщики; Рыжая Дунька мыла бельё матросов, бессменно стоявших у орудий, а полоскать его таскала на коромысле к бухте, на Пересыпь. Для просушки же белья у неё протянуты были верёвки около хатёнки.
Иногда пули, иногда осколки снарядов перебивали эти верёвки, и Дунька ругалась отчаянно, приводя своё хозяйство в порядок. Но случалось и так, что в грязную пору ядро ли падало, бомба ли взрывалась около, и обдавалось всё развешенное на верёвках бельё густою грязью. Вот когда приходила в полное неистовство Дунька и когда ругательства её достигали наивысшей силы.
Если же бельё пострадать от бомбардировки не могло по той простой причине, что было только что снято или же роздано давальцам, а бомбы падали недалеко от её хатёнки, как хохотала Дунька над своими кавалерами-солдатами, которые бросались от неё к траверзам и блиндажам прятаться от обстрела. Подперев руками крутые бока, отвалив назад рыжую голову, хохотала во всю свою звонкоголосую глотку, а снаряды между тем рвались поблизости.
Полнейшее презрение к смерти и бабье упорство в этом презрении – вот чем держалась бобылка Дунька, и смерть почему-то обходила её стороной, даже когда она под штуцерными пулями полоскала бельё на Пересыпи.
Хатёнка её тоже утвердила каким-то способом право своё на жизнь во что бы то ни стало и стояла себе нерушимо, несмотря ни на какой обстрел.
Крепко приросший к третьему бастиону матрос-квартирмейстер Пётр Кошка был довольно частым гостем в этой хатёнке, так как у Рыжей Дуньки водилась водка, а люди они оказались вполне одной породы.
После той лёгкой раны штыком, какую получил Кошка ещё зимою в одной из вылазок под командой лейтенанта Бирюлёва, он не был ни разу ни ранен, ни контужен. На корабле «Ягудиил», куда его списали с бастиона по приказанию Нахимова, просидел он недолго, в вылазки же потом напрашивался и ходил почти каждую ночь, захваченное при этом английское снаряжение продавал офицерам, и деньги у него бывали.
Конечно, Хлапонин, едва устроившись со своею батареей на третьем бастионе в июле, захотел посмотреть на храбреца, о котором ходило много разных рассказов даже в Москве; а в «Московских ведомостях» приводился случай, что какой-то предприимчивый вор, раздобыв матросскую форму и выдав себя за раненого Кошку, отправленного сюда в госпиталь на излечение, обокрал квартиру одного доверчивого, хотя и имеющего крупный чин обывателя, созвавшего даже гостей ради «севастопольского героя».
К Хлапонину подошёл строевым шагом матрос в чёрной куртке и белых брюках, с унтер-офицерскими басонами на погонах, со свистком на груди и с георгиевским крестом в петлице и сказал, стукнув каблуком о каблук:
– Честь имею явиться, ваше благородие!
Он был очень чёрен – загорел, закоптился в орудийном дыму, – сухощёк, скуласт, с дюжим носом и дюжими плечами; глядел настороженно выжидающе, так как не знал, зачем его позвали к новому на бастионе батарейному командиру.
– Здравствуй, Кошка! – улыбаясь, сказал Хлапонин.
– Здравия желаю, ваше благородие! – отчётливо ответил Кошка, подняв к бескозырке руку.
– Какой ты губернии уроженец?
– Подольской губернии, Гайсинского уезда, села Замятинцы, ваше благородие, – привычно и быстро сказал Кошка, ещё не успев определить, будет ли дальше от этого офицера какое-нибудь дело, или один только разговор, как и со многими другими офицерами, особенно из приезжих.
– О тебе я в Москве слышал, что ты один четырёх англичан в плен взял, – улыбаясь, начал, чтобы с чего-нибудь начать, Хлапонин.
– Четверёх чтобы сразу, этого, никак нет, не было, ваше благородие, – неожиданно отрицательно крутнул головой Кошка. – А по одному, это, кажись, разов семь приводил.
– Четырёх одному, конечно, мудрено взять, – согласился с ним Хлапонин.
– Ведь они, англичане эти, не бараны какие, ваше благородие… Ты его к себе тянешь, а он тебя до себе волокёт. А из них тоже попадаются здоро-овые, – с большой серьёзностью протянул Кошка. – Раз я с одним таким в транчейке ихней схватился, так только тем его и мог одолеть, что палец ему откусил! Стал он тогда креститься по-нашему, а лопотать по-своему:
«Християн, християн! Рус бона, рус бона!..» Значит: «Не убивай меня зря, а лучше в плен веди». Ну, я и повёл его. Да ещё как бежал-то он к нам швидко, как ихние стали нам взад из транчеи палить!.. Тут я два ихних штуцера захватил, – его один да ещё чей-то… Обои после того продал господам офицерам… Может, и вам прикажете расстараться, ваше благородие?
– Что? Штуцер английский? Валяй, расстарайся, братец! – и слегка хлопнул его по плечу Хлапонин.
– Есть расстараться, ваше благородие!
На этом разговор с Кошкой окончился к обоюдному удовольствию, и дня через два после того у Хлапонина появился штуцер.
Первый день пятой бомбардировки Севастополя оказался злополучным и для Рыжей Дуньки и для матроса Кошки. Большое ядро разнесло хатёнку Дуньки, с утра ушедшей на Пересыпь полоскать бельё, а Кошке вонзился обломок доски в ногу. Рану эту, правда, отнесли на перевязочном к лёгким, но всё-таки неуязвимый, казалось бы, храбрец в первый раз за всё время осады выбыл из строя.