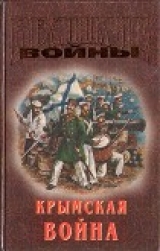
Текст книги "Крымская война"
Автор книги: Сергей Семанов
Соавторы: Сергей Сергеев-Ценский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 49 страниц)
Два перебежчика-француза, и не рядовые, а сержант и капрал, дали в главном штабе показания, очень встревожившие Сакена. По их словам выходило, что минные галереи французов доведены уже до такой близости к четвёртому бастиону, что не сегодня-завтра можно ожидать общего взрыва бастиона, а вслед за ним и штурма.
Показания эти были переданы Сакену утром в тот самый день, когда назначено было закладывать третий редут на подступах к Малахову кургану, и Сакен вызвал к себе Тотлебена для совещания.
Перебежчики бывали часто с наступлением зимы; особенно много их было в холодные дни. Можно было думать, что с большим риском получить пули от своих или от русских они бежали в Севастополь только затем, чтобы погреться.
Больше всего перебегало плохо одетых турок, египтян, арабов, но немало было ирландцев из английских войск, а также словаков, пьемонтцев, немцев, мадьяр из иностранного легиона. Меньше было французов, как лучше обеспеченных одеждой, провиантом, жильём.
Эти двое сказали, что были очень обижены своим начальством, почему и бежали. Когда их спросили, чем они намерены заняться в России, то сержант объяснил, что он – хороший гравёр и думает найти себе достаточно работы, чтобы, женившись, прокормить семью; капралу же непременно хотелось faire quelque classe en Russie, то есть быть учителем русских детей, как многочисленные пленные из наполеоновской армии двенадцатого года.
Показание их насчёт французских минных галерей, где будто бы были уже приготовлены усиленные горны для взрывов четвёртого бастиона, очень изумило Тотлебена и даже возмутило, как явная ложь.
– Но ведь я только вчера был, ваше высокопревосходительство, на этом самом бастионе нумер четвёртый и смею доложить, что нашёл там всё решительно именно в таком точно виде, как и третьего дня, когда мы взорвали там горн, как об этом я и доносил в подробном рапорте! – горячился Тотлебен. – Минную войну и именно там, на бастионе нумер четвёртый, начали мы, а не французы, как я уже однажды имел честь об этом докладывать вам, ваше высокопревосходительство… Я распорядился ещё в ноябре месяце заложить там колодцы во рву, а уж после меня, в том же самом глинистом слое, начали вести свои работы французы, и мы произвели несколько взрывов, и все взрывы прошли очень удачно, а французы только два всего, и, к моему личному изумлению, очень слабосильных, чего я даже и объяснить не умею не чем иным, ваше высокопревосходительство, как только плохой работой их инженеров! Нет, я считаю, что-о… я осмеливаюсь полагать, что наступление противника на правом фланге совершенно приостановлено именно нашими минными работами, а это в свою очередь позволяет нам теперь действовать наступательно на нашем левом фланге, у холма под названием Кривая Пятка.
Сакен слушал его внимательно и качал одобрительно головой; но вдруг он выставил вперёд ладонь и энергично опустил руку до самого пола, склонясь и сам туда, к полу, вслед за своей рукой.
– А что, если они ведут свои ходы там, там, под вашими рукавами и прочее, а? – спросил он, таинственно прищурясь.
– Контрмины под нами? – слегка улыбнулся Тотлебен. – Нет, ваше высокопревосходительство, это есть невозможно, по причине скалистого грунта на оч-чень большую глубину, как я лично в том убедился. Но действительно вы правы, история минного искусства знает такие случаи, когда контрмины велись под минными галереями и слуховыми рукавами на большой глубине, ну, и потом, разумеется, следовали за этим непредвиденные для противника взрывы с блистательными результатами, но скала, как я уже докладывал, скала грандиознейшей глубины нас от этого защищает… Даже и на той глубине, на которой сейчас мы ведём работы, а также и французы, – в глинистом слое в шесть-семь футов, – должен я сказать, ваше высокопревосходительство, есть оч-чень тяжёлая работа. Люди задыхаются, а вентиляторы наши, которые мы из адмиралтейства получаем, действуют плохо, часто портятся, и мы их вынуждены обратно отсылать для починки. Так мало там воздуху, что и свечей зажигать нельзя, – работают люди в полной темноте… Часто бывает, что не туда выводят рукава, куда бы хотелось.
Затем, как я уже докладывал ранее, оч-чень мешают грунтовые воды.
Сапёров-минёров у нас мало; присылают для работ простых пехотных солдат, которые под землёй даже и не работали никогда… Всё это есть наши большие минусы, однако мы в минном искусстве ок-кончательно побеждаем французов.
– Так, так, мой милый Тотлебен, успехи ваши, как говорится по-русски, всё налицо! Но вот вопрос: отчего же перебежчики докладывали насчёт контрмин, любопытен я знать?
– Ну, это же так очевидно просто, ваше высокопревосходительство! – улыбнулся Тотлебен. – Они хотят показать нам… считают это даже знаком необходимости, что раз они перебежали к нам, то надо же не с пустыми руками к нам показаться, а принести что-нибудь нам в презент. Вот и придумали они эти контрмины, которых не только в натуре нет, но даже и быть не может. Однако всё-таки сочту я святым своим долгом отправиться лично на нумер четвёртый, чтобы там на месте опровергнуть все эти басни, ваше высокопревосходительство.
Простившись с Сакеном, Тотлебен поехал на четвёртый бастион, где он бывал почти ежедневно, который он знал и наземно и подземно, как свою квартиру.
Он убеждён был, что перебежчики врали или говорили с чужого лживого голоса (сами они не были сапёрами), но вместе с тем он помнил и тот, сработанный литографским способом в Париже, план осады Севастополя, который дан был ему Меншиковым ещё в декабре. К бывшему главнокомандующему этот план попал вместе с одним раненым и взятым в плен во время вылазки французским штаб-офицером. Кроме того, что на плане была подробно показана минная галерея против четвёртого бастиона, что вполне подтвердилось, на нём обозначена была и пороховая камера как раз под исходящим углом бастиона.
Хотя он уже двадцать раз убеждался, что так далеко, как на этом плане, французские работы не пошли, наткнувшись на русские мины, но он видел, что французы – противник очень упорный: может быть, и в самом деле им удалось докопаться со своей стороны до нового, глубоко залёгшего слоя глины, до которого не сумел дойти он?
Подъезжая к боевому бастиону, он видел, что всё было так же, как он привык видеть все последние дни: пустые улицы окраины города, живописно раскинутые разбитые дома, все без крыш, но многие с трубами печей, – прекрасные места для русских стрелков, которые залпами будут встречать противника, если когда-нибудь он всё-таки отважится на штурм; наконец, одиноко стоящий костёл, тоже изувеченный ядрами, последнее здание, за которым тянется пологий подъём к бастиону; а вот уже и первая траншея, и посвистывают «молоденькие», как солдаты зовут, штуцерные пули Минье, с чашечками и стерженьками.
Передовые траншеи французов здесь были ближе, чем где бы то ни было в других точках оборонительной линии, – всего в полутораста метрах. Бывало так, что осколки разорвавшихся в этих траншеях русских бомб, рикошетируя, летят обратно и поражают прислугу у русских орудий, а осколки французских бомб отправляются тем же порядком назад калечить своих; штуцерники же той и другой стороны не дают даже и на момент показаться из траншеи никому; как-то высунула голову ротная собака и тут же была убита; чуть приподнимет из траншеи шутки ради свою фуражку русский солдат, воткнувши её на штык, и фуражка эта тут же вызовет на французской стороне с десяток ружейных дымков и упадёт, пронизанная пулями.
Что положение здесь создалось весьма напряжённое, Тотлебен знал, конечно; что одного только приказа Канробера недоставало для штурма, это было очевидно для всех; и всё-таки приказ этот не отдавался, и Тотлебен был убеждён, что охоту к штурмам здесь отбили у французов удачные минные работы, произведённые под его руководством.
Оставив свою верховую лошадь сзади блиндажа начальника этой дистанции, адмирала Новосильского, он пошёл по бастиону, по-хозяйски оглядывая всё кругом.
В траншеях, сидя и полулёжа в самых беспечных позах, точно отдыхая на подёнщине, густо набились серошинельные солдаты, площадка же бастиона имела вид кротовин на лугах: она вся была покрыта большими и малыми блиндажами, заметными только по невысоким кучкам земли, насыпанной на накаты из толстейших дубовых брёвен. Выше других торчала насыпь над пороховым погребом.
Так как время стояло полуденное, то насыпи были наполовину уже расплёсканы артиллерийскими снарядами: тысяча рабочих рук пехотных солдат будет их восстанавливать ночью, как и раньше. Насыпи были то желты от глины, то белёсы от примеси известняка, и только входы в блиндажи слабо чернелись.
Прикрыт был накатом из брёвен и насыпью и спуск в мины, почти рядом со входом в пороховой погреб, – ближайший спуск: минных колодцев было много, больше двадцати, но они расположены были во рву, за валом, и доступ к ним теперь, днём, был невозможен. Теперь шла обыденная боевая работа, грохотали пушечные выстрелы, причём нельзя было даже со стороны и разобрать, какие свои, какие чужие, – так близко друг от друга стояли наши и их батареи. Шла в то же время и оживлённая штуцерная перестрелка, но это было здесь больше видно, чем слышно. Ружейные выстрелы совершенно тонули в пушечном громе, но штуцерные второй линии то и дело перебегали в первую, поднося стрелкам заряженные штуцеры, чтобы стрельба велась без перебоя.
Опытный глаз Тотлебена, только скользнув взглядом по валу, в котором среди гор земляных мешков стояли орудия, заметил, где и какие были новые повреждения; но его теперь занимала только минная галерея и слуховые рукава.
Там, в земле, безвыходно жил командир одной из рот сапёрного батальона штабс-капитан Мельников, которого моряки прозвали «обер-кротом».
Этот обер-крот и был правой рукой Тотлебена. Всё подземное здесь было его хозяйство. И через несколько минут, спустившись в мины около порохового блиндажа, Тотлебен сидел на земляном диване, покрытом ковром, в «трюме» у Мельникова.
Это была ниша, сбоку минного хода, отделённая от него большим ковром; коврами же были увешаны и стены. Возле одной из стен стояла печь; посреди этой подземной комнаты утверждён был стол, и на нём стоял самовар, горела свеча в бронзовом шандале и лежали «Мёртвые души», раскрытые на том месте, где описана игра Чичикова с Ноздревым в шашки.
Мельников, крепкого сложения человек, но от недостатка воздуха и от полного отсутствия солнечного света совершенно желтолицый и истомлённый, радостно засуетился, когда вошёл к нему его начальник: любитель минного дела с большим уважением относился к такому знатоку этого дела, каким был Тотлебен; притом же и Тотлебен высоко ценил своего помощника и представил его к Георгию за удачно проведённый им взрыв усиленного горна недель пять назад: белый крест свежо красовался на груди молодого штабс-капитана.
– Я хотел бы знать, Александр Васильевич, – старательно выговаривая отчество, обратился Тотлебен к «обер-кроту», – что бы вы мне сказали, если бы услышали, например, что нас… как бы это выразиться… что, одним словом, желают нас взорвать французы…
– Бастион взорвать? – очень удивился Мельников. – Тут одного желания мало!
– Именно, да… но тем не менее говорят, что этого мы должны ожидать на этих днях.
– Кто же осмелился говорить такое? – улыбнулся «обер-крот».
– «Осмелился», да… Вы очень хорошо подобрали слово… Осмелились сказать это перебежчики-французы!
– Голая выдумка! – тряхнул Мельников отросшими здесь, в подземелье, и влажными от сырости русыми волосами.
– А если сделать действительное допущение, что они идут к нам под нашим нижним ярусом?
– На какой же именно глубине они могут идти?.. В шести разных местах делали колодцы по вашему же приказанию, – и скала чем ниже, тем крепче.
– Это-то действительно так, но, однако, этот результат есть наш результат, а у них может быть противоположный… вдруг, представим эт-то, они натыкаются на глинистый слой и…
Оба глядели друг на друга испытующе, и Мельникову показалось, что его начальник мило шутит. Может быть, просто отклонился слабенький синий язычок свечки, и от этого тени на круглом лице Тотлебена сложились в подобие улыбки; поэтому Мельников широко улыбнулся сам и ответил:
– До глинистого или другого мягкого слоя им, может быть, придётся долбить скалу на целую версту, а при таком сопротивлении газам всего пороху Франции не хватит, чтобы нас взорвать!
Тотлебен присмотрелся к его нездоровому, жёлтому лицу и заметил:
– Только бы вам не заболеть здесь, – эт-то было бы большим ударом для дела и для меня… Вы всё-таки почаще гуляйте себе наверху… Что же касается минного искусства, то вы, конечно, есть большой энтузиаст, Александр Васильевич, но я ведь тоже есть большой энтузиаст, поэтому необходимо мне самому покороче познакомиться с положением дел.
Это сказано было серьёзным тоном, притом Тотлебен поднялся, отказавшись от чая; тут же вскочил с места и Мельников и принялся натягивать шинель.
«Мёртвые души» на его столе Тотлебен видел не раз, однако же отогнул переплёт и поднёс книгу к свечке, чтобы прочитать заглавие.
Они пошли очень знакомыми им обоим, низкими для их роста и узкими ходами в земле сначала с огарком свечки, потом, когда огонёк потух, впотьмах. Но кротовые ходы эти, обделанные креплением из столбов и досок, были не безмолвны, местами даже гулки: тут работали – перетаскивали мешки с землёй, и слышно было трудовое кряхтенье и, кроме того, чавканье грязи под неразборчивыми, тяжёлыми солдатскими сапогами.
– Держи влево! Командир! – однообразно покрикивал Мельников, чтобы разойтись со встречными в кромешной темноте и узости.
Местами приходилось не столько идти, сколько продираться почти ползком, до того узки и низки были мины. Конечно, на человека свежего это могло бы произвести непереносимое впечатление могилы, гроба, но Тотлебен знал, что тут слишком близко подошёл скалистый грунт, а несколько дальше станет снова и выше и шире.
В слуховых рукавах, когда до них добрались, он спрашивал минёров, не слышно ли работ французов киркою ли, топором ли, долотом, или скобелем, или скрипа их тележек, увозящих землю, недоверчив был к однообразным ответам: «Никак нет, вашвсокбродь, ничего не слыхать!» Присаживался на корточки, прикладывал ухо к земле и слушал сам.
Он всячески изощрял и напрягал слух, однако никаких стуков не слышал; подымался и двигался дальше.
Когда дошёл до того места, где русский минёр почти вплотную столкнулся с французским, причём французы сконфуженно бросили свои мины и ушли, Тотлебен остановился, чтобы что-то обдумать и рассчитать про себя, благо тут горел фонарь.
Здесь была уже заготовлена по его распоряжению порядочная порция пороху, засыпанного землёю, и около был расположен пост, наблюдавший за французскими минами.
При каждом взрыве с русской стороны горнов или комуфлетов между линиями укреплений, на том узком пространстве, которое разделяло противников, образовывались воронки. Эти воронки бывали иногда около десяти метров и больше в диаметре, и за обладание ими завязывалась борьба с наступлением сумерек и ночью.
Тотлебен обдумывал, стоит ли тратить порох для нового взрыва, и, наконец, сказал Мельникову:
– Сегодня вечером мы закладываем новый редут, а чтобы быть более точным – люнет, это гораздо целесообразнее, – впереди Селенгинского и Волынского, так вот, чтобы показать господам французам, что мы бодрствуем тут, на нумере четвёртом, а там – скромны мы есть и тихи, надо взорвать этот горн сегодня же, когда всё к этому у вас будет готово.
– Слушаю, – отозвался Мельников. – Взорвём.
Тотлебен на обратном пути не миновал и бастионного рва, в котором расположил большую часть минных колодцев, между ними и те самые глубокие, но брошенные из-за твердейшей скалы. Начальник севастопольских инженеров сам опускался в два из них, чтобы лишний раз убедиться в том, что инструменты не могли сладить со скалою дальше, хотя сапёры и прошли уже в ней на несколько сажен ниже второго яруса галерей.
– Нет, если только французы не имеют каких-нибудь новых, нам неизвестных сверлильных машин, – сказал он, наконец, Мельникову, – то мы от них в безопасности, а это добро – сержанта их и капрала – не мешало бы отправить к ним обратно… Итак, горн, Александр Васильевич, взорвите, а я пойду предупредить об этом адмирала.
Через ров летели пули свои и чужие, гранаты и ядра из орудий прямой наводки, и часто залетали сюда осколки, ежедневно насчитывалось два-три человека потери от осколков. Но минные колодцы были прикрыты накатами из брёвен, и обязанностью рабочих при штурме противника было – всем выбегать из галерей в ров и защищать входы в них штыками до последней возможности.
Чтобы пороховые газы и дым не пошли в свою же галерею, заранее забаррикадировались мешками с землёю на несколько сажен в толщину, теперь же только провели к пороху гальванические запалы, а кроме них, не вполне доверяя вольтову столбу, ещё и желоба, наполненные порохом, – «сосисы»…
Между тем выбравшийся на площадку бастиона Тотлебен тем временем посвящал в свой замысел вице-адмирала Новосильского.
Заработавший уже Георгия на шею, высокий, всегда спокойный и уверенный в себе адмирал тут же послал приказ усилить огонь штуцерный и картечный на случай, если будут выскакивать из своих траншей французы, как это бывало всегда при прежних взрывах.
Началась оживлённая перестрелка, но она не заглушила подземного гула, удалявшегося в сторону французов, и под ногами у всех на четвёртом бастионе задрожала земля.
Вот повалил, вырываясь из поднявшейся грибом почвы, густой дым, полетели кверху камни, как при извержении миниатюрного вулкана, стали выскакивать на бруствер французские стрелки, пальба сделалась ещё чаще, и, как мастер своего дела, наблюдавший всё это, Тотлебен сказал Новосильскому:
– Прекрасно!.. Теперь остаётся только занять воронку… А я поеду на Малахов, и что бы ни говорили мне теперь эт-ти, эт-ти там разные мерзавцы, я за ваш бастион спокоен… Желаю здравствовать!
Кусок неуютной, безрадостной голой земли, как всякий другой около, и на нём ничего, кроме этого холма, именуемого Кривой Пяткой. Так как здесь рвали когда-то перед войною камень для построек, то везде по холму и кое-где рядом с ним валяются крупные и мелкие обломки белого известняка.
Обтёсанные укладистые плиты вывезли отсюда в город, – обломки остались, и между ними всюду пробивается наивная молодая травка, первая яркая весенняя зелень.
Это-то именно место и наметил Тотлебен для устройства незамкнутого редута, то есть люнета, в расстоянии трёхсот пятнадцати сажен от Малахова кургана, и с неизменной точностью, которая его отличала, лишь только сгустились сумерки, он был уже здесь, размечая на земле будущую линию первичной траншеи.
Батальон Камчатского полка был назначен сюда на земляные работы, и сапёрный унтер-офицер Бородатов, разжалованный из поручиков, но ожидающий скорого производства в прапорщики, руководил одним из участков работ, находясь в подчинении у своего же бывшего товарища инженер-штабс-капитана Сахарова.
Вперёд была выслана рота, которая рассыпалась в цепь, чтобы малыми сапёрными лопатками и мотыгами выкопать к утру ложементы и в них залечь до вечерней смены.
Уходя туда, в сомнительный сумрак, в сторону французских батарей, говорили тихо старые солдаты молодым из пополнения:
– Под Стуков монастырь идём… Как, сердце не ёкает?.. Ничего, не робь, – какая не наша, так нас не тронет, а если уж наша, от неё всё одно нигде не спасёшься: она и в палатке найдёт.
Паруса, снятые с тех кораблей и фрегатов, которые были потом затоплены, пошли на палатки, и в таких палатках, в одной из балок на Корабельной стороне, размещён был Камчатский полк. Как ни укрыт был этот лагерь от противника, но и туда залетали иногда снаряды, пущенные навесно.
Французы, пришедшие на этот фронт на помощь англичанам, очень деятельно строили свои укрепления на высотах и устанавливали в них дальнобойные мортиры.
Зелёный Холм, как они прозвали Кривую Пятку, очень пленял живое воображение их инженеров, но наука осады крепостей требовала строгой последовательности действий, а не скачков в неизвестное; просторные, чтобы было где укрываться многочисленному резерву при атаках, траншеи их подходили строго классическими зигзагами, почва же была неблагодарная – неподатливая, каменистая, кроме того, все крупные орудия Малахова кургана, так же как и орудия двух новопоставленных редутов – Селенгинского и Волынского, – сильно затрудняли их работы метким огнём.
Англичане, общее число которых под Севастополем не достигало теперь и третьей части числа французов, сосредоточивались против третьего бастиона, неприступного Редана; они следили с чисто спортсменским интересом за соперничеством своих союзников и русских и держали между собою азартные пари, кто скорее овладеет Зелёным Холмом, с которого, при удаче французов, можно было громить остатки русского Черноморского флота.
Если со смертью Николая, совпавшей с отставкой Меншикова и назначением в Крым Горчакова, вводилось неизбежное новое в дело обороны Севастополя, то и во французской армии в Крыму к этому времени введено было новшество, имевшее огромное значение для дела осады. Армия эта была разделена на два сорокатысячных корпуса, и одним из них начал командовать способнейший генерал Боске, другим же – вызванный нарочно для этого из Алжира Жан-Жак Пелисье.
Первый корпус оставался там же, где были расположены его дивизии и раньше, – против Городской стороны; вести же атаку против Малахова кургана поручено было второму корпусу под командой Боске.
Непосредственно при главной квартире, у Канробера, в виде общего резерва оставалось всего несколько тысяч человек, и хотя он по-прежнему был главнокомандующим, но авторитетнее его выступал на военных советах личный адъютант и представитель Наполеона генерал Ниэль, который и указал на Малахов, как на ключ всех севастопольских укреплений. И в то время как Канробер писал свои донесения о ходе осады военному министру, маршалу Вальяну, Ниэль – непосредственно Наполеону.
Это было время полного охлаждения отношений Канробера к лорду Раглану: как ни пытался он расшевелить старого маршала Англии, красноречивый Раглан находил десятки причин для объяснения медленности своих действий против Редана, а между тем отсутствие поддержки англичан задерживало Боске в его стремлении овладеть Зелёным Холмом.
Всё-таки Боске обещал Канроберу непременно занять этот холм 1/13 марта, но вот в ночь с 26 на 27 февраля камчатцы уже складывали в гряду обломки белого камня, как им указывали Сахаров и Бородатов, и под прикрытием этой гряды начали долбить кирками и отбрасывать лопатами землю, проводя траншею широкого, на четверть версты, охвата, в виде неполной, несомкнутой снизу трапеции.
Ночь была исключительно благоприятна: моросил мелкий дождик, луна таилась за тучами, посылая всё-таки достаточно света, чтобы видеть в нескольких шагах.
Тотлебен, встретив батальон, торжественно, хотя и не в полный голос, сказал солдатам, что они своей работой в эту ночь спасут Севастополь, и солдаты работали истово, проникаясь важностью выпавшей на их долю задачи.
Никто из них не курил под отвёрнутой полою шинели даже здесь, на линии траншеи, не только там, где устраивались ложементы; переговаривались они хриплым шёпотом не повышая голоса, даже когда переругивались друг с другом; старались стучать кирками как можно глуше и землю лопатой укладывать осторожно, а не швырять с размаху на вал.
Может быть, и сами не догадываясь о том, они действовали здесь ночью как опытные воры, и они действительно крали у генерала Боске, у его второго корпуса, у всей армии французов, у всей союзной армии, у Франции, у Англии, у Турции курган Зелёный Холм, на котором через два-три дня должны были по всем расчётам стоять французские тридцатисантиметровые мортиры, чтобы под их прикрытием ещё через несколько дней внезапным штурмом в больших силах захватить неожиданно вскочившие перед Малаховым два досадных редута, а может быть, и всю Корабельную и тем блистательно закончить осаду.
Впереди, в секретах, лежали пластуны под командой своего неизменного батьки шестидесятилетнего есаула Даниленка, который вот уже несколько месяцев провёл на аванпостах, но не был ни разу ранен. Пластуны доносили, что со стороны французов слышны им стуки кирок и лопат: там тоже усердно работали в траншеях, проклиная каменистый грунт. С виду тихая, дождливая ночь полна была напряжения и пылких надежд.
Офицеры батальона не сходились кучкой, как это непременно сделали бы на ученье; каждый ротный был на участке своей роты, а младшие офицеры при своих взводах. Дело шло, хотя и не так успешно, как того хотелось бы сапёрам; но шло и время, и уже подвигалось к трём часам утра, когда какой-то рокот, точно от тарахтящей по камням телеги, раздался на левом фланге работ.
– Что это? Что там такое? – встревоженно пробормотал Бородатов, бывший недалеко от левого фланга.
Пожилой рядовой солдат, работавший около него, выдохнул горестно:
– Э-эх! Всю нам обедню испортил!.. Это же наш новый батюшка, кажись…
– Батюшка ваш?.. Священник?
– По голосу будто он, так точно.
– Зачем же он тут?.. Добеги, скажи, что нельзя тут! – заторопился Бородатов, потому что продолжался рокот.
– Слушаю! – И солдат, пригнувшись, точно его могли разглядеть и поднять пальбу французы, побежал на левый фланг окопа.
Это действительно был иеромонах Иоанникий.
– Батюшка! Нельзя так! Вполне нехорошо! – укоризненно и сразу выпалил солдат вполголоса первое, что пришло на ум.
От монаха пахло водкой.
– Ты-ы что это за птица такая? – чуть не в голос рявкнул Иоанникий.
– Девятой роты рядовой Егор Мартышин! – привычно на вопрос «кто?» ответил солдат шёпотом и добавил:
– А вас прошу, батюшка, неприятелю знать не давайте-с!
– Как же ты смеешь мне вдруг… слова такие? – изумился Иоанникий.
– Послан я начальством, а не сам…
Но тут подбежал уже и сам Бородатов, шипя:
– Тише! Пожалуйста, тише!
– А ты кто такой? – обратился к нему Иоанникий.
– Мне принято говорить «вы»: я офицер!.. Говорите, пожалуйста, шёпотом. Что вам здесь нужно?
– Как так «что нужно»? – несколько как бы опешил монах. – Я пришёл к своим овцам духовным, а ты…
– Никаких овец тут нет, тут – защитники отечества… Прошу вас, оставьте нас сейчас же!
– Так я тебя взял и послушался такого! – буркнул монах.
– Иди доложи командиру батальона! – повернулся к Мартышину Бородатов.
Мартышин метнулся в темноту, успев только сказать при этом:
– Вот наказанье осподне!
– Я вас умоляю, батюшка, вернитесь в свою палатку, – очень просительно и учтиво, насколько мог себя осилить, проговорил Бородатов.
– Те-те-те!.. Три шага вперёд! Разевай рот!.. Имя? – командным тоном, хотя даже и не в четверть своего голоса, но с выражением отозвался ему Иоанникий.
Это была придуманная им самим команда солдатам, которые говели у него на первой неделе шедшего теперь великого поста.
Мартышину не пришлось далеко бежать: командир батальона майор Лештуков поспешно шёл уже сам на неожиданный шум на левом фланге. Подойдя к монаху, он взял его под локоть и прошептал внушительно:
– Пойдёмте-ка, батюшка, в лагерь!
Он повернул его кругом и, к удивлению Бородатова, выпивший огромный иеромонах безмолвной тенью пошёл рядом с ним.
– Проводи-ка своего батюшку до лагеря, а то ещё заблудится, – попадёт к французам, – сказал Бородатов Мартышину Егору.
– Вот наказание с таким! – отозвался Егор прежним тоном и ринулся, уткнув голову в плечи, следом за уходившими, понимая без дальних расспросов, что батальонный не может же далеко уйти от своего батальона, а подвыпивший иеромонах действительно, пожалуй, не найдёт один обратной дороги к лагерю.
Чуть забрезжила утренняя полоса на море, отделяя воду от неба, вернулись лишние люди из ложементов и пластуны со своим заколдованным есаулом. В ложементах остались только штуцерники, а в вырытой за ночь траншее в полной безопасности от пуль можно уже было продолжать работы и днём.
И когда развернулось утро, те из англичан против третьего бастиона, которые держали за русских, торжествующе получали с проигравших пари.
Правда, пока через Зелёный Холм и в обе стороны от него протянута была только узенькая ленточка окопа, но заметно было, что кирки и лопаты продолжали там действовать неутомимо, и дымки выстрелов белели, расплываясь впереди окопа из ложементов: там русские охотники перестреливались с французскими «головорезами» из своих ложементов.
Французы были поражены. Они открыли по русским работам на Зелёном Холме оживлённую пальбу из орудий, но на защиту новорождённого люнета выступили батареи с Малахова, а вечером сюда на работу пришли уже остальные батальоны Камчатского полка, и люнет от полка, давшего ему жизнь, получил и своё имя. Впрочем, чаще потом звали его просто Камчаткой.








