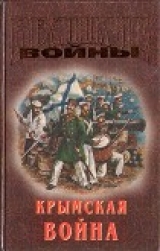
Текст книги "Крымская война"
Автор книги: Сергей Семанов
Соавторы: Сергей Сергеев-Ценский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 49 страниц)
В середине августа охотцы, стоявшие в прикрытии на третьем бастионе, переведены были на соседнюю Пересыпь, где ещё с июня прочно обосновалась в непробиваемых снарядами пещерах большая часть полка, а камчатцы – неполный батальон их – перетянуты Павловым к себе, на третий бастион; а так как хрулёвский пластун Чумаченко числился со своей небольшой командой пластунов при Камчатском полку, то и он перешёл на третий бастион тоже.
Конечно, он в тот же день нашёл случай повидаться с Хлапониным.
– Ты ко мне, Терентий? – спросил его Хлапонин.
– Никак нет, на ваш бастион перешли мы с Малахова, – выжидательно глядя на «дружка» и стараясь не улыбнуться даже краем губ, ответил Терентий. – Поэтому, выходит, я теперь с вами буду.
– Очень хорошо, братец, очень хорошо! – совершенно непосредственно и даже обрадованно с виду отозвался на это Хлапонин.
Эта обрадованность была понятна: на «честный» бастион, с которым успел уже сродниться, который считал уже «своим» с начала осады и совершенно непроизвольно ставил выше всех других бастионов Хлапонин, явился такой молодчага с двумя Георгиями. Всякому укреплению, – будь это бастион, батарея или редут, – лестно бы было заполучить такого охотника, несмотря даже на то, что слишком уж близко подошли траншеи неприятеля к валам.
Но о своей пластунской ценности забыл в это свидание с Дмитрием Дмитриевичем Терентий. Обрадованность Хлапонина он приписал тому, что они земляки, старые «дружки», хотя кое-что их теперь и разделяло: один был офицер, штабс-капитан, другой – всего-навсего унтер, и потому только унтер, что посчастливилось удачно бежать от суда, кнута и каторги, если только не смерти под кнутом.
Для Терентия, чуть лишь увидел он прежнее, как в Хлапонинке, улыбающееся лицо Дмитрия Дмитриевича, тот сразу перестал быть штабс-капитаном артиллерии, он сделался прежним, старинным и простившим, таким, с кем можно было говорить не о том, что творилось тут кругом, а о своём, понятном только им двоим.
Говорить же теперь как раз не мешала канонада, – выдались минуты затишья; поэтому Терентий, с прежним деревенским выражением значительно изменившегося уже лица, заговорил сразу, понизив несколько голос:
– Белгородская-то дружина наша, знаете, конечно, Митрий Митрич, на втором бастионе стоит… Тимофея с килой помните?
– Тимофея… с килой? – не удивившись такому обороту разговора, добросовестно начал припоминать Хлапонин.
– В пиявочнике он был приставлен, печку там топить, – напомнил ему Терентий.
– Тут шишка была? – показал на свой подбородок Хлапонин.
– Истинно, тут! Ну, его вчерашний день отправили на Братское: убитый… А другой какой был – Евграф Сухоручкин, – тот животом занедужил на Сиверной, там гдесь и остался… Ну, всё-таки я с Тимофеем разговор имел про нашу Хлапонинку, чего там было, как я оттель ушёл…
Дмитрий Дмитриевич слушал его уже без улыбки, но Терентия не остановило это.
– Было там вроде как бунт… Он мне хотя не поспел в полности обсказать, ну, всё-таки про бабу мою услыхал я, – не дали под замок посадить! – блеснув глазами, продолжал Терентий. – Исправник после того приезжал сам, и тот вроде бы не посмел её зря обидеть: ну, она же тяжёлая тогда, близу родов ходила, вам известно, – вот народ и кричал становому:
«Не замай!..» Теперь уж кормит.
– Тоскуешь? – хотя и без улыбки, но сердечно спросил Хлапонин.
– Эх, Митрий Митрич! Сейчас-то, слова нет, тосковать некогда – служба… А как службе этой конец придёт, вот когда тоска моя начаться должна… Мне тогда не иначе как опять на Кубань подаваться, – пластун и пластун. Что ж, я по-ихнему уж трохи балакаю… может, я бы там деньжонок разжился – Лукерью бы свою выкупил с ребятишками… а, барин?
– Какой же я тебе барин? – улыбнулся Хлапонин. – А насчёт семьи своей не тоскуй: может, не так уж долго ждать осталось до воли всем.
– О-о! Всем волю дадут? – так и засиял Терентий. – Это ж, значит, господа промеж собой говорят там?
– Офицеры? – переспросил Хлапонин. – Да, говорят многие, что крепостной зависимости после этой войны должен прийти конец.
– Э-эх, дожить бы только! Не дадут ведь эти, Митрий Митрич! – кивнул головой Терентий в сторону английских батарей. – Я через это и с Тимофеем не опасывался говорить: всё одно, думаю, отседа живому-здоровому мудрёное дело выйти. Так на моё с Тимохой и оказалось… А больше я никому про себя не сказывал, окромя как вам.
Как раз в это время к Хлапонину подошёл Арсентий с записочкой от Елизаветы Михайловны, – он делал это почти ежедневно, причём заходил по пути в Павловские казармы распытывать про Витю Зарубина, как там он.
Узнав его, Терентий отшатнулся, сказав по-солдатски:
– Счастливо оставаться, ваше благородие! – и хотел уже уйти, но его остановил Хлапонин, взяв за плечо.
– Узнал, кто это такой? – весело спросил он Арсентия, весело потому, что получить маленькую записочку от жены всегда было для него большою радостью.
Арсентий внимательнейше вгляделся в пластуна с двумя Георгиями, с унтер-офицерскими двумя басонами на измятых погонах бешмета, залатанного в десяти местах, и с огромным кинжалом за кожаным поясом, и нерешительно-отрицательно повёл головой:
– Не могу знать.
– Изменился, точно… Его бы и жена родная не узнала теперь, – сказал Хлапонин и добавил:
– Он из Хлапонинки – ты там его видел.
– Неужто… Терентий?
– Я и есть.
Арсентий, взглянув на улыбающегося штабс-капитана, снял свою белую без козырька фуражку, Терентий же смахнул с головы облезлую рыжую папаху, и они поцеловались три раза накрест, как земляки, встретившиеся на чужбине.
На третьем, как и на других бастионах, среди офицерства процветала азартная игра в карты. Она была вполне понятна там, где каждый день и каждым ставилась на карту случая жизнь. При этом капризное, непостижимое «везёт» – «не везёт» привлекало в игре этой, пожалуй, больше, чем возможность вдруг выиграть много денег.
Деньги очень мало ценились здесь: нынче жив, а завтра могут отправить твоё тело на Северную, на кладбище, – и зачем тогда деньги, сколько бы их ни скопилось от жалованья, которое совсем почти некуда было тратить?
Было на третьем бастионе два простых деревянных навеса: один «морской», другой «сухопутный», под которыми обычно резались в банк и банчок в свободные от службы часы. Навесы эти, конечно, должны были только давать тень в жару, но никто не забывал о том, что они способны предохранить их от канонады не в большей степени, чем воздух.
Они были даже очень опасны, так как из-за них нельзя было разглядеть «нашу», о которой вопили сигнальщики, а эта «наша» прежде всего, обрушив навес, должна была неминуемо придавить обломками досок всех играющих.
Так это и случалось не раз, но подобные случаи никого отвратить от игры не могли.
Хлапонин принадлежал к редкому в военной среде того времени типу людей, не находивших никакого удовольствия в картёжной игре, даже как в развлечении от скуки. А на бастионе тем более ему некогда было скучать: впору было приспособиться только к этой совершенно исключительной жизни.
Гораздо больше времени проводил он с людьми своей батареи, чем это было принято у командиров батареи даже здесь, среди непрерывных почти артиллерийских боев.
Обученной раньше артиллерийской прислуги оставалось уже мало не только у орудий на укреплениях, где матросов давно начали заменять пехотинцами, но и в артиллерийских бригадах пехотных корпусов.
В пополнения на место убитых и раненых из артиллерийской прислуги стали присылать за последние недели даже ополченцев. Эти пополнения нужно было ещё обучать тому, как обращаться с орудиями, а между тем каждый день можно было ожидать, что лёгкая полевая батарея будет призвана показать на деле, к чему она готовилась.
Занимаясь с солдатами, Хлапонин был неизменно терпелив и ровен. Он был таким и раньше, до своей контузии, теперь же пройденный им самим в несколько месяцев труднейший путь от совершенно бессознательного к ясной и послушной мысли научил его гораздо большей снисходительности к такому же почти трудному пути пехотных солдат, приставленных неожиданно для них к пушкам.
Частые и точные, короткие, круглые, упругие выстрелы хлапонинской батареи, стоявшей на левом фланге третьего бастиона, обдавали бежавших на штурм англичан таким густым роем картечи, что немногие добрались до вала и ещё меньше вскарабкалось было с разгона на вал, но были опрокинуты в ров штыками якутцев и ополченцев.
Успехом англичан в исходящем углу бастиона Хлапонин был больше изумлён, чем обеспокоен: он не допускал такой удачи штурмующих; он знал, конечно, что бруствер в средней части укрепления совершенно разрушен утренней бомбардировкой, но знал также и то, что там стоят владимирцы – два батальона…
Огня своих пушек он не прекращал. Они били по ближайшим английским резервам, они заградили им путь, отрезав тем самым тех, которым удалось пробиться на бастион. Однако оказалось, что пробившихся было много: их мундиры краснели сплошь. Они двигались прямо к горже бастиона – владимирцы отступали поспешно, разбиваясь в тесноте проходов на мелкие кучки…
Поднялась ружейная пальба – беспорядочная, с обеих сторон. Из-за дыма трудно уж стало что-нибудь различать там, дальше, а здесь, около орудий, столпились курские ополченцы четвёртой роты, потерявшие уже своих двух офицеров.
Они кричали, размахивали руками, – иные бросали наземь ружья и поспешно вытаскивали из своих сумок привычные топоры, готовясь к явной и близкой рукопашной.
Чуть только заметив это, Хлапонин, схватив бывший при нём штуцер, добытый у тех же англичан Кошкой, наскоро передав команду над батареей старшему из своих субалтернов, поручику Лилееву, бросился в ряды ополченцев, крича незнакомым самому себе голосом:
– Поднять ружья! Стреля-ять!
Чтобы увлечь их примером, он пробился через толпу их вперёд и выстрелил сам в англичанина, сидевшего всего шагах в сорока верхом на крупнокалиберной пушке и занятого её заклёпкой.
Англичанин ткнулся головой вниз, тяжело и неловко сполз, выставив кверху только одну ногу, но через два-три мгновения соскользнула с орудия нога, а вслед за хлапонинским выстрелом защёлкали выстрелы ополченских ружей по другим целям, благо было их очень много: до тысячи человек успело ворваться на бастион.
Эту пальбу, поднятую во фланг колонне англичан, подхватили якутцы, быстро перестроив свой фронт, и стремительный разбег ворвавшихся был задержан как раз в то время, когда дорог для них был каждый момент и каждый свой штык: на голову их колонны дружно напали камчатцы со своим командиром Артемьевым, с одной стороны, и рота якутцев из ближнего резерва – с другой.
Но вот ринулись англичане обратно под натиском селенгинцев, – и половины их не ушло с бастиона, – а над бегущими в свои траншеи то и дело рвались картузы картечи, посылавшиеся хлапонинской батареей.
– Каково, а? – кричал Хлапонин, обращаясь к поручику Лилееву. – Вот так расчесали рыжие кудри господам энглезам!
Не кричать было нельзя: и звонкая ружейная перестрелка шла с обеих сторон, и возбуждало сознание победы.
Однако Лилеев, человек хотя и молодой ещё, но всегда сосредоточенный до угрюмости, широкое лицо которого было теперь и закопчено и слегка забрызгано чьей-то нестёртой кровью, повернул в его сторону очень яркие белки больших глаз и ответил:
– А вот кабы сейчас не расчесали и нам!
Он кивнул при этом на Зелёную гору, где на одной из батарей взвилось сразу несколько белых дымков.
Действие лёгких орудий одного из флангов Большого редана заметили, конечно, там; тут же вслед за дымками донёсся рёв широкогорлых мортир.
И круто и быстро явившись на смену возбуждению, боевому подъёму, предсмертная тоска вдруг охватила Хлапонина. Всё его тело оцепенело вдруг, потеряло способность двигаться, умолкло, мгновенно пронизанное этой тоской – предчувствием конца, скорого – через несколько мигов, неизбежного, неотвратимого.
Предсмертную тоску эту увидел, – скорее, впрочем, почувствовал, чем увидел, в глазах Хлапонина его субалтерн и отскочил от него сразу как мог дальше. Тут действовал тёмный инстинкт – не сознание: впечатление от лица Хлапонина не успело ещё передаться мозгу поручика.
Снаряды английских мортир взвились отвесно над батареей, – и не нужно было, чтобы сигнальные закричали неистово: «На-ша, береги-ись!..» – мортиры были давно и точно пристреляны, залп тщательно рассчитан…
Через несколько жутких моментов отлетевший в сторону от взрыва большого снаряда, оглушённый при этом, поручик Лилеев лежал полузасыпанный землёй и вновь, теперь уже щедро, обрызганный чужою кровью.
Когда же очнулся он, открыл глаза, поднял голову и огляделся, то Хлапонина не увидел.
Прямо перед ним торчала из земли чья-то развороченная спина. Сквозь кровавые клочья рубахи и обломки рёбер выкатилась на землю почти чёрная, но очень яркая печень; головы у трупа не было… Одно орудие их батареи стало на попа, воткнувшись наполовину в землю… Солдатский рыжий сапог тоже стоял рядом с этим орудием, стоял, чуть припав к нему, и Лилеев понял, что в этом сапоге – оторванная нога… К земле, которой был присыпан он сам, прилипли клочья мозга…
Он высвободил грудь, выпростал руки и попробовал приподняться, но это оказалось нелегко, хотя он и чувствовал, что он не ранен, только ушиблен.
К нему подскочили двое якутцев и откопали его, отгребая землю руками.
А канонада между тем гремела; Лилеев слышал, как рвались позади, в глубине бастионной площадки, большие снаряды.
С трудом сделал он несколько шагов вдоль своей батареи: только три орудия осталось неподбитых, и к ним приставлены уже были солдаты-якутцы, так как всего несколько человек из бывшей артиллерийской прислуги оказались пока боеспособны. Младший субалтерн, прапорщик Кугушев, лежал тяжело раненный, без сознания.
Лилеев спросил одного из своих:
– Где командир батареи?
Тот ответил:
– Не могу знать.
В это время как раз оборвалась бомбардировка: англичане, собрав под её прикрытием нужные силы, вновь пошли на штурм.
Артиллерийская прислуга орудий средней части бастиона была истреблена при первом штурме и часть орудий заклёпана, а у тех, которые способны ещё были дать отпор англичанам, поставлены были солдаты Селенгинского полка.
Бомбардировка, начатая противником после неудавшегося штурма, длилась всего полчаса, но она принесла Большому редану много потерь, так как резервы не уводились в тыл.
Однако эти резервы отстояли славный бастион и батареи Будищева, Яновского и Никонова от нового натиска, ещё более ожесточённого, чем первый.
Англичане снова ворвались было там же, где и прежде, – в исходящем углу бастиона, и штыковой бой был упорен, но долго выдержать его они не могли: их опрокинули и гнали до завалов. В этой рукопашной схватке погиб и богатырь-владимирец Лазарь Оплетаев; на обширном теле его насчитали потом тридцать четыре штыковых раны: много работы задал он красномундирникам!
В одном месте, во рву, засело было несколько десятков англичан с двумя офицерами, но полурота владимирцев с прапорщиком Дубровиным выбила их оттуда; оба офицера и человек пятьдесят солдат сдались.
Для третьего штурма английские генералы во главе с Кодрингтоном готовили шотландские полки, но шотландцы отказались идти на явную, как им казалось, гибель: все подступы к третьему бастиону и фланговым батареям его густо покрыты были телами убитых, раненые, способные держаться на ногах, наполнили траншеи, и призывы и угрозы офицеров оказались бессильны, чтобы сдвинуть с места ещё и этих детей королевы Виктории, у которой «материи не хватало им на штаны».
Кроме того, три наиболее горячих английских генерала – Шиллей, Варрен и Страубензе – были ранены, и Кодрингтон вынужден был ответить Пелисье через присланного им адъютанта, что он откладывает новый штурм Большого редана на следующий день.
Неудача второго штурма так обескуражила англичан, что они не сразу после него открыли бомбардировку.
Передышкой этой воспользовались селенгинцы, чтобы в груде тел, заваливших развороченный бруствер – тел своих и чужих – отыскать тело полковника Мезенцева. Его узнали по носкам лакированных сапог, выдававшихся из земли: он был заботливо похоронен уже разрывом бомбы около него, и откапывать его пришлось довольно долго. Однако селенгинцы докопались всё-таки и отправили тело своего храброго командира на Павловский мысок, откуда тела перевозились на барже на Братское кладбище.
Но и несколько человек артиллеристов, оставшихся в живых из всей прислуги лёгкой батареи Хлапонина, тоже занялись поисками тела своего начальника.
– Хорошее начальство было, жалко! – говорили они.
И одному удалось догадаться пошарить в воронке, вырытой снарядом раньше за батареей, шагах в десяти.
Как-то совсем невероятным показалось другим, чтобы туда могло отбросить тело, но вышло именно так. Тело Хлапонина было укрыто остатками другого, разорванного тела и присыпано землёй, которая от очень долгой обработки её кирками, лопатами и ядрами стала совсем рыхлой, как морская галька.
Пожалев о своём командире, тело понесли в ближайший блиндаж, где уже сложены были в три яруса мёртвые тела, но как раз в это время к блиндажу подошёл пластун Чумаченко.
– Митрий Митрич! – крикнул он в отчаянии, наклоняясь над лицом Хлапонина, и тот открыл глаза.
– Что ж вы, нехристи, живого человека в покойницкую потягли? – закричал Чумаченко на волочивших Хлапонина солдат, но те и без крика его опешили, и только один пробормотал в своё оправдание:
– Даже и господин офицер подходили и тоже сказали, – как есть мёртвые…
Действительно, Лилеев подходил, щупал пульс, клал руку на сердце, но не нашёл признаков жизни в теле своего начальника, да трудно было и предположить их: лицо Хлапонина было мертвенно-синим, губы стиснуты, глаза закрыты.
– Митрий Митрич! – ещё раз крикнул Терентий в самое ухо Хлапонина.
Тот ничего не сказал в ответ, но, видимо, пытался сказать, так как чуть-чуть шевельнул губами.
Терентий быстро ощупал руки и ноги, нет ли переломов, щупал тщательно, но переломов не было. Ощупал грудь и спину, но и рёбра, так показалось ему, были целы.
– Должно, внутренности отбило, – сокрушённо покачал головой Терентий и, добавив ещё сокрушённей: «Эх, Митрий Митрич, не мне, а вам пришлось!» – оглянулся, не идёт ли кто с носилками, но не было близко носилок.
Тогда он подобрался крепкими руками под спину и колени Хлапонина, поднял его и понёс к горже бастиона.
У горжи увидел он трёх матросок, между которыми была и Рыжая Дунька.
Они, бесстрашные, только что принесли на коромыслах свежей воды из колодца.
Дунька, знавшая пластуна Чумаченко, обратилась к нему, ласково-грубо:
– Упрел, леший? Водицы на выпей… Кого это тащишь? – и протянула ему кружку воды.
– Хлапонина Митрий Митрича, – ответил Терентий, не опуская наземь тела и наклонившись к кружке, которую Дунька держала в руке.
Пока он жадно глотал воду, Дунька присмотрелась к ноше пластуна.
– Это же Хлапоньев никак! – вскрикнула она.
– А я тебе что говорю? Знаешь его?
– Ну, а как же, сколько разов бельё ему стирала! Хороший офицер какой был!..
– Разве уж побывшился? – испугался Терентий и опустил тело, просто оно как-то само выскользнуло у него из рук, ослабевших от страха.
– А неужто живой был? – и Дунька, набрав в рот воды, брызнула ею в лицо Хлапонина.
Лицо слабо вздрогнуло от холодного, глаза открылись.
– Митрий Митрич! Друг! – обрадованно, но со слезами в голосе вскрикнул Терентий. – Ты уж меня не печаль, а также жену свою тоже.
– Те-ре-ха… – с усилием, однако внятно, так что расслышал наклонившийся к самым губам его пластун, проговорил Хлапонин.
– И правда, живой, смотрит! – обрадовалась Дунька.
Терентий схватил «дружка» снова, как и прежде, в охапку и направился к Павловским казармам на перевязочный, уже не останавливаясь.
Сильный ветер, неустанно дувший с моря весь этот очень памятный как для русских, так и для англо-французов день 27 августа – 8 сентября, воспрепятствовал линейным кораблям союзного флота принять участие в последней бомбардировке Севастополя. Помогать штурмующим сухопутным войскам явилось только несколько бойких канонерок. Они ретиво принялись было обстреливать город и мост через рейд, но береговые батареи скоро заставили их уйти.
Действия канонерок в неудачную для этих действий погоду, конечно, могли навести кое-кого из начальствующих лиц Городской стороны на мысль о возможности штурма. Но и без этого замечена была явная подготовка к штурму многими, наблюдавшими, что делается в неприятельских траншеях. Там усиленно передвигались большие отряды войск, чего нельзя было сделать совершенно секретно, и ещё часа за два до начала штурма на Корабельной бессменный командир люнета своего имени лейтенант Белкин приказал бить тревогу.
Барабанный бой мигом был подхвачен и прокатился по всей линии укреплений Южной стороны. Пехотные прикрытия бегом кинулись занимать свои места на банкетах; из-за мерлонов выкачены были полевые орудия, заранее заряженные картечью; из мин выводились лишние люди; резервам приказано было войти в редуты…
Тревога, правда, оказалась преждевременной, но она заставила проверить, всё ли готово для встречи врага, а сам лейтенант Белкин вспомнил о небольшом блиндаже на своём люнете, где около вольтова столба дежурили гальванёры.
Фамилии иногда бывают очень показательны для тех, кто их носит.
Вытянутое вперёд, острое, с поставленными очень близко к носу всегда беспокойными глазами, лицо лейтенанта Белкина таило в себе что-то именно беличье. По характеру же он очень заметно напоминал этого непоседливого, живого, всегда хлопотливого грызуна. Небольшой, лёгкий, он неутомимо следил за всем на своём люнете, при этом, как шутили над ним товарищи, был так вёрток, что успевал увёртываться даже от пуль, не говоря о снарядах: он выдержал на люнете всю осаду и не был ни разу ранен.
И теперь, когда поднятая им тревога поставила на ноги оборонительную линию Южной стороны, лейтенант Белкин успел не только обойти и проверить всё наружное на своём люнете, но спустился также и в уединённый небольшой блиндажик с вольтовым столбом. Его встретил дежурный гальванёр и отрапортовал, что у него «всё обстоит благополучно».
– Благополучно, говоришь? – озабоченно спросил Белкин. – А фугасы, в случае ежели действовать будут?
Гальванёр – сероглазый, с шишковатым широким лбом, ответил уверенно:
– Должны действовать, ваше благородие.
– Должны-то должны, а будут ли? Говорят, что всё уж теперь тут ни к чёрту! Ведь это весной ещё делалось, а теперь – конец августа.
– Аппарат в порядке, ваше благородие, – непоколебимо ответил гальванёр.
У него был такой серьёзный и уверенный вид, точно сам он являлся частью аппарата, приготовленного для взрыва фугасов.
– Как фамилия? – спросил его Белкин.
– Второго сапёрного батальона, младший унтер-офицер Аникеев Пётр, ваше благородие.
– Вот что, Аникеев, приказаний тебе никаких не будет, – их мне некогда будет давать, а может статься, меня и убьют в самом начале дела.
– Боже избави, ваше благородие!
– Так вот: приказаний не будет, а как только сам увидишь, что неприятель колонной идёт над фугасами, действуй!
– Слушаю, ваше благородие!
Белкин ещё раз бегло взглянул на немолодое надёжное лицо Аникеева с его шишковатым широким лбом и серьёзными серыми глазами и вышел из блиндажика вполне успокоенный.
Тревога оказалась фальшивой, однако никто не поставил её в вину Белкину: она сделала своё дело. Начиная с десяти утра все ждали штурма на Южной стороне – от генералов Семякина и Хрущова до последнего солдата-кашевара.
Но неприятель медлил; явно готовясь к штурму сам, он не препятствовал русским готовиться к его отражению: он даже канонады не открывал, – осадные батареи молчали.
Не нужно было прибегать к зрительным трубам, чтобы разглядеть, как бурлили французские траншеи, наполняясь войсками, подходившими из резервов. И в то же время такие слишком открытые передвижения войск казались Семякину преднамеренным ложным манёвром, чтобы сюда, на Южную сторону, притянуть побольше русских полков и тем обессилить Корабельную.
– Вот вы увидите, или я буду не я, – говорил Хрущову Семякин, – эти бестии штурмовать нас не будут! Помните, то же самое они проделывали и шестого июня: у нас только демонстрация, а штурм будет там, на Корабельной.
Иногда, когда слишком уж откровенно высовывались французы из передовых сап, Семякин приказывал открывать по ним пальбу картечью; но на эту пальбу они подозрительно не отвечали, поднимая только ружейный, и то недолгий огонь.
Похоже было и на то, что французы берегли свои снаряды на другое время, когда хотели обрушиться ими на русские укрепления со всею возможной силой, – до того загадочно было поведение противника.
Кашевары же гарнизона Южной стороны работали в этот день, как всегда, и борщ их и каша с салом были готовы в положенный час, так что в полдень начали обедать и здесь, как на Корабельной, а во время обеда к Семякину прискакал адъютант Остен-Сакена предупредить его, что французы пошли на штурм Малахова.
Солдатский обед много времени не отнимает, и, зная это, Семякин не беспокоил людей, тем более что был уверен в своём мнении. Он и адъютанту Сакена сказал:
– Передайте его сиятельству, что мы в безопасности: на нашей стороне штурма не будет.
В час дня он разрешил даже половине людей, поставленных в передовой линии, сойти с орудийных платформ и банкетов, чтобы не загромождать их излишне. Глухота обычно придаёт человеку много спокойствия, но Семякин, кроме того что был глух, был ещё и весь во власти охватившей его мысли, что он вполне разгадал тактику врага.
И, однако, не больше как через час ещё он убедился в том, что жестоко ошибся.
Правда, корпусу генерала де Салля, стоявшему против укреплений Южной стороны, предписано было не начинать дела до получения особого на то приказа Пелисье, и вот как раз около двух часов дня, когда выяснился полный неуспех и англичан и дивизий Дюлака и де Ламотт-Ружа, французский главнокомандующий послал де Саллю приказ штурмовать пятый бастион и прилегающие к нему люнеты Шварца и Белкина.
У французов всё уже было готово к штурму, и расстояния от их траншей до рвов укреплений были ничтожны: пятьдесят – восемьдесят шагов…
Выскочили и ринулись.
Впереди стрелки рассыпным строем, но в несколько шеренг, за ними сапёры с лестницами, кирками, лопатами; наконец, быстро строившиеся частью на месте, частью на бегу штурмовые колонны.
Стремителен был натиск, но никого не застал врасплох. Тревогу, конечно, били барабанщики, но в ней было уж теперь мало нужды: все знали свои места и заняли их отчётливо, как на ученье; все знали, что надо делать, и в атакующих полетел сразу рой пуль и картечи.
Однако французы шли храбро несколькими колоннами сразу, причём на люнет Белкина две колонны, – бригада генерала Трошю, бывшего у Сент-Арно начальником штаба; одна шла на передний фас люнета, другая – на правый фланг. И когда выскочивший по тревоге из своего блиндажика, в котором мог поместиться только один человек, гальванёр Аникеев увидел, едва разглядел сквозь дым, что вторая колонна движется как раз на фугасы, он тут же бросился к своему вольтову столбу.
Безостановочно гремела ружейная пальба, ежесекундно перекрываемая рёвом орудий; теряя множество людей, французы всё-таки быстро подвигались ко рву люнета. Они исступлённо кричали: «Vive l'empereur!» – и передовые ряды их уже врывались в ров, когда раздался страшный грохот, задрожала земля, густо замелькали в задымлённом воздухе камни и люди, и все, кто мог ещё думать о своём спасении, повернули обратно, спотыкаясь на трупы и камни, попадая десятками в волчьи ямы и огромные воронки…
Только три фугаса были заложены перед правым фасом люнета, но французов, успевших заскочить в ров переднего фаса, никто уже не поддержал: фугасы стали представляться отхлынувшим колоннам везде, – на второй штурм не решились. А заскочившие в ров, – их было человек двести, – частью были перебиты штыками, но в большей части сдались роте Подольского полка и команде матросов.
Генерал Трошю был тяжело ранен картечью в ногу при штурме пятого бастиона, куда он лично вёл три батальона своей бригады.
Никому из штурмовавших пятый бастион не суждено было побывать на нём: слишком горяча оказалась встреча, приготовленная им здесь; они не вынесли картечи и ружейных пуль и бежали.
Только на люнет Шварца, где самого Шварца уже не было в это время, – раненный за месяц до того, он лежал в госпитале, – ворвалась передовая часть бригады генерала Кустона и оттеснила численно слабый батальон Житомирского полка.
Но подоспел другой батальон житомирцев и опрокинул французов.
Попытка захватить хотя бы одно из укреплений Южной стороны кончилась для французов только тем, что они потеряли ранеными, кроме Трошю, ещё двух генералов – Риве и Бретона; внутренность люнета Шварца была завалена телами погибших в рукопашном бою; десять офицеров и полтораста солдат попали в плен, а всего выбывших из строя насчитано было до двух с половиной тысяч.
На четвёртый бастион не было нападения. Если фугасов перед люнетами Белкина французы не ожидали встретить, то все подступы к четвёртому бастиону представлялись им минированными. И когда генерал де-Салль обратился к Пелисье, атаковать ли Мачтовый бастион, тот разрешил этого не делать, чтобы избежать лишних и больших потерь: он считал, что захват Малахова уже обеспечил ему победу над Горчаковым, и для него важно было, чтобы Наполеон и Франция не сочли эту победу купленной чрезмерно дорогой ценой.








