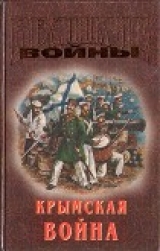
Текст книги "Крымская война"
Автор книги: Сергей Семанов
Соавторы: Сергей Сергеев-Ценский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 49 страниц)
Хрулёва, который оказался ещё и контуженным в голову, чего сгоряча не заметил, ординарцы его поспешили усадить на коня и отконвоировать в Павловские казармы, на перевязочный пункт, так что он не видел, чем окончился новый штурм горжи Малахова; а смертельно раненный Лысенко едва успел передать команду пришедшемуся около него деятельному защитнику Севастополя с первых дней осады, капитан-лейтенанту Ильинскому.
Но Ильинский, как моряк, чувствовал себя не на месте перед пехотными солдатами, обескураженными неудачей штурма, сбившимися в кучи возле домишек. При солдатах остались только младшие офицеры, а около Ильинского – два ротмистра: Макаров, вернувшийся со второго бастиона, и флигель-адъютант Воейков, которому удалось вовремя покинуть Малахов.
Как раз в это время шёл новый штурм второго бастиона и куртины дивизиями Дюлака и де Ламотт-Ружа и третьего бастиона – войсками Кодрингтона.
– Положение очень трудное, – говорил обоим ротмистрам Ильинский, сидевший на маленьком казачьем коньке. – Мне кажется, самое лучшее просить у главнокомандующего настоящего начальника – пехотного генерала, и свежих войск.
К Горчакову с докладом отправился Макаров, а Воейков разглядел в стороне генерал-майора Юферова, ехавшего верхом со стороны батареи Жерве, и вскрикнул радостно:
– Вот и начальник!
Юферов всего за несколько дней перед тем был ранен. Рана, хотя и была лёгкая, – он остался в строю после перевязки, – всё-таки саднила, ныла, как больной зуб, мешала спать.
Вид у него был нездоровый, усталый: на запылённом лице выделялись тёмные круги под чёрными глазами, блестевшими лихорадочным стеклянным блеском, щёки втянулись, нос заострился. Это был серьёзный, очень начитанный человек, художник, любитель музыки, хорошо игравший на фортепиано.
Когда Ильинский обратился к нему:
– Ваше превосходительство, примите начальство над войсками на этом участке… – он ответил, точно его пригласили на обед:
– С удовольствием.
При этом от неловкого движения его в седле очень заявила о себе вдруг рана; он невольно поморщился и добавил гораздо более пониженным тоном:
– С большим удовольствием.
И только после этого задал Ильинскому несколько вопросов по сути дела, потом повернул лошадь к солдатам ближайшего Ладожского полка и прокричал:
– Слушать мою ко-ман-ду!
Найдя начальника, Воейков тут же напросился на смелый манёвр: набрав команду охотников, атаковать Малахов справа, со стороны батареи Жерве.
Ильинский тут же поддержал его:
– Прекрасно! Вы – справа, а я в таком случае – слева, от куртины!..
Только послушайтесь моего доброго совета, – слезьте с вашей лошади, когда пойдёте на штурм, а то недолго на ней усидите.
– А вы тоже слезете со своей? – полюбопытствовал ротмистр.
– У меня разве лошадь? – весело удивился Ильинский. – У меня котёнок, а у вас целый мастодонт!
Лошадь Воейкова действительно была большая. Набрав с разрешения Юферова команду в несколько десятков человек, чтобы отвлечь внимание французов от атаки с фронта, Воейков принял совет Ильинского, оставил лошадь и пошёл впереди своего отряда пешком.
Назад потом принесли его с простреленной грудью. Пуля застряла в позвоночнике, и жил он ещё только два дня. Ильинский, которому также не удалась атака Малахова с фланга, остался невредимым, хотя и не спешивался; а генерала Юферова ожидала другая доля.
Он тоже пошёл впереди своего большого отряда охотников, оставив лошадь. В руке у него была кавказская шашка.
Свой отряд он рассыпал, чтобы меньше было потерь. Только по взмаху его шашки должен он был сбежаться к нему для штурма.
Отряд, конечно, был встречен самой частой ружейной пальбой, но пули миновали Юферова. И сквозь горжу, по трупам павших, пробилась большая часть отряда, на поддержку которого уже готовился идти сборный батальон от трёх раньше ходивших на штурм этой же дорогой полков; но французы приготовились встретить русских.
Несколько быстро следовавших один за другим залпов, и наполовину был уничтожен отряд, а сам Юферов прижат был с несколькими солдатами к одному из траверсов на площадке бастиона.
Его хотели взять в плен.
– Сдавайтесь, генерал! – кричал ему офицер.
– Русские генералы в плен не сдаются, – отвечал Юферов.
Такое предпочтение смерти плену поразило зуава, и он приказал своим солдатам непременно обезоружить и захватить русского генерала как лестный приз.
Но Юферов умел действовать шашкой, и попытка эта дорого стоила зуавам. Его закололи, наконец, штыками, но фамилия его долго оставалась неизвестной любознательным французам, точно так же и русские не знали обстоятельств его смерти.
Только несколько месяцев спустя, уже после заключения мира, кое-кто из французских офицеров узнали, наконец, кто из русских генералов предпочёл умереть, но не сдаваться, погиб в бою у горжи Малахова, и удивились, что в России не позаботились внести Юферова в списки героев.
Юферов был четвёртым генералом, выбывшим из рядов русской армии в этот день на Малаховом. Пятым же оказался Мартинау, которого прислал сюда Горчаков после доклада ротмистра Макарова.
Едва оправившийся от раны, полученной в сражении на Чёрной, Мартинау был снова ранен пулей в плечо, чуть только подъехал к полкам, оставшимся без начальника.
И когда, – это было уже в четвёртом часу, – сюда прибыл генерал-лейтенант Шепелев, посланный Горчаковым с тем, чтобы решить на месте, можно ли отбить у французов Малахов, то решение его было именно такое, какого хотелось Горчакову: штурмовать можно, но успеха ожидать нельзя.
– Можно ли взять обратно Малахов? – обратился Горчаков и к другому генералу, вернувшемуся в Николаевские казармы с Корабельной, – князю Васильчикову.
– Можно, – ответил Васильчиков, – но для этого надобно положить тысяч десять.
– Много, много! Что вы! – замахал на него руками Горчаков.
– Может быть, обойдётся и меньше, – невозмутимо согласился Васильчиков, – но что же потом, если даже будет отбит Малахов? Начнётся новая бомбардировка, и только.
– И только! – повторил Горчаков, пожал плечами и поехал на Корабельную сам.
К этому времени штурм был отбит уже везде и на Южной стороне и на Корабельной, кроме Малахова, а бомбардировка гремела яростно всюду.
К этому времени и сам Боске решил перейти на Малахов, чтобы убедить солдат корпуса в том, что курган не минирован русскими, и если даже и минирован кое-где местами, то мины эти взорваны не будут и опустошений в рядах войск не вызовут.
Поводом же к усиленным толкам о минах послужил взрыв небольшого порохового погреба от бомбы, пущенной с третьего бастиона. От этого взрыва погибло несколько десятков французов, а несколько сот кинулось стремительно с кургана к своим траншеям, и Мак-Магону стоило большого труда вернуть их и успокоить.
Этот взрыв погреба на Малаховом испугал и самого Пелисье, бывшего на Камчатке. Волнуясь, он говорил своим штабным, что если Малахов и другие бастионы, которые могут быть взяты на следующий день, минированы и принесут большие потери союзным войскам, то он прикажет расстрелять всех пленных в виду русской армии.
Боске же был убеждён в том, что взрыв на Малаховом – простая случайность, возможная и часто бывавшая и на французских батареях.
Появившись на Малаховом, он благодарил полки дивизий Мак-Магона, потом по его приказу был расстелен ковёр для обеда генералов в присутствии солдат: этот обед должен был окончательно доказать колеблющимся, что Малахов вполне безопасен от мин.
Перед обедом Боске со свойственной ему проницательностью сделал открытие первейшей важности. Присмотревшись к мосту через рейд, он заметил, что по нём с Северной стороны шли, как это бывало ежедневно в последнее время, артельщики с корзинами и мешками для ротных кухонь. И вдруг кто-то остановил вереницу их посредине моста, и после недолгой остановки они повернули обратно.
– Господа! Знаете ли что? – вскричал экспансивный Боске, обратясь к окружающим. – Я готов держать какое угодно пари, что русские не станут отбивать у нас Малахова! Совсем напротив, – они приготовились угостить ужином гарнизон Севастополя там, на Северной стороне!
Это открытие чрезвычайно обрадовало прежде всех других самого Боске, но радоваться ему пришлось недолго: разорвавшимся около снарядом, пущенным с батареи Будищева, французский Ахилл был ранен в плечо и бок с надломом рёбер.
Некоторое время он и лёжа пытался ещё отдавать приказания, наконец, обессиленный, был на носилках отправлен в тыл, – девятый французский генерал, выбывший в этот день из строя.
Что русские не собираются пока отбивать обратно Малахов, в этом убедились Мак-Магон и другие из высшего начальства на кургане, увидя, что части полков, бывших перед горжей, начинают отходить, очищая и траверсы впереди домишек и самые домишки. Как раз перед этим Боске приказал забаррикадировать горжу фашинами, старыми лафетами, телами убитых; но теперь оказалось, что в этом не было нужды.
Горчаков приехал на Корабельную не затем, чтобы распорядиться лично войсками, там собранными, и направить их на штурм Малахова. Он хотел только лично своими глазами увидеть то, в чём придётся на следующий день давать отчёт царю. Донесение в общих чертах складывалось уже в его голове, – нужны были только яркие, убедительные детали. Складывался также и приказ по армии, но в нём не хватало каких-то сильных слов, рождения которых он ожидал там, на месте подвигов русских солдат и офицеров пехотных частей, матросов и офицеров флота.
Но самое важное для него было всё-таки самому убедиться в том, что шаг, который он вот сейчас сделает, действительно необходим.
По донесениям выходило, что из двенадцати штурмов, предпринятых противником в этот день, отбиты с большими потерями для него одиннадцать, – и это несомненная победа русской армии; не отбит же только один, и это, конечно, поражение, но разве один неотбитый штурм способен перевесить одиннадцать отбитых?
К очищению Южной и Корабельной сторон всё уже было им приготовлено: и мост через рейд, и баррикады на улицах, и минные работы для взрывов, и, наконец, гораздо более, чем оставляемые бастионы, сильные укрепления Северной стороны. Но в то же время ведь всего только один штурм оказался неотбитым, всего только один бастион с прилегающими к нему двумя батареями занят, – не мало ли этого для того, чтобы покидать остальные? Что скажет царь? Что скажет свет? Что скажет Россия? Европа?..
Бомбардировка гремела со всех сторон, всюду рвались снаряды, – отнюдь не безопасной была поездка Горчакова на Корабельную, – напротив, каждую минуту он рисковал жизнью, а ему, главнокомандующему, гораздо умнее было бы стоять или сидеть у окна на четвёртом этаже Николаевского форта, но он снова пришёл в волнение.
Холодная решительность, так удивившая в полдень и Коцебу и всю его свиту, уступила опять место обычной для него нервозности.
Как после проигранного им сражения на Чёрной речке всем приближённым его казалось, что он, прогуливаясь под огнём противника, сознательно ищет смерти, так же точно было с ним и теперь.
Найдя генерала Шепелева и выслушав его доклад, что атаковать Малахов – значит идти на очень большие жертвы людьми без уверенности в победе, Горчаков тут же с ним согласился и довольно решительно дал ему приказ стянуть все войска Корабельной стороны к линии первых баррикад (на Корабельной были две линии баррикад) и защищать эту линию до последней возможности, если противник перейдёт в наступление. При этом все очищаемые укрепления там, где они минированы, приказано было взорвать, орудия привести в полную негодность.
Донесение царю было уже заготовлено в квартире Остен-Сакена; здесь, на месте, Горчаков решил, что приведённых в нём доводов к очищению Южной и Корабельной достаточно, и бывший при нём адъютант военного министра князь Анатолий Барятинский был послан с этим донесением в Петербург, к царю.
И всё-таки тут же после такого решительного шага он, спешившись, тонкий, длинноногий, сгорбленный под тяжестью взятой им на себя ответственности за оставление Севастополя, одиноко и совершенно бесцельно, глядя себе под ноги, бродил по узеньким улицам Слободки, загромождённым мусором разбитых домишек, развороченным снарядами и, главное, обстреливаемым с Малахова.
Думать ему, конечно, было о чём, и прежде всего о том, как примут бойцы на бастионах и редутах, только что блестяще отбившие штурмы, его приказ об отступлении. Ведь выходило так, что то самое, за что боролись одиннадцать с половиной месяцев, а если считать со дня высадки десанта союзников в Крыму, то все двенадцать, то самое, обильно политое русской кровью и не взятое с бою противником, теперь должно быть отдано ему без бою… И что делать, если солдаты не поверят этому приказу? Что, если скажут они в ответ на этот приказ жестокое слово: «измена»? И может быть, будет какая-то доля правды в этом жестоком слове?
Горчаков, прогуливаясь так самозабвенно и одиноко по улицам Корабельной, не пытался, конечно, представить себя со стороны; решая свои вопросы, действительно тяжёлые не только для его личного самолюбия, он и не думал о том, каким кажется теперь другим он, главнокомандующий русской армией не только одного Крыма, но и всего юга России. Наконец, полковник Меньков, его адъютант, испугавшись за его жизнь, позаботился о том, чтобы вывести его из лабиринта тяжких размышлений и Корабельной слободки, усадить его снова на лошадь и направить в сторону Николаевских казарм.
Приказ же Горчакова очистить бастионы и отвести войска на Северную действительно поразил гарнизон: ему не хотели верить даже офицеры, не только солдаты.
Горчаков потому-то именно и остался в одиночестве на Корабельной, что разослал всех своих адъютантов и ординарцев по бастионам и редутам одновременно. Однако старшие офицеры на укреплениях не решались даже и передать во всеуслышанье своим подчинённым приказ главнокомандующего: они посылали на соседние бастионы справляться – неужели и там получен тоже такой нелепый приказ. Но с приказами об отступлении разъезжали и адъютанты Сакена.
Особенно негодовали на Южной стороне, а солдаты, возбуждённые только что одержанной победой, кричали, как и предполагал Горчаков: «Измена, братцы, измена!»
Но и в самой середине прочно занятого французами Малахова, в башне, кучка солдат Модлинского полка и матросов, с несколькими совсем молодыми офицерами и кондукторами флота тоже не хотела верить, что Малахов не только не отобьют, даже и отбивать не станут большими силами, что их не выручат, что им остаётся только один из двух выходов: или смерть, или плен.
После незавершённой попытки выкурить их по-африкански дымом и другой попытки – взломать потолок башни – их приказано было оставить пока, так как уйти они никуда не могли. Особо поставленные в закрытых местах часовые предупреждали проходившие мимо команды, что из башни стреляют, и команды старались держаться траверсов, способных защитить их от неустанно летевших через бойницы пуль.
Так дотянулось до шести часов вечера, когда всем на кургане стало ясно, что русские нападать на них не собираются, что открытие Боске вполне похоже на правду. Только тогда и решено было покончить с досадной кучкой храбрецов в башне, прибегнув к артиллерийскому обстрелу.
На ближайшем к дверям башни траверсе соорудили закрытие из туров для артиллерийской прислуги, втащили туда орудие и начали бить в двери гранатами.
Этого не ожидали в башне, но первую гранату обезвредили, залив её водой; зато вторая взорвалась и ранила несколько человек, между ними и Витю Зарубина в ногу, впрочем без повреждения кости.
Тогда поручик Юни, как старший, прокричал своим:
– Объявляю дальнейшее сопротивление бесполезным! Кладём оружие!
Витя был занят перевязкой своей раны, для чего пришлось оторвать рукав рубашки и разорвать его пополам вдоль при помощи зубов, и отказался выступить парламентёром, что предложил ему сделать Юни.
Кондуктор Венецкий, который был тоже ранен и тоже скинул с себя рубашку для перевязки, воткнул рубашку на штык и выставил это в дверь, как белый флаг. С траверса спустился французский офицер и подошёл к двери.
– Сдаётесь? – спросил он.
– Мы – ваши пленные, – ответил Венецкий.
– Отчего же вы не сдавались раньше? – проворчал француз. – Это давно бы уж нужно было сделать… Прикажите своим людям сложить здесь, перед дверью, своё оружие.
Так стали пленниками французов четыре офицера, два кондуктора флота и человек тридцать, в большинстве раненых, матросов и солдат-модлинцев – последние защитники Малахова кургана.
– Ах, чёрт! Если бы я не заснул здесь… – горевал Витя, обращаясь к незнакомому ему до этого дня поручику-модлинцу, распоряжавшемуся сдачей.
Но чернявый, похожий на грека Юни, высоко вздёрнув левое плечо и делая затяжную гримасу, отозвался ему снисходительно:
– А что же такое могло бы с вами случиться, если бы вы не заснули здесь?.. Валялось бы, может быть, ваше тело где-нибудь во рву, и по нём пробежало бы пятьсот человек.
– У меня здесь все родные – в Севастополе, не понимаете вы! Отец, мать, сёстры… эх! Что они будут думать?
– Напишите им из плена, вот и будут думать, как надо, – рассудил Юни.
По обилию французских войск на Малаховом Витя решил, что всё уже кончено, что то же самое и на других бастионах, что Севастополь взят.
К бывшей Камчатке, куда отправляли пленных французы, он шёл совершенно подавленным. Рана на ноге заставляла его хромать, но он не чувствовал особенно резкой боли: боль за Севастополь, за неудачу своей армии всё-таки была гораздо сильнее. И все шли подавленные, не один он.
Однако уже по дороге к Камчатке, оглядываясь на хорошо знакомые ему бастионы Корабельной, Витя видел, что бастионы эти в русских руках. Он обратился к конвоировавшему их французскому офицеру, который был старше его, может быть, всего только тремя годами, и тот подтвердил его догадку, и сразу, узнав это, повеселела вся партия пленных.
А на Камчатке о них, последних защитниках знаменитого Малахова кургана, было доложено самому Пелисье, и с большим любопытством смотрел Витя на этого приземистого человека с заурядным, хотя и энергичным лицом, с сильной проседью в усах и эспаньолке.
Пелисье был в мундире с одинокой звездой Почётного легиона. Он был, видимо, очень доволен успехом на главном пункте штурма и успел уже поверить в открытие Боске, что русские собираются покинуть бастионы и город.
Поэтому совершенно неожиданно для Вити он, обратившись к ним, назвал их бравыми молодцами, сказал, что раненых из них будут лечить и даже что он принимает на себя обязательство обратиться с письмом к князю Горчакову, чтобы тот достойно наградил всех их за храбрость.
Сергей Семанов
ПУШКИН РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

1998-й год. Посреди бурной повседневности российская общественность широко отметила 200-летие со дня рождения великого русского дипломата канцлера Александра Михайловича Горчакова, соученика и друга Пушкина по Лицею, кому поэт посвятил два знаменитых свои стиха. Отмечали юбилей учёные, что понятно. Однако отмечали и политики, ибо уроки старого русского дипломата, удачливого соперника Бисмарка и Дизраэли, необычайно полезно осмыслить нынешней России. Характерно, что в те дни с большой статьёй выступил тогдашний министр иностранных дел Российской федерации Е М. Примаков. Оценка им деятельности канцлера была исключительно высокой.
Каковы же эти уроки? Что дают они нам полтора века спустя?
Об этом – в нижеследующей повести о жизни и деятельности Александра Горчакова, сыгравшего выдающуюся роль в истории Отечества, в том числе в событиях Крымской войны.

ВСТУПЛЕНИЕ
В середине 1900 года в архиве Министерства иностранных дел начал работать молодой дипломат, потомственный родовитый дворянин, недавний – с золотой медалью выпускник Петербургского университета Георгий Васильевич Чичерин.
То время было не лучшим для России, в том числе и во внешней политике. Министром только что стал давний дипломатический служака Владимир Николаевич Ламздорф, неотмеченный никакими талантами, одним лишь послушанием. Как раз в это время, предшествующее нескладной и неладной русско-японской войне, граф Ламздорф был по сути отодвинут от руководства внешней политикой страны. Всем молчаливо правила так называемая «безобразовская клика», названная так по имени приближённого Николая II в ранге статс-секретаря авантюриста А.М. Безобразова (выходец из «русских немцев», он, как нарочно, носил карикатурно русскую фамилию). Темны были дела этих гешефтмахеров, куда входили такие видные личности, как В.К. Плеве, М.В. Родзянко, князь Н.И. Воронцов, граф Ф.Ф. Сумароков-Эльстон, не знавший морских побед адмирал А.М. Абаза и другие. Что свело этих разнородных людей в сплочённую клику, какие тайные цели они ставили, пока неведомо, но зла они принесли России великое множество.
Те лезли в несусветные международно-финансовые и внешнеполитические авантюры (и прогорели, как водится), а Ламздорф, – что ж, он добросовестно изучал донесения послов и посланников, подписывал обобщающие обзоры, составленные чиновниками министерства, да изредка докладывал о том царю. Каков поп, таков и приход. Так же бесхлопотно и вальяжно жили все чиновники тогдашнего русского внешнеполитического ведомства.
Все, да не все.
Георгий Чичерин, которому не исполнилось ещё двадцати восьми лет, использовал служебное время на славу, хотя о «славе» – в газетно-рекламном смысле – даже и не задумывался. Он работал в главном архиве Министерства, должность эта в кругу его сверстников-коллег завидной не считалась. Архивные полутёмные подвалы, связки запылённых дел, старина, никому не интересная...
То ли дело дипломатические приёмы, где блистают сановники, светские дамы, а то и члены императорской фамилии, где можно завязать хорошее знакомство, представиться в выгодном свете лицу высокому, познакомиться с блестящей невестой, наконец! Какие уж там сокровища, в этом архиве...
Ошибаются люди, поверхностно глядящие! Почти два года молодой аристократ Чичерин просидел в министерском архивохранилище – это довольно точно известно по его послужному списку. Но ведь «сидеть» можно по-разному, с различным деловым итогом, а этого последнего никакой послужной список не уловит. Так вот: «наследство» Чичерина хорошо сохранилось – пять томов историко-дипломатической рукописи, содержащей тысячу больших листов убористого текста; когда-нибудь изданная, она едва ли уместится в один книжный том.
Известно, что во всех ведомствах, в том числе и ведомстве дипломатическом, издавна составляются всяческие справки и доклады, порой весьма обширные. По большей части эти сочинения читателей не находят, даже среди ближайших коллег. Но вот молодой Чичерин...
Дела архива старого МИД любо-дорого смотреть: прекрасная бумага, превосходный писарской почерк, так что исписанный лист кажется графически-художественным, образцовое делопроизводство, точные описи. Всё это было строго и сугубо секретно, как и во всех странах. Чичерин прикоснулся к архиву, чтобы выявить некоторые материалы к юбилею Министерства, исполнявшегося вскоре, – в сентябре 1902 года. Человек, гуманитарно образованный и с глубокой душевной тягой к изучению истории, он не мог не восхититься обилием нетронутого материала, окружившего его. И какого материала! Никто, кроме исполнителей и адресатов, не читал ещё этих депеш, часто сверхсрочных и сугубо секретных, а порой и таких, которые влияли на судьбы тогдашнего мира! Нет, нельзя было не увлечься такой работой.
И Чичерин увлёкся. А вскоре появилась и точная цель: описание (и осмысление!) деятельности крупнейшего дипломата России, одного из ведущих политиков XIX века – Александра Горчакова.
Так были написаны от руки те пять томов, которые находятся ныне в фонде Библиотеки Азиатского департамента Архива МИД СССР. Нам довелось изучать эти материалы. Рукопись производит чрезвычайно сильное впечатление! Прежде всего она, как принято выражаться в таких случаях, необычайно густо насыщена фактическим материалом. Подавляющее большинство документов даны со сносками на тогдашнее архивное делопроизводство. Добавим: вплоть до конца XIX века, а по сути – и до 17-го года деловая переписка русского МИД велась в основном на французском языке, международном дипломатическом лексиконе уже с XVIII столетия. Чичерин все эти горы текстов перевёл на русский литературный язык. Видна очень тщательная работа автора над текстом: многие страницы перечёркнуты размашистым крестом и переписаны вновь, на множестве иных – вставки и поправки, порой весьма пространные. Наконец, вся рукопись разбита на главы, в соответствии с важнейшими сюжетами исследования, что облегчает ориентирование в пространном сочинении.
Признаем: читать микроскопическую скоропись Чичерина очень трудно. Без лупы нельзя было обойтись, даже после многодневных уже трудов, когда исследователь начинает привыкать к почерку источника и он становится как бы «своим». Но – per asnera ad astpa, как цитировал не раз Чичерин любимую латинскую поговорку Горчакова. Материалы, которые нам удалось прочесть, прямо скажем, не имеют цены. И то сказать: до сих пор подавляющее большинство документов, на которые ссылается Чичерин, не опубликованы ни у нас, ни за рубежом.
История – удивительная муза (да, именно муза, то есть род искусства, а не только рациональная наука, – многие этого сегодня не понимают и не признают, пусть их, им же хуже!). Кто мог помыслить в 1902 году, за пятнадцать лет до Октября, что наследственный русский адвокат и молодой чиновник русского МИД, через полгода после того самого октября 17-го сделается... наркомом иностранных дел Советского правительства и станет затем основателем всей дипломатической службы в условиях нового общественного строя! Никто, конечно, включая и автора, будущего революционера, соратника Ленина и члена большевистского ЦК. И ещё: труд молодого Чичерина пронизан искренним патриотическим чувством. Потомственный столбовой дворянин, он же будущий руководящий деятель Совнаркома, любил и ценил русскую историю и культуру, он скорбел о прошлых промахах и ложных целях, но он видел и положительную перспективу, почерпнутую из прошлого опыта. Да, история, действительно, есть муза!
Вот почему для современного читателя безусловно ценны и значительны все суждения основателя Советской внешней политики о крупнейшем дипломате в истории России. В рамках настоящей краткой работы мы постараемся привести максимально возможное число этих суждений. Для удобства восприятия они будут набраны шрифтом, отличным от авторского текста (в цитатах мы будем стараться сохранить орфографию подлинника рукописи).
Вот они, первые слова рукописи молодого тогда дипломата Георгия Чичерина в его многотомном труде:
«Князь А.М. Горчаков назван в известном стихотворении Пушкина: «счастливец с первых дней». Судьба щедро расточала ему свои дары. Природный русский князь, Рюрикович, потомок св. Михаила Черниговского; из известного рода, занимавшего важное положение в правительственных кругах России; богато одарённый от природы, вознесённый потом на самую высшую ступень власти, доступную подданному, в одну из величайших эпох русской истории, – он умел соединить и осуществление великих дел, и личное благополучие, и привлекательные качества характера. Его имя связано с незабвенными реформами Императора Александра II, которого он был исповедником; он оставил глубокий след в русской истории прочными результатами своей политики, он пользовался благожелательством Государя, приобрёл редкую популярность в русском народе и добился почётной известности во всём цивилизованном мире; все почести, какие только возможны, выпали на его долю».








