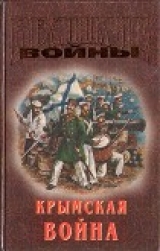
Текст книги "Крымская война"
Автор книги: Сергей Семанов
Соавторы: Сергей Сергеев-Ценский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 49 страниц)
Всё-таки ночь эта здесь, около «Трёх отроков», была ночью большой путаницы и неясностей, но зато быстро была она приведена в ясность там, в штабе Горчакова: как известно, и высокие здания и крупные события кажутся всегда видней и отчётливей именно издали.
Здесь, на Малаховом, где съехались в наступившей темноте Тотлебен, Нахимов и Хрулёв, царила час или два уверенность, что редуты Селенгинский и Волынский отбиты у французов обратно. Об этом, даже по форме приложив руку к папахе, доложил Нахимову, как помощнику начальника гарнизона, Хрулёв, когда только что вернулся с Забалканской батареи.
Так как вместе с темнотою упала на всё обширное поле жестокого боя и тишина, и не только обычной орудийной, даже и ружейной перестрелки не было слышно, то первым усомнился в том, что доложил Хрулёв Нахимову, хлопотавший около рабочих на Корниловском бастионе Тотлебен.
– Прошу очень меня извинить, Стефан Александрович, – обратился он к Хрулёву, – но если мы выбили французов из обоих редутов, то почему же там может быть тихо, а? Ведь они должны, стало быть, опять атаковать редут, – почему же не атакуют?
– Потому что наклали им, чешут бока, – вот почему! – энергично отвечал Хрулёв. – А наша обязанность теперь отбить ещё и Камчатку…
Отдали, а-а! – почти простонал он возмущённо и скорбно, сделав при этом выпад в темноту кулаками. – Ну что же, когда совсем не на кого было оставить Камчатку, когда я уезжал на Селенгинский! Не на кого, – буквально, буквально так, Эдуард Иваныч, как я вам говорю это!.. Ни одного не только штаб-офицера, даже и прапорщика в целом и живом виде!! Ищу, кричу и не вижу!.. Кинулись ординарцы искать кого-нибудь, – повезло было им: нераненый подполковник Венцель передо мною! Я к нему обрадованный:
«Примите немедленно команду над гарнизоном укрепления!» Он: «Слушаю…» А тут вдруг рвётся проклятая граната около, – и Венцель мой уже лежит на земле, изо рта кровь… Не знаю, что с ним потом, – время не ждало, надо было ехать, – пришлось своих ординарцев – мичмана Зарубина, прапорщика Сикорского, оставить за командиров… Но какие же это командиры, посудите?
Когда им приходилось быть командирами?.. Вот и… Ну, что поделаешь!
Хорошо, что хоть редуты стали опять наши, а Камчатку отобьём, – дай только подойдёт ещё народу из города!
– Теперь, поди-ка, они уж там укрепляются, – сказал неопределённо Нахимов. – Так что пока мы соберёмся…
– Много сделать всё равно не успеют, Павел Степаныч! Лишь бы только до утра не оставлять в их руках, – горячо отозвался на это Хрулёв, а Тотлебен покачал головой;
– Большие потери будут… И даже едва ли получим мы разрешение на это от князя.
– Зачем же нам просить разрешение, когда бой ещё не кончился? – так и вскинулся Хрулёв.
– Кончился, мне так кажется, Стефан Александрович, иначе почему же так тихо? Вы кого оставили на редутах?
– Подполковника Урусова я оставил командиром и Забалканской батареи и обоих редутов. Он же мне и доложил, что редуты отбиты.
– Он доложил, вот видите! А вы лично, значит так, не были на редутах?
– Не мог попасть. Видел только, что там уже были французы.
– Это и мы видели отсюдова, – сказал Нахимов.
– Да, но, позвольте доложить, когда я прискакал ко второму бастиону, показались эриванцы, два батальона, – вёл подполковник Краевский. Его я направил через мост поддержать на Забалканской батарее князя Урусова. Тут у него жаркое дело было с французами, – это я видел, – однако эриванцы французов погнали и к Забалканской вышли, это я видел своими глазами… А потом туда же пошёл и Кременчугский полк, четыре батальона…
– А-а, да, с такой поддержкой, пожалуй, могли быть взяты редуты, – согласился было Тотлебен, но Хрулёв отозвался досадливо:
– Я получил ясное донесение об этом! Как же так не взяты?
– Во всяком случае, э-э, по Камчатке надо открыть огонь, чтобы там не работали, – сказал на это Нахимов; Тотлебен же добавил:
– Вопрос с редутами для меня всё-таки, прошу прощения, Стефан Александрович, не совсем ясен. Между тем это есть очень важный вопрос.
Может статься, что придётся открыть огонь и по редутам тоже.
– Вот видите, вы, значит, мне не верите, что ли? – возмущённо вскрикнул Хрулёв.
Тотлебен взял его примирительно под локоть:
– Стефан Александрович, вам я верю! Вам я не смею не верить, – боже меня сохрани! Но донесение, донесение, какое вы получили касательно редутов, – это нуждается в проверке.
– Хорошо, можно послать туда офицера, – сказал Хрулёв.
– Э, так уж и быть, я лучше сделаю, если сам поеду, – возразил Тотлебен. – Ведь если обнаружится, что редуты уже не наши, – допустим это на минуту только, – то зачем же тогда идти отбивать люнет? Разве можно будет в нём удержаться, когда будут фланкировать нас с редутов.
– Редуты взяты нами! – ударил себя в грудь Хрулёв.
– Тем для нас лучше… Мне надобно их проведать, – наладить там работу, – мягко, но упрямо сказал Тотлебен и, взяв с собой ординарца – казака-урядника, направился к редутам, но не полем недавнего сражения, а вдоль линии укреплений.
Добравшись до первого бастиона, который не слишком пострадал от канонады, но требовал, как и соседний второй, больших работ, чтобы его усилить, если только пали редуты, Тотлебен повернул к мосту через Килен-балку. Навстречу ему непрерывно двигались солдаты с носилками, – несли раненых.
Носилок, однако, не хватало, – тащили раненых и на ружьях, покрытых шинелями, переругиваясь на ходу хриплыми голосами, так как поминутно спотыкались в темноте на тела убитых. Около моста было особенно много этих тел, – они лежали грудами по обе стороны моста, оттащенные сюда с дороги.
– Эй, братцы! Вы какого полка? – остановил Тотлебен лошадь перед идущими с носилками, на которых слабо стонал раненый.
– Эриванского, ваше всок… – устало ответил один из передней пары.
– Откуда идёте?
– А оттеда, с редута, ваше…
– С редута? С какого именно?
– Кто же его знает, как его имечко, ваше… – Солдат пригляделся и добавил:
– Нам ведь не говорили, ваше пресходитс…
– Значит, Во-лын-ский редут наш теперь и Селенгинский тоже? – отчётливо и раздельно спросил Тотлебен.
– Известно, наши, ваше пресходитс… – уже совсем бравым тоном ответил солдат, но Тотлебен, чтобы окончательно уяснить себе это, счёл нужным спросить ещё:
– Отбиты, значит, вашим полком у французов?
– Так точно-с, отбиты! – громко уже и даже не без гордости за свой полк ответил эриванец, а трое других молчали.
– Ну, молодцы, когда так! – обрадованно сказал Тотлебен.
– Рады, стратс, ваше пресходитство! – гаркнули теперь все четверо, и Тотлебен послал коня дальше, уже не останавливая других встречных.
Но невдали от холма, на котором расположена была Забалканская батарея и где заметно было многолюдство, какой-то фельдфебель, судя по начальственно-жирному голосу, отдавал приказания кучке солдат, и Тотлебен задержал около него лошадь.
– Какого полка? – спросил он, слегка нагибаясь к фельдфебелю.
Тот, намётанным глазом окинув его, сразу вытянулся, вздёрнул к козырьку руку и отчеканил:
– Кременчугского егерского, ваше превосходитс…
– Ага! Хорошо, – Кременчугского… А что, редуты Волынский и Селенгинский в наших теперь руках?
– Редуты, так что… не могу знать, ваше превосходитс…
– Не знаешь даже? Как же ты так? – удивился Тотлебен.
– Наш полк до эфтих редутов не дошёл, ваше превосходитс…
– Вот тебе раз! А почему же именно он не дошёл?
– По причине сильного огня противника, ваше превосходитс…
– Допустим… Допустим, ваш полк не дошёл, – но тогда, значит, другой полк дошёл, а?
– Не могу знать за другой полк, а только наш Кременчугский пришёл с города последний, а других ещё после нас не видать было, ваше превосходитс…
Тотлебен вздёрнул непонимающе плечи и заторопился на батарею, чтобы там расспросить того, кто должен знать это лучше, чем фельдфебель и рядовые.
Непроходимый беспорядок нашёл он на батарее. Он спросил одного из попавшихся ему офицеров о редутах, тот довольно уверенно ответил, что удалось отбить только эту батарею, редуты же остались за французами.
– А кто здесь командир? – спросил возмущённо Тотлебен.
– Подполковник князь Урусов.
– Где он сейчас?
– Не могу знать, ваше превосходительство.
С трудом удалось найти Урусова.
– Скажите хоть вы, наконец, князь, наши или не наши редуты?
– Какое же может быть сомнение в этом, ваше превосходительство? – как будто даже удивился Урусов такому вопросу. – Разумеется, наши.
– Ну вот, насилу-то я узнал, что надо! – обрадовался Тотлебен. – Но это есть безобразие, должен признаться, что никто у вас тут ничего толком не знает!.. Кто же командиром там, на обоих редутах? Или на каждом из них особый?
– Командиром всего этого закиленбалочного участка назначен генералом Хрулёвым я, ваше превосходительство, но командующий Эриванским полком подполковник Краевский подчиняться моим распоряжениям не желает, а командир Кременчугского, полковник Свищевский, старше меня чином и тоже не желает меня знать! – желчно ответил Урусов.
– Хорошо, отлично, но где же они, эти штаб-офицеры – Краевский и Свищевский? – полюбопытствовал Тотлебен.
– Они?.. При своих полках, ваше превосходительство.
– Какой же из двух полков на Волынском, какой на Селенгинском редуте?
– Этого я не могу сказать в точности…
– Вот тебе раз! Но ведь вас же, князь, оставил генерал Хрулёв за командира всего этого участка?
– Что же я могу сделать, если они этого словесного распоряжения не слыхали и подчиняться мне не желают?
– Однако нижних чинов Кременчугского полка я встретил сейчас здесь, – вспомнил Тотлебен.
– Да, здесь, около батареи, есть, кажется, и кременчугцы и эриванцы, но большая часть этих полков должна быть там, на редутах…
– Боже мой, это есть неразрешимая для меня задача! – развёл руками Тотлебен. – Но, может быть, здесь есть кто-нибудь из бывшего гарнизона редутов, а? Комендантом Селенгинского, например, был лейтенант Скарятин…
Он жив, не знаете?
– Лейтенант Скарятин здесь, ваше превосходительство, – по-строевому ответил из темноты около сам лейтенант Скарятин и выдвинулся вперёд.
– А-а, ну вот, ну вот, голубчик, вы мне скажете, наконец, кто теперь командиром на вашем редуте и кто на Волынском? – обрадованно обратился к нему Тотлебен, но Скарятин ответил так же, как многие до него:
– Не могу знать, ваше превосходительство.
– В таком случае сейчас же подите и узнайте и доложите мне! – вспылил Тотлебен. – Чёрт знает, какой тут беспорядок!.. Возьмите команду матросов и идите немедленно. Я буду вас ожидать здесь.
– Есть, ваше превосходительство!
Скарятин исчез в темноте, а Тотлебен пошёл осматривать укрепление, и первое, что его поразило, были заклёпанные ершами орудия, – одно, другое, третье, всё подряд.
– Безобразие! Что же это такое? Это есть полнейший абсурд! – кричал Тотлебен Урусову. – Раз только батарея была занята вами, это был ваш первейший долг приказать расклепать орудия! Или же… или вы намерены были сдать батарею совсем без всякого боя, в случае ежели противник пошёл бы на вас в атаку, а?
– Это мой недосмотр, ваше превосходительство, – сконфуженно отвечал Урусов.
– Недосмотр, вы говорите? Это… преступление, а совсем не какой-то там недосмотр!
Не меньше получаса провёл на батарее Тотлебен, лично во всё вникая и приводя её в боеспособный вид. Наконец, вернулся Скарятин.
– Из разведки прибыл, ваше превосходительство, – доложил он Тотлебену.
– Ну что? Как? Говорите!
– Приблизившись к редутам, насколько было возможно, я очень ясно слышал там французский разговор в нескольких местах, ваше превосходительство…
– Это… это что же значит? – недоумевал ещё Тотлебен.
– Для меня стало ясно, что оба редута заняты французами, ваше превосходительство, – очень отчётливо ответил Скарятин.
Главнокомандующий русскими силами князь Горчаков был небезучастен к штурму «Трёх отроков»: он наблюдал его с Северной стороны, пока можно было что-нибудь оттуда видеть. Правда, сам он не видел ничего дальше, чем в десяти шагах, но из чинов его штаба были всё-таки зрячие люди, как генералы Коцебу, Сержпутовский, Бутурлин, Ушаков, Липранди, и в руках у них были зрительные трубы.
То и дело обращался он то к одному из них, то к другому, и ему сказали, наконец, что идут колонны французов, что начался штурм редутов…
– И что же? Что же? Как наши?
– Неизвестно, ваше сиятельство, – отвечали ему политично генералы. – Виден только пороховой дым, и пока ничего больше… Придётся подождать эстафеты с телеграфа.
Телеграфная вышка была тут же, на берегу, и поражён был Горчаков известием, полученным оттуда: «Редуты Волынский и Селенгинский взяты неприятелем».
– Так быстро? Взяты?.. Но ведь это значит совсем без сопротивления?
Как же так, а? – бормотал, почти лепетал по-детски Горчаков, поводя очками то в сторону одного, то в сторону другого из своих генералов.
Он искал у них поддержки, сочувствия своему недоверию к эстафете, и в том прошло несколько минут, что каждый из генералов должен был сказать ему что-нибудь успокоительное, тем более что чувствовал он себя плохо весь этот день, – осунулся, был бледен, сгорбился, втянул и без того тощую впалую грудь и всё жевал по-стариковски губами.
Но вот принесли вторую бумажку с телеграфа. Все кинулись к ней, и Коцебу, как начальник штаба, прочитал громко:
– «Камчатский люнет взят».
– Что же это такое? – почти прошептал Горчаков. – Конец это или… ещё не конец?
Теперь уже никто из генералов не пытался его утешить, все были поражены быстротой действий французов и их успехом и смотрели на вышку телеграфа, ожидая ещё чего-то, гораздо горшего.
Но следующее известие о ходе боя пришло уже обычным путём: его привёз один из адъютантов Сакена, переправившийся через Большой рейд. Сакен доносил, что он ожидает общего штурма Севастополя и, хотя у него требуют помощи с Корабельной стороны, больше одного полка туда с Городской стороны отправить не может и просит личных указаний главнокомандующего и войск для отражения штурма города.
Донесение Сакена никаких кривотолков уже не допускало: минута была решительная.
– Только у Петра, у Петра Великого на Пруте было такое положение, как у меня сейчас! – бормотал Горчаков. – Ни одна армия в мире не находилась никогда в таком скверном положении!.. А всё Меншиков, всё он, всё он! Это его отвратительнейшее наследство!.. Почему же он во дворце теперь, а не здесь, не здесь, не здесь?..
Он весь дрожал нервической дрожью. Коцебу вызвался сам поехать в город на помощь Сакену, а Липранди предложил послать один полк из своего шестого корпуса взамен того, который Сакен отправил на Корабельную.
Несколько раз совершенно безнадёжно махнув рукой, Горчаков пошёл к своей лошади, еле переставляя ноги. Ночью же – во второй половине – от него пришёл приказ генералу Хрулёву, чтобы не только оставить «безумную затею» отбивать редуты у французов, но и Забалканскую батарею очистить, перевезя орудия оттуда на первый и второй бастионы.
Так контрапрошная система обороны Севастополя, с которой радостный ехал он из Кишинёва, заранее торжествуя при мысли, как удобно и просто удастся ему отжать к морю союзников, погибла в нём даже несколько раньше, чем погибла она впереди бастионов. На смену не то чтобы возникла, но быстро выросла новая, противоположная: не расширяться, а сжиматься, чтобы как можно скорее выжать из Севастополя весь гарнизон.
Это было не теперешнее его решение, – к такому решению пришёл он гораздо раньше, но зато оно стало в нём бесповоротным. Он, путаник и дергач, мог на время забыть решимость свою проводить неуклонно это решение; он мог подчиниться не только приказу свыше, а и доводам близких лиц из своего же штаба, но решения увести из Севастополя гарнизон он уже не менял больше за всё остальное время осады.
Настало утро 27 мая – 8 июня. Горчаков, не спавший эту ночь, но несколько успокоенный тем, что союзники, видимо, ограничились только захватом трёх редутов, дрожащей рукою писал царю:
"Прибыв сюда тому восемь недель назад, я застал неприятеля превосходного числом, в неприступной, с тылу укреплённой позиции, охватывающей город своими апрошами и редутами по всему объёму его и находящегося уже в 60 саженях от четвёртого бастиона.
Теперь, после восьми недель утомительнейшей осады, после выдержания неслыханного бомбардирования, причинившего нам огромную потерю в людях, и особенно в штаб-и обер-офицерах, я вижу неприятеля снова усилившегося и беспрестанно продолжающего получать новые подкрепления. Он угрожает прервать сообщение по бухте, а пороху у меня на 10 дней. Я в невозможности более защищать этот несчастный город!
Государь! Будьте милостивы и справедливы! Отъезжая сюда, я знал, что обречён на гибель, и не скрыл это пред лицом Вашим. В надежде на какой-либо неожиданный оборот я должен был упорствовать до крайности, но теперь она настала. Мне нечего мыслить о другом, как о том: как вывести остатки храбрых севастопольских защитников, не подвергнув более половины их гибели. Но и в этом мало надежды; одно, в чём не теряю я надежды, – это то, что, может быть, отстою полуостров. Бог и Ваше Величество свидетели, что во всём этом не моя вина".
Это было уже не письмо, а вопль главнокомандующего, побеждённого так же, как и его предшественник, гораздо раньше, чем была побеждена армия, вверенная его руководству. В охватившем его отчаянье он забыл даже, когда именно прибыл в Севастополь: с 8 марта по 27 мая прошло не восемь, а почти двенадцать недель. Но положение его действительно было трудное.
Ожидая штурма с Городской стороны, он отправлял туда с Северной и Инкермана полк за полком, так что интервенты могли бы в этот день очень легко захватить всю Северную сторону, если бы высадились на Каче, сделав одновременный нажим со стороны Чёрной речки на Мекензиевы горы и Инкерман.
Но интервентам было совсем не до таких сложных операций: кое-что заставило задуматься и Раглана и даже пылкого Пелисье, Горчаков не знал точно, во что обошлось им занятие разгромленных бомбардировкой, небывалой в истории войн, трёх редутов и ложементов перед третьим бастионом, но союзники успели уже подсчитать свои потери и донести о них в приблизительных цифрах в Париж и Лондон. По этим донесениям, англичане потеряли семьсот человек, французы – свыше пяти с половиной тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
Русские потери, как выяснилось потом, оказались гораздо меньше.
День 27 мая прошёл в обычной орудийной перестрелке, а 28 мая французы первые выставили белый флаг и послали парламентёра, предлагая перемирие для уборки трупов, и перемирие было дано.
От других подобных оно отличалось тем, что с французской стороны появилась целая кавалькада амазонок, а французские офицеры были чересчур любезны с русскими и вызывающе парадно одеты.
Резало глаза ещё и то, что попадались среди них и какие-то штатские люди в соломенных шляпах и белых костюмах, с тросточками в руках. Едва ли, впрочем, было для них приятным зрелищем то огромное количество убитых зуавов, алжирских стрелков, егерей, солдат иностранного легиона, которое возникло перед их глазами на этом небольшом клочке русской земли.
Но вот кончилось перемирие, перестали белеть и плескаться мирные флаги, отзвучали сигнальные рожки, убрался весь празднично настроенный народ, и будни войны начались новой перестрелкой.
ШТУРМ СЕВАСТОПОЛЯЕсли Пирогов, человек заведомо штатский, полагал, что русская Троя после потери её передовых редутов может простоять ещё долго, то совершенно иначе думали главнокомандующие с этой и с той стороны: дни Севастополя были ими сочтены, только счёт дней у Горчакова оказался несколько короче, чем у Пелисье.
Последнее объяснялось тем, что Горчаков был совершенно подавлен и испуган. Пелисье же при всей своей пылкости расчётливо учитывал то отчаянное сопротивление, которое оказали русские на Камчатском и других редутах, и старался подготовить штурм безупречно. Он знал, что должен ещё завоевать себе у своего императора – Наполеона III – такое доверие, какое получил с первых своих шагов в Крыму его противник Горчаков от своего императора Александра II.
Казалось бы, крупный успех, выпавший на долю Пелисье 7 – 8 июня (26 – 27 мая), так сразу поднявший авторитет его среди главнокомандующих прочих союзных армий, должен был примирить с ним Наполеона, но поздравление, которое Пелисье получил по телеграфу от Наполеона, было и запоздалым, и очень сдержанным в выражениях, и резко подчёркивало цену успеха – большие потери французских войск, и заканчивалось прямым и строгим приказанием изменить план войны, то есть немедленно сделать её маневренной, как это предписывалось раньше.
Пелисье получил эту телеграмму тогда, когда уже заканчивались им приготовления к общему штурму Севастополя. Этой палки в своё колесо он не вынес с надлежащим смирением. Он ответил телеграммой далеко не столь длинной, однако содержащей отказ следовать «предначертаниям» императора.
Он ссылался при этом на мнения всех остальных главнокомандующих и просил не портить хороших отношений, которые у него, Пелисье, установились с ними, его же самого «не делать человеком недисциплинированным и неосторожным».
Отправляя эту резкую телеграмму своему императору, Пелисье вполне надеялся на то, что следующая, – всего через два-три дня, – телеграмма его в Париж будет заключать два магических слова: «Севастополь взят», а что этих двух слов будет вполне достаточно для того, чтобы загладить все его резкости, в этом он не сомневался ни минуты.
Совсем иной окраски была переписка Горчакова со своим императором.
Полураздавленный неудачей, готовый всех кругом винить в ней, кроме самого себя, больной, старый, немощный духом, Горчаков ожидал величайших несчастий, из которых падение Севастополя было бы наименьшим, и заранее молил о снисхождении. Александр же был в той же степени не похож на Наполеона, как и Горчаков на Пелисье: он заранее извинял своему главнокомандующему все его возможные будущие несчастия вплоть до потери Севастополя. Однако Крым он предлагал отстоять, а для того, чтобы отстоять Крым, необходимо было, конечно, не потерять вместе с Севастополем его сорокатысячного гарнизона, закалённого и в огневых и в штыковых боях.
Александр писал Горчакову:
"Последнее письмо ваше, любезный князь, с донесением о взятии неприятелем наших контрапрошных редутов после кровопролитного боя, произвело на меня самое грустное впечатление, хотя я уже был к сему приготовлен телеграфическими депешами.
Положение ваше делается через это более критическим, и мысль вашу оставить этот несчастный город я понимаю, но как исполнить её, не подвергнув гибели большей части его храброго гарнизона? Вот что, признаюсь, озабочивает меня до крайности.
Если по воле всевышнего Севастополю суждено пасть, то я вполне надеюсь, что со вновь прибывающими тремя дивизиями вам удастся отстоять Крымский полуостров.
Защитники Севастополя после девятимесячной небывалой осады покрыли себя неувядаемой славой, неслыханной в военной истории; вы с вашей стороны сделали всё, что человечески было возможно, – в этом отдаст вам справедливость вся Россия и вся Европа; следовательно, – повторяю, что я уже вам и писал, – совесть ваша может быть спокойна.
Уповайте на бога и не забывайте, что с потерею Севастополя не всё ещё потеряно. Может быть, суждено вам в открытом поле нанести врагам нашим решительный удар".
Это снисходительнейшее царское письмо, посланное с флигель-адъютантом Олсуфьевым 4 июня, Горчаков получил уже тогда, когда ожидавшийся им штурм состоялся, но до того он тщетно напрягал все свои силы, чтобы найти способ в одно и то же время и оставить Севастополь и сохранить в целости его гарнизон ввиду многочисленной и прекрасно снабжённой армии противника, обложившей город.
Задача эта была, конечно, неразрешимой уже в силу того, что гарнизон Севастополя от Северной стороны, куда имел бы он возможность отступить, был отрезан широкой бухтой, а между тем даже и в более ранних письмах своих Александр, называя капитуляцию «самой крайней мерой», если и разрешал её, то только без сдачи гарнизона.
Это условие обезоруживало Горчакова, так как он заранее знал, что на него не согласятся союзники. Но он знал ещё и то, что по русским военным законам если и разрешалось оставить крепость, то не ранее как после отбития трёх штурмов, между тем Севастополь не штурмовался ещё ни разу.
Наконец, он помнил и о том, что весь севастопольский гарнизон был настроен настолько воинственно, что трудно было даже рассчитывать на полное повиновение всех частей, если объявить им решение сдать Севастополь без отчаянного кровопролитнейшего боя, который только и мог доказать им необходимость этого шага.
Но кроме всего этого, Горчаков заботился ещё и о чистоте своего имени в глазах того высшего круга, в котором он привык вращаться.
– Ведь никто не захочет даже узнавать причин. Причин, по которым я вынуждаюсь сдать Севастополь, – вот это главное! – жаловался он своему неизменному слушателю – начальнику штаба, Коцебу. – А будут только плевать в меня:
– Сдал!.. – Да ещё, пожалуй, и «подлеца» прибавят! Государь добр, государь меня понимает, и он меня защитит, я в большой надежде на это, – спасибо ему! Но ведь на платок… как это говорится?.. На каждый роток не воткнёшь платок, – в этом роде что-то… И не воткнёшь! Всех чужих ртов не закроешь! Стыду и бесчестию предадут имя князя Горчакова! А чем же, чем же я виноват, скажите? Россия велика, а войска в Крыму мало, а что я могу сделать без войска? И без снарядов? И без пороху?.. Ведь пороху только до шестого июня осталось, а потом что?.. Была у меня надежда заболеть, да как следует заболеть, так чтоб и с постели не вставать целый месяц, – вот как Меншиков вздумал тут заболеть, хитрец этот, но вот, вы сами видите, не удалось! Не повезло, – и в этом не повезло! Начиналась было болезнь, да я так разволновался двадцать шестого мая, что забыл просто, как-то даже из ума вон выскочило, что я болен! И что же теперь может меня спасти, скажите? Только три вещи могут меня спасти, и все должны быть внезапные: мир, пришедший как-нибудь внезапно, чума – тоже внезапная и в сильнейшей степени, – там, там, разумеется, у союзников! – или холера, да такая, чтобы от неё они там и свету не взвидели!.. Праздные мечты, утопии, дурацкие шутки, да, конечно, однако, и министру я так напишу, что никакого четвёртого, недурацкого выхода из моего подлого положения я не вижу.
И Горчаков действительно писал военному министру, князю Долгорукову, и о том, что, «заболев, думал, что бог сжалился, наконец, и дарует милость не быть свидетелем бедственных последствий, которые готовит злая судьба», и о том, что его «осеняет единственный луч надежды на то, что неожиданные обстоятельства: мир, холера или чума, придут на помощь…»
После этого письма на помощь Горчакову решило прийти само военное министерство в лице его директора канцелярии, генерал-адъютанта барона Вревского.
Давно известно, что всё гениальное просто: план Вревского был тоже чрезвычайно прост. Он предлагал вывести гарнизон из Севастополя не путём переправы через бухту под выстрелами неприятеля, а сухопутьем, в обход бухты, то есть к Чёрной речке, сосредоточив его для этого весь на Корабельной стороне, а на Городской оставив только незначительное число людей для заклёпки орудий и застрельщиков, которые должны были ввести в обман противника своим неумолчным огнём. Когда же севастопольский гарнизон атакует позиции противника на его правом фланге, то одновременно все полевые войска Горчакова должны ринуться через Чёрную речку, поддержать натиск севастопольцев.
Таким образом, должен был произойти красивый манёвр – обмен позициями: союзники захватывают Севастополь, а в это самое время русские войска захватывают все батареи правого фланга союзников, и бесчестие сдачи русской крепости будет совершенно затушёвано и перекрыто разгромом не менее сильно укреплённых позиций врага.
Красота этого плана, да ещё предложенного не кем иным, как самим директором канцелярии военного министерства, непременно должна была очаровать и очаровала действительно всё министерство.
Очарователен показался и самый стиль докладной записки барона Вревского, содержащей этот план:
«Если нам суждено очищать твердыни, орошённые русской богатырской кровью, то – движением вперёд, а не назад. Так мы не потеряем более двадцати тысяч человек, но возвысим славу русского оружия. Крайние обстоятельства требуют и крайних мер. Смелым бог владеет. Неприятель берёт наши батареи, и я не понимаю, почему его батареи были бы для нас неприступны».
Защитники-то Севастополя понимали это, но издали всё кажется виднее и проще, и барон Вревский, обольстивший своим планом не только военного министра, но и самого царя, был послан им в Крым к Горчакову под предлогом следить за продовольствием армии и вообще за снабжением её всем необходимым, а на самом деле затем, чтобы поддержать его своими убедительными доводами добиться того, чтобы он не отступал, а наступал, так как только наступление может сулить победу.
Короче, барон Вревский был выдвинут министерством и царём на роль русского Ниэля, хотя далеко не имел военных знаний Ниэля.
Но пока, снабжённый наставлениями Долгорукова и личным письмом к Горчакову царя, Вревский собрался к отъезду в Крым, там уже были подготовлены и разразились решительные действия интервентов против Севастополя и его гарнизона: часто случается это, что спасители являются поздно.








