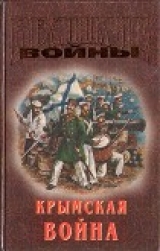
Текст книги "Крымская война"
Автор книги: Сергей Семанов
Соавторы: Сергей Сергеев-Ценский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 49 страниц)
Переливисто сверкали на солнце штыки батальонов, двигавшихся по взгорью Северной стороны, направляясь к пристани. Подкрепления эти были вызваны ещё на заре Горчаковым, и их деятельно перевозили потом через Большой рейд в город пароходы и баркасы, но в них уже не было теперь нужды: «пушка его величества» как умолкла, сконфуженная неудачей, так и продолжала молчать не менее трёх часов подряд.
Поражение интервентов, совершенно для них неожиданное, было настолько полным, что стало как-то совсем не до стрельбы, теперь уже бесцельной.
Раны оказались слишком глубоки; расстройство дивизий, ходивших на штурм, невиданное, особенно у французов; подсчёт потерь, как и язык донесений, затруднителен до крайности; обманутые надежды и Наполеона и Виктории угнетали Пелисье и Раглана.
Но зато единодушно был найден виновник поражения в лице генерала Мейрана. Это ему вздумалось начать атаку на десять минут раньше, чем был дан настоящий сигнал, то есть не одной ракетой со звёздами, а целым снопом таких ракет. За эти же десять минут русские будто бы успели приготовиться и стянуть большие силы на прочие свои бастионы.
Мейран ничего, конечно, не мог сказать в своё оправдание, так как был мёртв: в этом случае живые генералы действовали безошибочно.
Шестьдесят две тысячи снарядов было выпущено союзниками за одни только сутки подготовки к штурму, на что защитники Севастополя не могли ответить и двумя десятками тысяч. Эта ужасная бомбардировка, от которой некуда было укрыть войска, собранные в городе в предчувствии штурма, вырвала из их рядов свыше четырёх тысяч жертв; потери же в утро штурма были сравнительно с этим невелики.
Но штурм союзникам стоил до восьми тысяч человек, причём потери французов превосходили потери англичан больше чем втрое.
Из генералов союзников, кроме трёх убитых, пятеро было ранено.
Осторожные Канробер и Ниэль получали право считать себя более предусмотрительными, чем пылкий Пелисье, а французский Ахилл – Боске – мог не завидовать лаврам, выпавшим на долю его заместителя с очень длинной фамилией.
Телеграмму-реляцию о неудавшемся штурме Пелисье всё же задерживать не мог, и когда была она прочитана в сенклудском дворце, возмущённый Наполеон ответил главнокомандующему своими войсками письмом, полным самой резкой критики всех его действий.
«Я признаю в вас много энергии, – так заканчивалось это письмо, – однако руководить надобно хорошо. Немедленно представьте военному министру свой план действий в подробностях и не смейте с этого дня предпринимать решительно ничего, не испросив на то согласия по телеграфу. Если же вы на это не согласны, то сдайте командование армией генералу Ниэлю».
После такого письма императора Пелисье, кажется, не оставалось ничего больше, как проститься с армией и Крымом; но он решил иначе: он проглотил обиду и остался; а военный министр, маршал Вальян, и генерал Флери, мнение которого ценил Наполеон, заступились за Пелисье. Они нашли для него смягчающее вину обстоятельство в известном упорстве русских солдат, которых, по крылатому слову Фридриха II[21]21
Фридрих II – прусский король с 1740 по 1786 год.
[Закрыть], мало было убить, а надо было ещё после того и повалить на землю.
Штурм 6/18 июня был отбит блестяще, и в историю обороны русской земли от покушения интервентов вписана была севастопольцами славная страница; но половину потерь союзников составляли убитые, которых нужно было убрать.
Корреспондент газеты «Таймс» писал об этом страшном зрелище нелицеприятно:
«Наши бедные красные мундиры устилали землю перед засеками редана, тогда как все подступы к Малаховой башне были покрыты голубыми мундирами, лежавшими более в кучах, чем разбросанно».
Ночью с 7 на 8 июня канонада со стороны интервентов повторилась было с прежней силой, но через час стихла. Это походило на жест отчаяния. Так буян, выброшенный вон из дома, отводит душу на том, что начинает издали бросать в окна камнями.
С утра до полудня тянулась обычная «дежурная» перестрелка, а после полудня были выкинуты белые флаги, – французами на Камчатке, англичанами – против третьего бастиона, – и явились парламентёры просить о перемирии для уборки трупов.
Перемирие, конечно, было дано. Установили цепи солдат с той и с другой стороны, – шагов пятьдесят между цепями, шагов десять между солдатами в цепи, – подъехали привычные к перевозке тел русские фурштаты на своих тройках, нагружали трупы французов и отвозили их к бывшей Камчатке, которая называлась у французов редутом Брисьона, по имени полковника, убитого здесь при её захвате.
Сердитого вида крикливый французский генерал верхом на прекрасном арабском коне, отвалившись в седле и выставив ноги вперёд, появлялся иногда посредине цепей, сумрачно наблюдая за порядком. Ему помогал траншей-майор тоже верхом и почему-то с палкой в руке. Впрочем, палки вместо ружей были и у французских солдат в цепи.
И офицеры и солдаты-французы были теперь мрачны – совсем не то, что десять дней назад на подобном же перемирии. Появилась было с их стороны амазонка, но всего только одна, и что-то быстро исчезла.
Большое оживление среди французов началось только тогда, когда к цепи вздумалось подъехать Хрулёву на своём заколдованном белом коне. Оказалось, что многие французы знали его даже по фамилии; на него показывали один другому, на него смотрели во все глаза.
Увидя себя предметом такого чрезмерного внимания, Хрулёв ускакал, как и застыдившаяся французская амазонка.
А трупы несли на носилках и везли со стороны русских бастионов к французам, пока не начало опускаться солнце. Взглянув на его диск, подошедший близко к горизонту, сердитый французский генерал заявил русскому, подъехав:
– Я больше не приму ни одного тела! Сейчас я прикажу трубить отбой и опустить флаг.
– Хорошо, но как же быть с большим ещё количеством неубранных тел? – возразил русский генерал.
– Делайте, что вам будет угодно!
Он откланялся вежливо, повернул своего прекраснейшего каракового араба, с тонкими, как у горного оленя, ногами, и отъехал. Русский генерал, сидевший на простом горбоносом дончаке, притом не вытянув ноги вперёд, – такое правило было у французских кавалеристов, – а совершенно без всяких правил, мешком, недоумевающе глядел ему вслед.
Солдаты обеих сторон всё-таки переговаривались и теперь, по-своему, как глухонемые, хотя это почему-то запрещал своим усатый траншей-майор с палкой.
А к одному артиллерийскому штабс-капитану, стоявшему за русской цепью, подошёл молодой и бойкий французский офицер и после первого же, сказанного с очень весёлым лицом, комплимента русским артиллеристам, защищавшим таким густым картечным огнём бастионы, вытащил небрежно небольшой театральный бинокль в перламутровой оправе, как бы между прочим, между делом, приставил его к глазам и впился в батарею Жерве.
– Этого не разрешается делать! – строго сказал артиллерист, положив руку на его бинокль.
– Вот как! Но почему же? – как бы удивился бойкий француз. – А у нас никто не запрещает осматривать укрепления!
– Вам никто не запретит этого и у нас, если вы возьмёте наши бастионы, – сказал артиллерист без малейшей тени улыбки, однако непримиримо, несмотря на час перемирия.
Француз спрятал бинокль, достал свою визитную карточку и протянул артиллеристу, но тот не взял её.
И этот жест и явная брезгливость, сквозившая в чертах лица несколько усталого, но совершенно спокойного не только за себя, но как бы и за Севастополь тоже, русского артиллериста отрезвляюще подействовали на бойкого француза. Он померк и отошёл к своей цепи.
Артиллерийский штабс-капитан этот был Хлапонин.

ЧАСТЬ VIII
НАХИМОВТри недели, прошедшие с того памятного для интервентов дня, когда блестяще был отбит их штурм, не принесли отдыха Нахимову.
Каждый день был полон своих забот, хотя бомбардировка редко когда подымалась выше тысячи снарядов в день, а штуцерная стрельба была обычной.
Беспокойство за участь города, губернатором которого он считался, возросло даже: причиной его была канонада в ночь с пятого на шестое июня, открытая неприятельской эскадрой.
По судам этой эскадры была ответная пальба с фортов, однако результаты пальбы остались неизвестны, между тем канонада продолжалась шесть часов подряд. Закупорку рейда затопленными судами Нахимов потом внимательно осматривал сам, подъехав к ней на гичке. Он нашёл, что часть судов раскачалась благодаря штормам, другие же засосало илом, – мачты их скрылись, – и перед ним осязательно возникла опасность прорыва флота союзников на рейд, откуда он мог бы в короткое время разгромить город в тех его частях, которые были пока недоступны выстрелам с сухопутных батарей.
Как опытный моряк, он считал этот шаг со стороны союзных адмиралов более чем возможным: он сам, будь он на их месте, непременно сделал бы именно так.
Такой вывод, конечно, лишил его спокойствия. Он поднял в штабе гарнизона вопрос о неотложных мерах к защите рейда, но топить для этой цели свои же суда было ему жаль; оставалось только одно – заложить батареи на берегу рейда, чтобы уничтожить неприятельскую эскадру, если она вздумает прорваться внутрь ночью, на линии затопленных судов.
По его настоянию и под его наблюдением такая батарея – тридцать орудий – и была заложена на Северной стороне между Константиновским и Михайловским фортами. Она была двухъярусная и получила название Нахимовской. Кроме неё, дальше по берегу, на тот случай, если всё-таки одному-двум кораблям удастся проникнуть на рейд, были устроены ещё две батареи – одна на десять, другая на четыре орудия – исключительно для действий внутри рейда.
Когда в самом спешном порядке земляные работы были закончены и чугунные стражи рейда – новые сорок четыре орудия – стали на предназначенные им места, Нахимов вздохнул свободнее. Однако как раз в это время начали подвозить на лошадях, верблюдах, а больше всего на волах отборно-толстые сосновые брёвна и складывать их на берегу, около Михайловского форта.
Брёвна эти везли из Херсона, куда обычно сплавлялся лес по Днепру для нужд Черноморья и всего Крыма. Принимал эти брёвна инженер-генерал штаба Горчакова Бухмейер, когда Нахимов осматривал сооружённые по его настоянию батареи. Заметив его издали, он подъехал к Бухмейеру.
– Александр Ефимович, скажите бога ради, для чего это прекраснейший такой лес, а? – обратился Нахимов к этому генерал-лейтенанту, которого уважал уже потому, что он был инженер, как и Тотлебен.
Бухмейер, который был одних почти лет с Нахимовым, но почти совершенно сед, даже с сильной проседью в чёрных усах подковкой, ответил не сразу. Он снял фуражку, вытер платком высокий розовый вспотевший лоб и только после этого сказал, тщательно подбирая слова:
– Для удобства сообщения Северной стороны с Южной приказано его сиятельством соединить оба берега тут мостом, Павел Степаныч.
– Мостом-с? В этом месте-с?.. Да ведь тут почти верста ширины, что вы-с! – очень удивился Нахимов.
– Да, большое затруднение в этом… Также и в том, что ведь оттуда, – кивнул Бухмейер в сторону батарей интервентов, – стрельбу подымут, беспрепятственно не позволят работать, а строить надо.
– Отлично обходились мы без моста до сих пор и вдруг-с почему-то надо-с… Хм, хм… мост! Плавучий мост! – подозрительно вперил Нахимов в карие глаза Бухмейера свои голубые, расширенные недоумением.
– Всё-таки, согласитесь, Павел Степаныч, с этим, по мосту гораздо скорее может пройти большая воинская часть, чем ежели перевозить её будут на транспортах! А мост предполагается не плавучий, а бревенчатый, разводной.
– Бревенчатый-с? И в версту шириною-с? – теперь уже просто, как хозяин обороны, сам строивший плавучий мост через Южную бухту, усомнился Нахимов.
– Не приходилось и мне никогда выполнять такую работу, – скромно отозвался ему Бухмейер. – На триста шестьдесят сажен через Дунай у Измаила вывел мост, но тот – плавучий… Кроме того, условия работы были совсем не те… Но раз приказано, нужно делать.
– Даже если и невозможно-с?
Бухмейер слегка улыбнулся.
– Теоретически всё-таки возможно… поскольку мы знаем, что брёвна держатся на воде и могут выдержать большой груз… Плоты, соединённые вместе.
– Но ведь зальёт-с, зальёт при малейшем волнении! – И даже руками сделал несколько энергичных волнообразных движений Нахимов.
– Об этом не спорю: заливать при ветре может… Также может давать и прогибы при движении больших тяжестей, как, скажем, орудия. Но это предусмотрено, конечно. А удобство для сообщения большое, это уж бессомненно, – удобство первостепенное.
– Разобьют-с! – уверенно махнул рукою Нахимов.
– Думаю всё-таки, – осмеливаюсь так думать, – что всего моста не разобьют, – снова улыбнулся Бухмейер. – А что ежели будет разбито снарядами, поправим… Оставим на этот случай, на ремонт, запас материалов. Наконец, стрельбу откроем из наших батарей: они по мосту, а мы по ним.
– Так что же уж, значит, как же-с, а? Решено и подписано-с? Мосту быть-с? – с нескрываемым волнением от раздражения спросил Нахимов.
– Всенепременно, – ответил Бухмейер. – Я не могу только в точности доложить вам, Павел Степаныч, когда именно он будет готов, – это зависит от многих обстоятельств, но что он должен быть готов как можно скорее, об этом уж буду стараться.
– Прощайте-с! – вдруг неожиданно резко сказал Нахимов, торопливо сунул руку Бухмейеру и повернул своего маштачка в сторону морского госпиталя, где он бывал каждый раз, когда переправлялся на Северную.
– Видали вы подлость? – выкрикнул он, увидя смотрителя госпиталя полковника Комаровского, вышедшего ему навстречу.
Тот никогда раньше не видал его таким возмущённым: лицо его было апоплексически красно, даже голубые глаза порозовели.
Комаровский, человек по натуре честный, стоял руки по швам и развернув грудь, усиливаясь понять, кто именно и что мог донести на него адмиралу, командиру порта.
– Подлость, подлость видали-с? – повторил Нахимов, уничтожающе на него глядя.
– Не могу знать, – пролепетал Комаровский, – о чём изволите говорить, ваше высокопревосходительство?
– Э-э, «не могу знать», а у самого под носом это! – поморщился Нахимов и повернул Комаровского так, чтобы он видел брёвна, сложенные на берегу.
– Это что-с? А? – показал он рукой.
– Лес возят, – в недоумении поднял на него глаза Комаровский.
– То-то, что лес! А зачем лес?.. Мост хотят строить через бухту!..
Бросать хотят Севастополь, вот что-с!
Полковник Комаровский был озадачен этим не потому, что Севастополь хотят бросить, – ему приходилось слышать такое мнение и раньше, – а потому, что Нахимов именно с ним поделился своим возмущением.
Нахимову же было всё равно, кому бы первому ни выкрикнуть того, что его давило невыносимо.
Замысел Горчакова бросить «несчастный город» был для него не нов: об этом он часто слышал от него и на военных советах и когда он приезжал с Северной. Но после того как был отбит штурм, Горчаков, казалось, успокоился, и все распоряжения его клонились только к тому, чтобы усилить всеми способами оборону Севастополя.
На поверку же выходило, что там всё было только показное, парадное, а настоящее тайком готовилось здесь. Под видом удобства переправы через рейд воинских частей, назначенных на усиление гарнизона, на случай нового штурма, готовится, несомненно, путь отступления всему севастопольскому гарнизону, которое и совершится по приказу главнокомандующего когда-нибудь под покровом ночи, а торжествующему врагу отдано будет всё, стоившее таких неисчислимых и неоценимых трудов и жертв.
И Комаровский только ещё приводил, старался привести в связь эти брёвна на берегу и оставление Севастополя, когда Нахимов, качая головой, повторял подавленно:
– Какая подлость! Какая подлость!
Оставить Севастополь, хотя бы и после трёх штурмов, для него, моряка, было то же самое, что сдать судно неприятелю после какого угодно кровавого боя.
Можно было удивляться – и многие удивлялись тому, – с каким хладнокровием каждый день обходил Нахимов бастионы во время самого жестокого иногда обстрела их; а между тем для него это было совершенно естественно.
С дней ранней юности он готовил себя для борьбы, а не для лёгких служебных успехов в гостиных высшего начальства или за канцелярским столом. Он не рождён был ритором, однако и административные таланты его были слабы, и в этом отношении он очень охотно признавал превосходство над собой Корнилова.
Но зато своим совсем не картинным, а в высшей степени простым хладнокровием перед лицом неотвратимой, смертельной опасности он превосходил всех своих сослуживцев, потому что это было деловитое хладнокровие обстрелянного матроса, для которого палуба корабля – крепость, которому дана возможность отстреливаться от врага, но не дано способов прятаться от него или бежать.
Когда молодой ещё, однако успевший уже совершить кругосветное плаванье, лейтенант Нахимов на флагманском корабле «Азов» стал участником знаменитого в летописях морских сражений Наваринского боя, он провёл весь бой рядом с матросами, у орудий.
В этом бою он, обвеянный уже штормами трёх океанов и большей половины морей, получил окончательный закал.
Бой был неимоверно жестокий. «Азов» сражался одновременно против пяти турецких судов. Он получил полтораста пробоин в корпусе, кроме того что у него были разбиты все мачты, однако он не только уцелел, но сумел благодаря несравненным действиям матросов у орудий потопить два больших фрегата и корвет и сжечь восьмидесятипушечный корабль и фрегат, то есть уничтожить все пять судов, с которыми бился.
Нахимов был представлен к Георгию и чину капитан-лейтенанта, как особенно отличившийся среди младших офицеров в этом бою, а между тем он только и делал, что делали матросы около него, – направлял орудийный огонь, не обращая никакого внимания на действие огня противника.
Наварин создал Нахимова-бойца: выковал его, дал ему законченную форму. И молодых офицеров потом, когда стал командиром корабля, затем целой эскадры, он воспитывал не для смотров только, а для боя, как и матросов.
Долго пришлось ему ждать этого нового боя, правда, целых двадцать шесть лет! Иной бы мог и размагнититься за такой срок, оравнодушеть, обрастая с годами чинами, орденами и жиром, приобресть только начальственную важность, тяжёлую поступь и хриплый рык. Но не размагнитился Нахимов и создал свою яркую страницу в книге крупнейших схваток на море – Синоп.
Но эта была двойная победа: не только над турецким флотом, поддержанным огнём береговых батарей, – ещё и над штормами Чёрного моря в осенние месяцы. Продержаться с парусной эскадрой несколько недель в море, несмотря на постоянные ветры, переходящие в шквалы и штормы, – это был тоже подвиг, на который оказался способен только Нахимов с командами, воспитанными им самим.
Половина судов нахимовской эскадры не вынесла такой передряги и потребовала ремонта, – вынесли люди, изумив этим даже адмиралов английских и французских флотов, отлично знавших, с какою целью так самоотверженно крейсирует в бури эскадра Нахимова, однако не решившихся идти выручать турок, ссылаясь на невозможное для плавания море.
Отгремел Синопский бой, началась упорнейшая борьба за Севастополь: почти десять месяцев жесточайшего шторма, почти непрерывный Синопский бой.
– Павел Степанович, вам бы не ездить сегодня на бастионы…
– А почему же это не ездить? Нет-с, знаете ль, там мне как-то свободнее дышится…
Это были слова, найденные очень точно. Свободнее всего дышать Нахимов мог только на бастионах, то есть на тех же наваринско-синопских кораблях, стоявших на совершенно незыблемом якоре и делавших своё грозное дело при всём типично русском добродушии их команд.
Белокурый, голубоглазый, весь светящийся именно этим русским добродушием в небоевое время, когда он, полный адмирал, был вполне доступен любому матросу и терпеливо выслушивал любое заявление, Нахимов на бастионах во время сильнейшей пальбы только подтягивался, становился зорче, поднимал голос до резкого крика, потому что иначе было нельзя, но он продолжал оставаться тем, кем был и в исключительные часы Наварина: матросом при том или ином орудии, комендором, а не командиром.
Однако в этом-то именно и было его истинное величие. Он, адмирал, был матрос душою, и по-матросски твёрдо знал он только одно, что родной Севастополь надо отстаивать до последнего вздоха.
И когда был убит брат командира парохода «Владимир» лейтенант Бутаков на батарее своего имени, он, адмирал, нёс его гроб, как мог бы нести только отец гроб своего сына. Все флотские – офицеры и матросы – были дети этого старого холостяка, но не очень старого ещё человека: пятьдесят два года – не большая старость; и кошелёк его был открыт для всех.
Однако родному племяннику своему, капитану 2-го ранга Воеводскому, который был у него дежурным штаб-офицером, он говорил часто и всерьёз:
– Опротивел ты мне, истинно опротивел! Ну, что ты мне приносишь тут все какие-то бумаги-с длиннейшие? Три листа кругом исписаны, – вот тут и изволь читать-с! В двух словах сказать бы, и всё, а то надо ещё и ответ сочинять-с! Экая бестолочь, прости господи! Хватает же у них времени на эти бумаги мерзкие-с!
Матросов на бастионах он всегда выслушивал внимательно, если то, с чем они обращались к нему, касалось стрельбы из орудий или распорядков, нуждавшихся в улучшении; и часто, покачивая головой, отзывался он им:
– Это, братец ты мой, ты говоришь дело-с! Это верно-с!
Хотя бывало иногда и так, что слушает-слушает иного матроса Нахимов и вдруг прикрикнет на него:
– Дичь, дичь порешь, брось! Взять бы тебя за хохол да оттрепать как следует, чтобы ты у меня времени не отнимал зря-с!
А матроса Кошку он вскоре после штурма шестого июня приказал списать с третьего бастиона на корабль «Ягудиил» за беспробудные кутежи.
– Пускай-ка проспится и в чувство взойдёт, а то он тут весь наш бастион споит-с! – говорил он контр-адмиралу Панфилову. – Через недельку его возьмите-с.
Однако убеждённый в том, что сырая вода летом бывает вредна для здоровья, если её не сдобрить красным вином, он часто посылал на бастионы бочонки вина.
Больные и раненые матросы, лежавшие в госпиталях, были для него предметом особых забот: сплошь и рядом, не желая заводить «письменности», давал он свои деньги, чтобы купили для них то, в чём они нуждались.
Один свитский офицер, прибывший из Петербурга, вздумал прийти с визитом к Нахимову и встретил его выходящим из дому.
– Ну, что это вы там выдумали-с! – удивился Нахимов, когда узнал от него о цели его прихода. – Какие у нас теперь визиты-с! Да я и не так интересен, чтобы стоило вам хлопотать о знакомстве со мною-с… А вот если хотите, я вам покажу четвёртый бастион-с, – это штука любопытная-с, а ко мне потом приходите просто обедать-с.
Нахимову никогда не случалось водить солдат в атаку, как, например, Хрулёву, или даже просто командовать ими: пехотного строя командам он так и не научился. Говорить речей солдатам ему тоже не приходилось, да он едва ли мог бы когда-нибудь сказать прочувствованную и в то же время кудрявую речь, как это умели делать иные искусники.
Он только появлялся каждый день среди солдат на батареях и редутах, и солдаты видели это, и этого было с них довольно, чтобы считать высокого сутуловатого адмирала в золотых эполетах своим генералом. Даже и не генералом, пожалуй, а как-то так – не то чтобы ниже генерала, а гораздо ближе к ним, чем любой генерал.
Они даже и адмиралом его не называли, и если спрашивал новичок-солдат у старого:
– Это кто же такой пошёл в аполетах-то?
Старый отвечал с непременной одобрительной улыбкой:
– А это же флотской, Павел Степаныч… Начальника гарнизону, стало быть, помощник.
Не все из солдат твёрдо знали фамилию адмирала, который приезжал на укрепление на своей серой смирной лошадке, но что звали его Павел Степаныч, это было известно всем, кто хотя бы два дня провёл на бастионах в прикрытии.
Вице-адмирал Новосильский был на четвёртом бастионе с самого начала осады, как контр-адмирал Панфилов на третьем. Несколько генералов, как Семякин, Шульц, князь Урусов и другие, в разное время ведали разными участками линии обороны; Нахимов же появлялся везде и почти ежедневно.
Он как-то сросся со всей обороной Севастополя, плотно сросся с батареями, редутами, арсеналом, портом, судами в бухтах, матросами у орудий, солдатами в блиндажах и на банкетах, с двухэтажным домом в начале Екатерининской улицы, в котором жил и где был его штаб, наконец, со своим серым коньком, который вынес его из неразберихи после взятия Камчатки французами…
Казалось всем, что его-то именно, Павла Степановича Нахимова, оторвать от всего этого никак нельзя. Севастополь без Нахимова – это как-то не вмещалось ни в чьё сознание…
И, однако же, в конце июня остался без Нахимова Севастополь.








