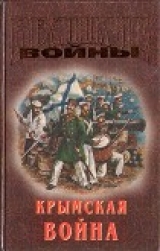
Текст книги "Крымская война"
Автор книги: Сергей Семанов
Соавторы: Сергей Сергеев-Ценский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 49 страниц)
1-го июня, в половине осьмого часа утра, мы имели несчастие лишиться любимого нами капитана: он умер от ран. Врачи предвидели его смерть, потому что раны не представляли возможности к залечению их, несмотря на все средства и усилия.[...]
Печальное известие о его смерти немедленно было передано генералу, и он прислал своего адъютанта уверить нас, что все наши желания касательно отдания последней почести его праху будут внимательно исполнены. Сначала мы полагали, что, по причине карантина, похороны будут иметь характер домашний: но генерал изъявил желание публично выразить своё уважение к капитану, который мужеством своим снискал уважение врагов, и потому определено было, что погребение будет совершено со всеми почестями, подобающими званию покойного, и даже генерал изъявил готовность одобрить все распоряжения, какие мы сочтём приличными такому случаю.
У нас был с собою белый флаг, который мы хотели употребить вместо покрова, как это обыкновенно делается в честь офицеров такого звания. Генерал сначала согласился, но потом прислал к нам адъютанта просить, чтобы мы отменили этот обряд, потому что войскам неприятно будет сделать три залпа из ружей в честь капитана, если они увидят английский флаг: конечно, мы согласились, во внимание к такой народной антипатии.
Начальство прислало нам красивый гроб, поставленный на дроги, в четыре лошади. По причине дурной погоды погребение было отложено ещё на один день, и во всё это время стоял у дверей почётный караул, по приказанию начальства, с ружьями, опущенными вниз. Генералы и офицеры войск, расположенных в Одессе, приезжали проститься с покойным.[...]
Рассказ рядового Московского пехотного полка
Павла Татарского
«Отправились мы в десять часов из Севастополя: я, и жандар, и полицейский служитель Гульф, и мальчик адъютанта княжеского. Было с нами бельё какое шёлковое князя, припас съестной разный: табак, цыгары, белый хлеб, ну, а бумаг, чтоб так важных, нету. Стали мы подъезжать к Алме, когда попался объездной верхом, и мы спросили его:
– Что там делается?
Он нам сказал:
– Всё палят ещё.
Немного отъехавши, попадается солдат: идёт, опирается на ружьё – раненный в ногу. Я спросил его:
– Где наша позиция?
Он сказал мне:
– На старом месте.
Мы спустились в лощину – не видать и не слыхать ничего было уже, потому: – прекратили пальбу. Только же поднялись на гору, увидали войско в красных штанах и хотели поворотить назад. Тут бросились человек двенадцать верхами французских артиллеристов, догнали и окружили фургон. Но жандар Павел Кох, невзирая, что двенадцать человек, выпалил из пистолета и попал одному в правое плечо, но они обратно стреляли в нас, и Коха ранили в двух местах, на что он, невзирая на то, ещё раз повторил. Мальчику попало в правую щёку и расшибло язык, полицейского служителя Гульфа контузило, а меня Бог спас. Подъехавший офицер французский не приказал им более палить, где они взяли, заворотили лошадей и повели к своим палаткам. Там посадили всех трёх вместе и приставлен был большой караул. Только же на другой день поутру, в пять часов, взяли служителя Гульфа в палатку к главнокомандующему, кой и стал опрашивать:
– Сколько находится в Севастополе войска?
Но он отвечал ему:
– Я не знаю, так как я полицейский служитель.
Но он спросил его:
– Кто находится с тобой?
– Я ничего не знаю, а тут есть писарь Меншикова, тот всё знает.
Взяли его и отвели в другую палатку, а не пустили к своим. Потом потребовали меня и вдруг генерал, Чарторыжский, кажется, говорит:
– Здравствуйте, – благороднейшим образом начали обращаться: – вы писарь Меншикова? Я вас, батюшка, не хочу больше спрашивать: вы должны мне сказать сущую правду. Так как вы благородный человек, так вы должны сказать мне правду, я вас могу отпустить домой, в Севастополь. Сколько находится у вас войсков в Севастополе?
Но я сказал ему, что я писарь по домашней части князя Меншикова, но не военный. – «Я об этом не могу знать, ваше превосходительство».
– Что ж ты, братец, меня обманываешь! Ты не хочешь мне сказать? Я прикажу тебя, братец, расстрелять! – грозным образом сказал, и не стал больше разговаривать.
И взяли меня конвоем и отвели в другую палатку. Но я не очень этого испугался прежде. Через полчаса приходит переводчик – офицер, только видно, что он из поляков, и сказал мне:
– Если вы не скажете правды, так вас чрез два часа расстреляют.
Тут я очень крепко испужался.
Через два часа точно опять потребовали меня в палатку, и начали мне угрожать расстрелом; вывели вон и приказали зарядить ружья, при коем три человека зарядили ружья патроном, при моём видении. Он стоял в палатке и сказал:
– Погодите, мне не время: отведите его опять в палатку.
Гляжу, чрез час приводят ко мне жандара и посадили его в другой угол палатки, и поставлен был промеж нами часовой, чтобы не переговаривали. И жандар сказал мне, что меня расстреливать будут, а о себе сказал, что он уже две раны получил, так и третью уже пущай, чтоб троица была, потому – без троицы и дом не строится: пущай застрелют. Приходит опять переводчик; жандар попросил у него хлеба, но он ему показал пальцем наверх, на небо: «вот где вам хлеб»! По прошествии же двух часов был я опять потребован в палатку, в третий раз, где главнокомандующий принял меня ласковым образом, и сказал мне:
– Не бойся, братец, я стрелять тебя не буду; скажи ты мне всю сущую правду. Я чрез три дня Севастополь возьму, и тебя пущу.
Но я ничего не хотел ему ответить, так как и знал, но ничего не сказал, а только:
– Не знаю, я писарь домашней части.
И спрашивал меня:
– Нет ли где мин под Севастополем, и как укреплён Севастополь?
Но я ему сказал, что «я недавно из Петербурга приехал». И он, в размен того, берёт со стола красное яблочко и даёт, и сказал мне:
– Вы отправитесь на фрегат, и пробудете три дня; мы пойдём, Севастополь возьмём, и вы будете в Севастополе.
Все мы были взяты на фрегат: я и жандар, и полицейский служитель, и отправили нас в Костянтинополь. Привёзши в Костянтинополь, сдали под владением турок в турецкий лазарет. И у турок находились двадцать два дня. Только я расскажу тебе, каково, брат, у турков жить. Чёрные эти, проклятые арапы, плевали нам в глаза, даже намеревались меня раз ножом зарезать в коридоре, и что даже неоднократно случалось – были мы обороняемы турецкими часовыми, турками же. Но я ужасно боялся этого, что будет: нас тут зарежут. Потом взяли на фрегат... Ну, теперь, слава Богу, хоть попались к французам! Я рад, хоть вырвался от них.
Я спросил его: – А каково здесь, брат, содержат?
Но он мне сказал: – Очень скверно.
Пищу варят одну кашицу с салом (сарачинская крупа), один раз в сутки, что и я тоже употреблял двадцать пять дён на этом фрегате. Вот тут пошла жисть-то наша варварская! Греки ещё оказывали какую помощь, только тайным образом, а с фрегата с этого нас никуда не пущали: часовые стояли на всех окошках, день и ночь. Ну, тут мужиков наших навезли пять человек. Они с Севастополя отправлены были в Орловскую губернию; только же на дороге взяли их татары, поснимали халаты, и сдали французам; а уж французы отправили в Костянтинополь, где они и содержались на фрегате. Прожив дней десять, подходит ко мне лезгуав и говорит мне:
– Русь! Севастополь Франсе при[30]30
Т.е. взяли французы.
[Закрыть], дизвют канон будет (значит, будет пальба из восемнадцати орудий).
И точно, в шесть часов вечера палили. От этого у нас сердце облилось кровью, даже мы все почти не ужинали. Но тут дней через пять, с 24-го октября при Чёрной речке, привезли человек двадцать легкораненых, пойманных в траншее, где они завалены были мёртвыми, что чрез людей нельзя было приколоть, а более все Минского полка, и прямо к нам на фрегат. Привезли их часов в семь вечера. Мы спросили:
– Отколь вы?
– Под Чёрной речкой дрались.
– Что, Севастополь взяли?
– Нет.
– А здесь, брат, и пушечная пальба была, что взяли Севастополь.
– Врут они, не верьте им!
Во время события моего на фрегате, случилось тоже в один вечер: солдат Бородинского полка, 3-й карабинерной роты, из евреев, в десять часов вечера был сговорён с мужиком бежать с фрегата. Солдат скинул с себя всё, спустил скамейку, и мужик отправился за ним; солдат уплыл, но мужик, убоясь воды, через четверть часа закричал, и его французские солдаты вытащили вон, и спрашивали: «а где солдат»? Но он сказал, что «он уплыл». Этого мужика посадили в призон[31]31
Собственно призон (prison) означает тюрьму, но прибывшие из Тулона наши военнопленные означают этим именем всякое место заключения или ареста, хотя чаще придают ему значение каземата. – Прим. Сок.
[Закрыть] на восемнадцать дней, а про солдата до сих пор и не чуть, где он. Но я ещё могу вам объяснить, что мы раз сбунтовались, не стали употреблять их пищи, потому – она была очень скверна, и требовали генерала. Командир фрегата, французский офицер, приказал зарядить ружья, и у каждого имелся пистолет, в особенности у лезгуавов, и приказал запереть нас всех в нижнюю каюту, в тёмное место, и не приказал никому с места вставать. После чего стал с заряженным пистолетом ходить лезгуав, и курки взведены; а суп стоит средь фрегата – никто не кушает. Вот страсть-то была! По прошествии часа два, сказали нам:
– Ступайте обедать. Я завтрашний день сварю вам с говядиною и пошлю сейчас записку к генералу.
Мы тогда взглянулись друг на дружку и пошли обедать. Как сказал: «дюме, дюме»[32]32
Т.е. «завтра, завтра». – Прим. Сок.
[Закрыть], с тем и уехали мы с фрегата этого, что «дюме». Нас восемьдесят один человек отправили 1-го декабря во Францию.
Посадили нас на праход «Милон» – небольшой праход, маленький, и отправились мы в Дарданельский пролив, первый, в коем я видел отлично устроенные батареи по обеим бокам и гошпитали – французский и английский гошпитали, под флагами: у англичана красный, а у француза синий. Опосля приехали мы в Мальту, в коей нагружались трое суток углями, где не выпускали нас из каюты на палубу. Простоявши, мы отправились в Белое море и проходили мимо огнедышащей горы. Она, точно, бьёт клубом, и не то, что огонь выбрасывает, а так – алое пламя, всё бьёт, бьёт. Остров, на коем она находится, небольшой, как дом, стоит среди моря. На пути приехали в прекрасный италический город Мещину[33]33
Мессина.
[Закрыть], в коем являлись и привозили на лодках нам пельсины, лимоны (десять копеек ассигнацией) десяток, прямо с дерева); сады чудеснейшие, но покупать нам не давали, а французы все покупали. Простоявши двое суток, отправились в Средиземное море, где, проехавши ещё сутки, поднялась сильная погода, но такая погода, что волною забивало каюту, чрез борт хлестала вода; и так продолжалось сутки. И у нас сделалось кружение в голове, была сильная с нами рвота, и двое суток не могли употреблять пиши, и говорили, что правда – «кто на море не бывал, тот Бога не маливал». Так волна и зыблется, что не можно пройти по палубе никому; кабы не матрос, и меня в море бы снесло, потому – праход низенький, коммерческий, только по орудию по бокам, и то на военное время, – а тут волной выкидывает. И на пятый день подъехали в восьмом часу утра к французскому городу к Тулону, где были часов шесть на воде, не более.
Тулон – это ссыльный город, так, как Сибирь: всё больше арестантов ссылают. Ну, тут сейчас приехали за нами шесть человек жандарм, ссадили нас на лодку и отправили на берег, где я видел – отличнейшая стройка кораблей. А как высадили нас на берег, набежали со всех сторон французы: военные и цывильные, женский пол и мужчины, и все нам кричали:
– Русь, Русь, Русь.
С набережной поставлены были человек восемьдесят конвою, и отправлены мы были в крепость на высокую гору. Стали подходить к крепости, обрытой канавою, с подъёмным мостом, двумя железными воротами: и посадили нас в подвал, в тёмное место: свету – одна решётка, и та сажня три вверху; вокруг под всею крепостью по обеим сторонам пороховые погреба, и мы по этим-то погребам и сидели. Как пустили нас, так сейчас и заперли; потом часа уже через два принесли параши[34]34
Большие чаны для склада всяких нечистот.
[Закрыть], в аршин и в два ширины; но постлать, и в голову – нам, по-военному, одна шинель, а полы каменные. Поутру в девять часов отперли, но пищи восемь дней никакой не было, кроме белого хлеба, фунт с четвертью в сутки, – там чёрного не едят. По прошествии же восьми дней, ещё прибыли сорок человек, когда только на другой день сварили нам французский суп, об котором я вам скажу: положено капусты два кочня, белой с серой, четыре моркови, пять реп, фунтов пятнадцать, полагаю, ослятины, и
был дан котёл, в котором варили ослятину. В котле этом сварить можно пять чашек, так как полагать надо – на тридцать человек, а десять чашек стоит воды тут же. Ну, как вынут ослятину, нальют в чашку бульону, а на место его льют чашку воды в котёл; потом вскипит – отливают опять бульон в чашку, а в котёл опять наливают свежей холодной воды и опять кипятят; и так это пять раз кипятили чистую воду, потому ослятина уже вынута. Стали мы собираться к обеду, налили нам бульон, подходят французы и говорят:
– Что, Русь, бона, бона?
Что значит: хороший суп?
А мы отвечали «па бона» – значит, плохо.
И спрашивают «дюпе бона»[35]35
Т.е. «хлеб хорош?» – Прим. расск.
[Закрыть]?
Но мы отвечали «па бона»[36]36
Т.е. «не хорош!» – Прим. расск.
[Закрыть].
Потом, дней через шесть, ещё раненых пришло сто двадцать; но пища не прибавляется, находится в одинаком положении: один раз в сутки, только теперь одна половина обедает, а другая ужинает; стало, разбито по сто двадцати человек на каждый раз. Стали мы говорить, и просить ихнего начальства, но они нам сказали:
– Мы пошлём в Париж к императору, так он разрешит, и будет вам хорошо, потому – нам нельзя.
Потом дня через два приходит жандар:
– Кто хочет, ребята, на работу? – два франка[37]37
Два франка – это почти 50 коп. сер.
[Закрыть] в сутки и два раза пища.
Некоторые с самого начала пожелали охотой, от невольной пищи, и пошли на работу. Точно, пищу варили два раза, а положение всё одинаковое: бульон всё тот же, и ослятина тоже – с напёрсток, больше не будет, порция кажному. Проработавши восемь дней, солдаты стали просить за работу денег, но им сказали, что эти деньги вычитаются на одёжу и пищу, и выдали в руки по два су за день[38]38
Два су – это почти две с половиною копейки серебром. При этом нужно вспомнить дороговизну во Франции, где за три коп. сер. почти ничего нельзя и купить. Так, напр., небольшая булка, спеченная из муки и кукурузы, стоила 16 су – 20 коп. сер.
[Закрыть]. Но как голод, заставил и меня, хотя я и однорукий, ходить на работу; всё больше для того, чтоб пишу два раза потреблять на день; то одною рукою моею собирал мелкие камушки для бута (там, под канавою вороты – подземный проезд в крепость, так там бут бутят), и за работу, за трое суток, денег не получил, так и осталось за ними доселе.[...]»

Дума русского

Пётр Александрович Валуев
«Дума русского» П.А. Валуева (1814—1890) датирована 28 августа 1855 года – за день до этого успешный штурм союзниками Малахова кургана решил судьбу осаждённого Севастополя. Крымская война близилась к своему печальному концу...
I
Грустно... я болен Севастополем. Лихорадочно думаю с вечера о предстоящем на следующее утро приходе почты. Лихорадочно ожидаю, утром, принесения газет. Иду навстречу тому, кто их несёт в мой кабинет; стараюсь получить их без свидетелей, мне досадно, если кто-нибудь помешает мне встретиться наедине с вестью из края, куда постоянно переносится, где наполовину живёт моя мысль. Развёртываю «Neue Preussische Zeitung», где могу найти новейшие телеграфические известия. Торопливо пробегаю роковую страницу. Ничего! Если же есть что-нибудь, то не на радость. Так проходят дни за днями. Истинной жизни полминуты в день. Остальное время я жду этой полминуты или о ней думаю. Ко всему другому, кроме молитвы, сердце черствеет. Всему другому хочется сказать: теперь не время!
Мученик-Севастополь! Так назвал его на сих днях один из тех немногих, весьма немногих писателей наших, которых читать, которым сочувствовать можно. Эти слова глубоко заронились мне в сердце, как тяжёлая, железная истина. Мученик! Долго ли будут длиться его страдания? Неужели спасения нет, и муки должна неизбежно повенчать могила? Князь Горчаков говорит: «наши верки (воинские укрепления. – Ред.) страдают». Это значит, что нас приуготовляют к концу и что он близок, или, по крайней мере, что его считают близким. Эти слова не брошены даром, но даром пролита будет кровь Корнилова, Истомина, Нахимова и тысячи тысяч их сподвижников! Даром? Разве Севастополь Россия? Но разве там не сосредоточены теперь лучшие силы её, лучшая слава и лучшие надежды? Разве там не сходятся нити прошлого и грядущего и не решается вопрос, сделаем ли мы шаг назад, первый со времён Петра Великого?
Давно ли мы покоились в самодовольном созерцании нашей славы и нашего могущества? Давно ли наши поэты внимали хвале, которую нам
Семь морей немолчно плещут.
Давно ли они пророчествовали, что нам
Бог отдаст судьбу вселенной,
Гром земли и глас небес.
Что стало с нашими морями? Где громы земные и горняя благодать мысли и слова? Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши берега. Неприятельские армии безнаказанно попирают нашу землю, занимают наши города, укрепляют их против нас самих и отбивают нас, когда мы усиливаемся вновь овладеть отцовским достоянием. Друзей и союзников у нас нет. А если есть ещё друзья, то малочисленные, робкие, скрытные друзья, которым будто стыдно сознаться в приязни к нам. Мы отовсюду отрезаны, один прусский король соблаговолил оставить нам открытыми несколько калиток для сообщения с остальным христианским миром. Везде проповедуется ненависть к нам, все нас злословят, на нас клевещут, над нами издеваются. Чем стяжали мы себе стольких врагов? Неужели только одним нашим величием? Но где это величие? Где силы наши? Где завет прежней славы и прежних успехов? Где превосходство войск наших, столь стройно грозных под Красным Селом? Ещё недавно они залили своею кровью пожар венгерского мятежа, но эта кровь пролилась для того только, чтобы впоследствии наши полководцы тревожно озирались на воскресших нашей милостию австрийцев? Мы теперь боимся этих австрийцев? Мы не смеем громко упрекнуть их в неблагодарности, мы торгуемся с ними и в виду их не могли справиться с турками на Дунае. Европа уже говорит, что турки переросли нас. Правда, Нахимов разгромил турецкий флот при Синопе; но с тех пор несколько нахимовских кораблей погружено в море. Правда, в Азии мы одержали две-три бесплодные победы; но сколько крови стоили нам эти проблески счастья! Кроме их, всюду утраты и неудачи. Один Севастополь силён и славен, хотя в продолжении 10– ти месяцев над ним разрываются английские и французские бомбы. И о нём ныне говорят нам: «наши верки страдают!»
IIБыло ли с нами и сопровождает ли нас теперь благословение Божие? Мы все, царь и народ, усердно призывали Бога на помощь. В монарших воззваниях приводились тексты из Св. Писания; в отзывах разных сословий на эти воззвания выражалась уверенность в Божием покровительстве; архипастыри нашей церкви, при всех торжественных случаях, обещали нам победу над врагами. Но события доселе не оправдали архипастырских обещаний. Благословение Божие не знаменуется бедствиями. Напротив того, не должны ли мы видеть в наших неудачах испытание и наставление, свыше нам ниспосланные? Россия мужественно переносит испытание. Она безропотно напрягает к тому все свои силы, но внемлет ли она наставлению и извлечёт ли из него пользу?
Вопрос о причинах, объясняющих наши неудачи и нынешнее затруднительное положение нашего отечества, естественно возникает в сердце каждого русского. Он восстаёт перед нами при каждой новой вести о постигающих нас бедствиях, он терзает нас, когда мы слышим торжествующие клики запада. Можем ли мы и должны ли мы уклониться от рассмотрения этого вопроса? Разве нам запрещено мыслить? Духовная сила мысли, свыше нам данная, не есть ли одно из орудий служения Престолу и отечеству? С верноподданническою покорностью преклоняясь пред волею царскою и беспрекословно повинуясь установленным ею властям, мы, однако же, не утратили права любить отечество свободною любовью и быть преданными своему государю, не по указу, но искренно и непоколебимо, по родному и родовому чувству преданности и по сознанию своего долга перед Богом. «Грядёт часть и ныне есть, – глаголет Господь, – егда истинни поклонницы поклонятся Отцу духом и истиною, ибо Отец таковых ищет поклоняющихся Ему» (Иоанна, IV, 23). Православные русские государи помнят эти слова Св. Евангелия и сами желают, чтобы их верноподданные служили им и России духом и истиною.
III
Зачем завязали мы дело, не рассчитав последствий, или зачем не приготовились, из осторожности, к этим последствиям? Зачем встретили войну без винтовых кораблей и без штуцеров? Зачем ввели горсть людей в княжества и оставили горсть людей в Крыму? Зачем заняли княжества, чтобы их очистить, перешли Дунай, чтобы из-за него вернуться, осаждали Силистрию, чтобы снять осаду, подходили к Калафату, чтобы его не атаковать, объявляли ультиматумы, чтобы их не держаться, и прочая, и прочая, и прочая! Зачем надеялись на Австрию и слишком мало опасались англо-французов? Зачем все наши дипломатические и военные распоряжения с самого начала борьбы были только вынужденными последствиями действий наших противников? Инициатива вырвана из наших рук при первой сшибке, и с тех пор мы словно ничем не занимались, как только приставлением заплат там, где они оказывались нужными? Не скажет ли когда-нибудь потомство, не скажут ли летописи, те правдивые летописи, против которых цензура бессильна, что даже славная оборона Севастополя была не что иное, как светлый ряд усилий, со стороны повиновавшихся, к исправлению ошибок со стороны начальствовавших? На каждом шагу события опровергали наши предположения и оказывались столько же «неожиданными», сколько оборот дела при р. Чёрной, о котором князь Горчаков говорит в своей реляции. Эта неожиданность продолжается уже свыше двух лет. Сколько шума было в России о взятии парохода «Первас-Бахри», о взятии гюйса с севшего на мель и сожжённого парохода «Тигр» и в особенности о прапорщике Щёголеве и Щёголевской батарее! Предусматривали ли тогда, что скоро окажется столько Щёголевых в Севастополе? Когда оценили мы Бомарзунд и обеты его коменданта, когда начали вооружать и чем вооружали Свеаборг, Ревель, Ригу и Динаминд, когда принялись за укрепление самого Севастополя, когда двинули в Крым сперва одну дивизию, потом две, потом один корпус, потом другой? Неужели Керчь и Азовское море должны были так внезапно и так легко достаться в руки неприятеля? Неужели Анапу надлежало так внезапно признать развалившеюся турецкою крепостью, и имя генерал– адъютанта Хомутова должно было столь неожиданно исчезнуть вместе с нею и с его отрядом из круга наших реляций?
В исполинской борьбе с половиною Европы нельзя было более скрывать, под сению официальных самохвалений, в какой мере и в каких именно отраслях государственного могущества мы отстали от наших противников. Оказалось, что в нашем флоте не было тех именно судов, в сухопутной армии того именно оружия, которые требовались для уравнения боя; что состояние и вооружение наших береговых крепостей были неудовлетворительны; что у нас недоставало железных и даже шоссейных дорог, более чем где-либо необходимых на тех неизмеримых пространствах, где нам надлежало передвигать наши силы. Европу колебали, несколько лет сряду, внутренние раздоры и мятежи; мы наслаждались ненарушимым спокойствием. Несмотря на то, где развивались в продолжение этого времени быстрее и последовательнее внутренние и внешние силы?








