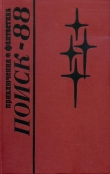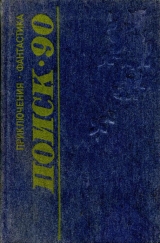
Текст книги "Поиск-90: Приключения. Фантастика"
Автор книги: Сергей Щеглов
Соавторы: Андрей Мешавкин,Леонид Бекетов,Евгений Филенко,Юрий Уральский,Юрий Попов,Владимир Киршин,Лев Докторов,Евгений Тамарченко
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Так и оказалось: этот дом был целью их пути. Баранова ввели в грязную прихожую, помогли снять плащ и повели по шаткой деревянной лестнице на второй этаж.
– Гордись, – шепнул ему Хмель. – Ибо сейчас ты узришь Пророка.
Замирая от волнения и почтения, Баранов одолел верхние ступени лестницы и застыл на пороге второго этажа.
Второй этаж был большим, светлым деревянным залом, уставленным горшками с растениями. Обшивала его деревом, видимо, бригада шабашников и, видимо, недавно: на голом полу валялись стружки, гвозди, занозистые обрезки дерева и окурки, а в углу скромно стояло несколько пыльных зеленых бутылок из-под портвейна. Пахло свежей стружкой. Мебели в зале практически не было никакой – видимо, секта была еще недостаточно богата, чтобы позволить себе такую роскошь, и если бы не Пророк, придававший залу очень жилой вид, здесь было бы глухо, холодно и неуютно, как во всяком безмебельном помещении.
Пророк сидел в центре зала, под пальмой в горшке, на большой подушке, и ел виноград. Облик Пророка был не совсем таким, каким представлял себе доселе пророков Баранов. Это был маленький толстый человечек в майке, совершенно лысый и небритый. Не обращая внимания на Баранова, он захватывал горстями виноград с огромной тарелки и, сопя и стеная от наслаждения, пожирал его. По небритому подбородку Пророка стекал сок.
Хмель отделился от Баранова и подошел к Пророку. Он наклонился к его уху и стал тому что-то шептать. Сначала Пророк не хотел слушать Хмеля и все пытался затолкнуть ему в рот полную кисть винограда. Но Хмель покорно прожевывал виноград и снова начинал шептать. Наконец Пророк кинул в рот последнюю ягоду и маленькими, хитрыми, страшно пронзительными глазками поглядел на стоящего в углу Баранова. Тот с почтением подошел. Внезапно Пророк поднял свою мокрую от винограда пятерню и уперся Баранову в лицо толстыми, короткими, холодными и сладкими пальцами. Баранов обомлел от неожиданности. Тогда Пророк, качнувшись вперед, всей пятерней толкнул Баранова в лицо, несильно, но так, что не ожидавший этого Баранов полетел на пол и, очутившись на полу, услышал добрый густой голос Пророка:
– Наделяю тебя бессмертием!
– Это… что такое за отношение?! – спросил удивленный Баранов, сидя на холодном деревянном полу.
Тут раздался густой, утробный хохот Пророка. Видимо, его очень позабавило обиженное выражение на лице Баранова, и он трясся от хохота, тыча в Баранова толстым пальцем. Хмель мелко, угодливо хихикал, вторя ему.
Баранов, раздосадованный, поднялся с пола, сбежал с лестницы, молча вырвал свой плащ из рук Тополя, на прощание прошипел ему: «Что он у вас, юродивый, что ли?!» – и вышел, хлопнув дверью.
Выйдя от Пророка, Баранов немного постоял на улице, мотая головой, чтобы в ней улеглись необычайные впечатления дня, и привычной дорогой пошел домой, усмехаясь своим приключениям.
Привычная же его дорога лежала снова мимо храма АА, и Баранов вспомнил это только тогда, когда поравнялся с его черным кубом. Вспомнив это, Баранов в нерешительности остановился, ибо сегодня, да и в ближайшие дни и месяцы после сегодняшнего инцидента, ходить ему возле храма АА не рекомендовалось. Однако, потоптавшись на месте, Баранов беспечно махнул рукой – авось пронесет! – и быстро пошел вдоль страшного здания.
Пройдя больше половины храма, Баранов услышал за собой шаги и проклял себя за беспечность. Оглянуться он не осмеливался и только пошел еще быстрее. Шаги сзади тоже убыстрялись. Тогда Баранов перешел на бег, но преследователи бежали быстрее его, и вскоре ему пришлось обернуться, готовясь к схватке. К его удивлению, преследовали его не люди в черной форме АА – это были трое мужчин в штатском, с весьма благожелательными лицами. Один из них, задыхаясь от быстрого бега, протягивал Баранову его портфельчик, оставленный им в схватке у храма.
– Не бойтесь нас, – говорил он, показывая на храм АА. – Мы не оттуда. Мы только хотели спросить вас: это не ваше? Тут оставили…
Баранов облегченно вздохнул, расслабляясь.
– Мое, мое, – радостно сказал он. – Вот спасибо! Я оставил.
– Ну так берите!
Баранов взял свой портфельчик и спокойно отвернулся от мужчин в штатском, чтобы проверить, все ли там на месте. Он успел расстегнуть замок и заглядывал внутрь, когда страшный удар в спину поверг его на землю. Он увидел – снизу вверх – совершенно изменившиеся, злобные лица людей в штатском и ножи, блестевшие у них в руках. У одного нож был окровавлен. «Это он мне… в спину…» – несвязно подумал Баранов, и тут еще два ножа вонзились в него – один в горло, другой в живот, и через растущий гул в ушах Баранов услышал:
– Отправляйся к своему Христу, паскуда!
Больше Баранов ничего не видел и не слышал, охваченный последним восторгом души, ибо последние блюда на пиру ощущений – слаще всего, и потом – диким, страшным и нечеловеческим восторгом единения со смертью и полета через вечность.
* * *
Очнулся Баранов на тех же камнях тротуара, голова его кружилась от страшных впечатлений и воспоминаний, и он не сразу осознал, что жив. Когда он это осознал, повернулся на бок и встал, елозя в липкой, холодеющей крови. Боли не было, тело было таким же, как и раньше. «Чья же это кровь?» – подумал Баранов, изогнув руку за спину, куда вонзился первый нож. Пиджак был порван. «Значит, моя, – со страхом подумал Баранов. – Я умирал, я это точно помню. Это Пророк!» И он понял, что странный Пророк маленькой секты и в самом деле подарил ему бессмертие.
Шатаясь, Баранов подобрал валяющийся рядом портфель и пошел домой, пугая прохожих диким своим видом. Придя домой, он рассказал жене о том, что случилось.
В один из дней следующей недели Баранов сидел на балконе на последнем этаже своего девятиэтажного дома и разгадывал кроссворд. Вернее, его домашние думали, что он разгадывает кроссворд. На самом деле он не глядел в журнал, а вспоминал момент своего единения со смертью. Да, это было страшно! Но был в этом и некий восторг, выше которого не может быть на земле. Баранов не мог забыть этого момента, снова и снова прокручивая в памяти сладостный и головокружительный полет в леденящий холод мира. «Да, – думал он. – Ничего не скажешь, острое ощущение».
Никто, однажды испытавший смерть, не выходит назад, в этот мир, таким, каким он был. Что-то изменилось и в сущности Баранова. Все дни после своей смерти он жил, болезненно и неустанно вспоминая ее поцелуй. Баранов не мог признаться себе в этом, но он тайно мечтал испытать его снова. Он понимал, что в этой мечте есть нечто порочное, и инстинкт самосохранения хранил его, но Баранов не мог бороться с прекрасными воспоминаниями и только слабо сопротивлялся им. И, конечно, они победили – ибо так всегда бывает у людей. У богов, возможно, не так, они могут оторваться от бывшего и голым «я» уйти в небо, и так становятся богами из смертных.
Жена Баранова, смотревшая в комнате телевизор и поглядывавшая время от времени на сонную фигуру мужа на балконе, увидела через балконное стекло, что муж вдруг резко поднялся, далеко бросил журнал и со странной улыбкой проследил за его падением, а потом и сам начал осторожно переваливаться через перила балкона. Она застыла в оцепенении, а затем в ужасе бросилась к балконным дверям и стала дергать их, крича. Тем временем Баранов совсем перевалился через перила и с диким воплем оттолкнулся от балкона. Этот вопль продолжался несколько секунд, завершившись сочным, мокрым шлепком его падения. Услышав этот шлепок, жена Баранова обхватила голову руками и завизжала, зажмурившись, пугая детей.
Через несколько минут раздался скрежет ключа в замке. На пороге стоял Баранов. Он немного дрожал, как после душа, пофыркивал и поводил плечами. Глаза его горели. Ни слова не сказав жене, он широкими шагами подошел снова к балконной двери и начал ее открывать.
– Нет, – завизжала жена, преграждая ему путь. – Не пущу!
– Пусти, – бормотал Баранов. – Так надо.
– Толя! Ну что ты делаешь? А вдруг ты не оживешь?
– Оживу, – с безумной улыбкой сказал Баранов. – А если и нет – игра стоит свеч!
Весь этот день Баранов только тем и занимался, что шмякался с балкона. На службу он не пошел. Жена же его занималась главным образом тем, что не пускала на балкон маленьких детей, которым сразу же захотелось делать то же, что и папка. Самого маленького она все же не устерегла и поймала в последнюю минуту, в воздухе.
Когда семья села ужинать, Баранов, видимо совершенно оглушенный, пришел домой, лег на диван и стал блаженно смотреть в потолок.
– Ах, Маша… – вздыхал он. – Если бы ты знала, какая это роскошь.. Смерть! Нет, вы не знаете. Земные черви. Мне жаль вас.
– Толя, – сказала жена отсыревшим за день плача голосом. – Ну хоть поешь. И не надо больше этого… я тебя прошу. Есть в этом что-то нехорошее… я чувствую!
– А! – встрепенулся Баранов. – Ты ревнуешь меня к смерти!
– Боже, какая чушь. Ну поешь, Толя. Тебе надо есть.
– Ничего, – саркастически сказал Баранов. – Я не умру от голода.
Вдруг глаза его зажглись.
– Умереть от голода, – сказал он с энтузиазмом. – Так я еще не пробовал.
– Нет! – вскричала жена. – Это слишком долго… и мучительно.
– Да… ты права, – с сожалением согласился Баранов. – Это слишком скучно. А вот скажи-ка мне… у нас есть бензин? Спички на кухне…
Жена Баранова снова заплакала.
На работу Баранов ходить перестал, потому что все рабочие инструменты вплоть до кульманов интересовали его теперь только как орудия членовредительства.
Откуда-то он припер канистру серной кислоты и теперь по ночам на кухне стопками опочинивал ее со зверским кряканьем. Жена уговаривала его, чтобы он в виде компромисса пил хотя бы метиловый спирт, потому что соседи могут подглядеть эти оргии и донести, что Баранов замаскированный инопланетный шпион.
Эта идея Баранова заинтересовала. На следующее утро он исчез, оставив записку, что пошел сдаваться в КГБ, но ничего им не скажет. Что там с ним творили, одному богу известно, и Баранов об этом не рассказывал, но через месяц он явился домой совершенно осоловевший и два дня подряд не кончал с собой, а только лежал на диване, блаженно вздыхал и сладко щурился, глядя на потолок. Видимо, в КГБ наконец уразумели, что это провокация.
Работать Баранов не хотел. С трудом удалось его устроить в соседней школе преподавателем факультатива Культурного Суицида для подростков, но вскоре его уволили за разлагающее воздействие на учеников: скажем, зайдешь в учительскую, а там Баранов в петле висит.
После посещения КГБ кустарщина Баранову обрыдла. Теперь он прилежно сидел в библиотеке, изучая литературу по гестапо, по Берии, по инквизиции и по древнему Китаю (однажды в библиотеке у него так взыграла его страсть, что он при всех, в читальном зале, покончил с собой маленьким сапожным ножиком, всех перепугав). И новые и новые виды смерти, совершенно невиданные до сего дня, изобретал для себя он, дабы каждый раз врезаться в холод мира под другим углом.
Постепенно глаза его приобрели маниакальный блеск, он похудел, и руки у него стали дрожать. Смерть стала для него настоятельной потребностью, как сон и еда. Без нее он не мог уже жить, она была единственным смыслом его жизни, и мало-помалу жизнь по сравнению с ней стала казаться ему серой и скучной. Он благословлял Пророка, давшего ему такой чудный дар: каждый раз новый восторг небытия, полет сквозь вечность, сладкое головокружение, недоступное прочим земным червям.
Однажды за семейным ужином Баранов вдруг схватил со стола ножницы, всадил их себе в живот и распорол его, рассыпав свои кишки по обеденному столу.
– А-а… – бормотал он, умирая. – Так японцы делают… Ничего, а, Маш?
Маша, бледнея, отвернулась.
– И это при детях! – закричала она, дождавшись, пока непутевый ее супруг ожил. – Толя, я должна сказать тебе правду – ты становишься наркоманом!
– Ты просто завидуешь мне, – сказал благостный Баранов. (После очередной смерти у него бывала краткая эйфория, за которой он снова впадал в угрюмство.) – Ты, Маша, червь земной. Тебе это недоступно. Вот ты и завидуешь.
– Я не завидую, – сказала жена. – Толя! Ну посмотри на себя в зеркало – чему тут завидовать?! Ты ведь уже больше времени мертвый, чем живой. Опомнись, пока не поздно! Ты уже книг не читаешь! Ты совсем деградировал. Что тебя ждет?!
– Да ничего, – раздражился внезапно Баранов. – Чего тебе-то надо от меня?
Жена твердо ответила:
– Мне надо, чтобы ты пошел со мной к этому Пророку и попросил у него, чтобы он это с тебя снял. Не надо нам такого благословения!
– Еще чего! – фыркнул Баранов и для подкрепления сил стянул себе горло шнуром от настольной лампы. Вынырнув из небытия, он продолжал уже веселее и спокойнее:
– Да успокойся ты, Маша. Все нормально, уверяю тебя.
– Нет! – крикнула жена. – Не все нормально. Это твоя… наркомания – это грех! Это нехорошо, ты сам знаешь. Ты перестаешь быть человеком! Это противоестественно.
Баранов в раздражении встал и ушел из дому. Последними словами жена попала ему как раз на больное место. В глубине души он понимал: то, что он делает, действительно нехорошо и греховно. Он клял Пророка, понимая, что отказаться от его дара уже не в состоянии. Его страсть его уже почти засосала. И до вечера в страдании бродил он по городу, задумчиво бросаясь под колеса автомобилей.
И все-таки Баранов смог ночью собрать остатки своей воли, толкнул жену и сказал ей с мукой:
– Маша! Ладно… пошли завтра к Пророку. Черт с ним, с бессмертием. Только скорее… пока я не передумал.
На следующий день, в восемь утра, он оделся в безукоризненный черный костюм и вместе с женой вышел из дому, направляясь в Город Скрещения Путей. С утра он ни разу не умирал и теперь, отчаянно борясь со своим желанием, скрипел зубами, сжимал руку жены и постанывал. Жена понимала его состояние, жалела его и пыталась отвлечь разговорами. Несколько раз он чуть было не упал под трамвай, но Маша улавливала эти моменты, гладила его руку и умоляюще смотрела в глаза. Баранов подчинялся этому взгляду, потому что жену любил, и напрягал всю свою оставшуюся волю, чтобы не поддаться искушению. Но это было очень трудно.
Наконец они дошли до Города Скрещения Путей, и Баранов повел жену к тому переулочку, куда в свое время привели его Хмель и Тополь, члены секты Святодрева. Наконец Баранов нашел его и устремился к знакомому дому. Однако, дойдя до него и осмотревшись, с удивлением сказал:
– Маша! Это что-то не то…
Дом уже не был увит прекрасной листвою и цветами, ничто не прикрывало безобразия его потемневшего кирпича, и на двери была новенькая табличка: «Резиденция секты Метадиуретиков».
– Послушайте! – Баранов поймал за рукав пожилого буддиста в желтой рясе. – Что это за метадиуретики?
– Метадиуретики считают, – терпеливо объяснил буддист, – что весь мир образовался в результате Божественного Мочеиспускания.
– Тьфу! – плюнул Баранов, выпуская буддиста.
– Ага, – подтвердил сидящий на обочине митек. – Поганая секта, что и говорить. Тебе-то, браток, кого надо?
– Мне-то?.. А вот вы не знаете – тут раньше была секта Святодрева. Где она теперь?
– Дык, елы-палы, это ж попсовая секта была! Особенно Пророк у них был оттяжник.
– Да-а, это был браток, – подтвердил другой митек, мечтательно улыбаясь. – Он нас любил.
– Из «Белого солнца пустыни» наизусть шпарил, – сказал первый митек. – А бывало, высунется по пояс во-он из того окна… в одной майке… тычет в кого-нибудь из прохожих пальцем и орет: «А ведь это ты, Мирон, Павла убил!» И хохочет, заливается… И мы смеемся. А тот прохожий бледнеет и падает как подкошенный. Видать, и в самом деле убийца, варнак – мало ли их по улицам ходит.
– Эх, сейчас бы супчику горячего да с потрошками… – ностальгически вздохнул второй митек, видимо, потеряв интерес к Барановым. Видно было, что митьки тоскуют по братку.
– А где они сейчас? – неспокойно спросила Маша.
– Дык вознесся.
– Вознесся?! – леденея, переспросил Баранов.
– Ну и рожа у тебя, Шарапов. Элементарно, Ватсон: живым на небо вознесся. Тут часто такое бывает.
– А может, он хоть заместителя оставил – или апостолов? – спросил Баранов.
Митьки захохотали.
– А ты простой, братушечка! Слушай, иди к нам! И сестренку свою бери. У нас хорошо. Мы оттяжники.
– Ну, как же насчет заместителя? – томился Баранов.
– Да, елы-палы: какой заместитель, какие апостолы? Учение свое оставил – и хватит с него. Было бы учение – апостолы найдутся. Как Митя Шагин наш.
– Митька, брат, помирает… – вдруг всхлипнул второй митек. – Ухи просит…
Баранов повернулся к жене. Губы ее дрожали.
– Ладно, Толя. Пошли домой. Ты у меня сильный… Ты и сам свое бессмертие одолеешь. Правда?
– Дык, елы-палы, – сказал Баранов, подражая митькам, с преувеличенной бодростью, но отводя глаза, и жена поняла, что нет, не одолеет.
Так, грустной, траурной парой, держась за руки, дошли они до города, не обращая внимания на веселую суету Города Скрещения Путей. Справа от них справляли свой праздник веселые тантрические буддисты, слева раздавался гул, как от реактивного самолета, и в небо устремлялась огненная струя – возносился очередной пророк; но они не замечали этого, один – томимый своей страстью, другая – печальная и тихонько всхлипывающая, и так наконец они вышли в большой город. Баранов сжал руку жене, как бы прощаясь, потом внезапно выпустил ее и, не оглядываясь, бросился под автобус. Остатки его воли кончились, и жена поняла, что назад пути нет.
Теперь Баранов, совсем отупевший и бессильный, живет один в специальном приюте, куда поместила его жена. Он все время лежит на полу у радиатора батареи и разбивает себе об этот радиатор голову. Когда он оживает, он разбивает ее снова, тупо, методично, – чтобы не оставаться в этом, теперь уже ненавистном ему мире. Так будет всегда.
Лев Докторов
ДОРОГА ДОМОЙ
Повесть
Глава перваяВрач отодвинул в сторону стопку разноцветных листков с данными анализов и хмуро посмотрел на Глеба.
– А ты меня, часом, не разыгрываешь?
– Цель?
– Кто тебя знает. В этом кабинете всякие пациенты побывали. И симулянты тоже. Ну-ну, не злись. Тут такая ерунда получается. Если верить вот этому, – он постучал по стопке, – у тебя организм восемнадцатилетнего мастера спорта.
– Стало быть, я тебя специально обманываю, чтобы угодить в психобольницу. – Глеб усмехнулся. – Ты, Витя, третий, к кому я обращаюсь. Двое предыдущих эскулапов говорили примерно то же самое. Но приступы мои существуют. Вот уже месяц, каждый день. И от общения с вашей братией они не исчезли.
– Хочешь, дам дельный совет? – Врач встал и, обогнув стол, остановился перед Глебом. – Бери отпуск. Поезжай к морю, загорай, купайся. И не смей думать о своей электронике. Она тебя подождет. Равно как и докторская. А еще, – он чуть помедлил, – постарайся все-таки выяснить насчет родителей. Может быть, там зацепка.
– Я же детдомовский, – проговорил Глеб. – В четыре года туда попал. Во время войны, – он поднялся. – А за совет спасибо. Пожалуй, и в самом деле возьму отпуск. Устал.
– Вот, вот, – оживился врач, – совершенно верное решение. Прямо сейчас и пойди к директору. Густав Янович – мужик добрый. А хочешь, я ему позвоню, сообщу, что восходящее светило его института нуждается в покое.
– Ты откуда нашего директора знаешь? – удивился Глеб.
– Не велик секрет. Мы с ним на корте мячи гоняем. Так позвонить?
– Не надо. Сам разберусь, – и Глеб вышел из кабинета.
Директор института неожиданно легко дал согласие.
– Куда ехать решили? – спросил он, подписывая заявление.
– Не знаю. Врач посоветовал к морю.
– Неплохая мысль, – Густав Янович улыбнулся. – Поезжайте к нам на Балтику. Хотите, адрес дам. Родственники. С радостью примут.
– Я подумаю, спасибо, – Глеб внезапно ощутил частые уколы в затылке. Он потер голову. – Вы позволите мне сейчас пойти домой? Я себя не очень хорошо чувствую.
– Конечно, конечно, – голос директора стал тревожным. – Вас отвезет Николай. Он как раз свободен и сидит в приемной. Скажите: я разрешил.
В машине Глебу стало совсем невмоготу. Тело покрылось липким холодным потом, откуда-то из глубины выплыл и заполнил голову низкий, басовый шум. Приближался приступ. Глеб едва успел подняться к себе в квартиру. Там он, не раздеваясь, бросился на диван и закрыл глаза.
…Огромное море плескалось перед ним. Оно было фиолетовое у берегов, а дальше становилось бархатно-черным. Волны мерно били в золотистые панели набережной, обдавая их фонтанами брызг. Из-за горизонта, рассеченное резкими контурами облаков, вставало голубое солнце.
Глеб испытывал странное ощущение раздвоенности. Руки его касались толстых ниток вязаного пледа, покрывавшего диван, затылком он чувствовал мягкий прогиб подушки, и вместе с тем видны ему были и море, и город, террасами спускающийся к берегу. Город с домами непривычной расцветки и формы.
Видение изменилось.
В черном пространстве кружились разноцветные спирали, странные геометрические фигуры. Зажигались и гасли искры звезд. Возник голос. Ровный, без интонации, точно неживой. Он нашептывал что-то ускользающее, непонятное…
Потом наступило забытье.
* * *
Было тихо и сумеречно. Слабо ныла затекшая рука. Отдыхая после приступа, Глеб лежал неподвижно, не раскрывая глаз. На Балтике сейчас хорошо, думал он. Буду валяться на пляже, а надоест – поеду собирать янтарь. Глеб представил себе, как идет вдоль кромки пенистого прибоя, иногда забредая в прохладную воду, наклоняется и находит янтарь. Он ощутил его у себя на ладони – прозрачный желтоватый кусок окаменевшей смолы с древней мухой посредине. Нет, не мухой, стрекозой. Большой зеленой стрекозой с черными глазами-нашлепками. Глебу удивительно захотелось найти такой камень. Он даже приподнялся и сел. Онемевшая рука безвольно упала на колено, и с раскрытой ладони что-то скатилось на пол.
Морщась от боли, Глеб нагнулся и пошарил внизу здоровой рукой. Но прежде, чем он поднес к глазам находку, его коснулось новое, неизвестное чувство. И почти без удивления посмотрел Глеб на зеленую стрекозу, пялившую на него глаза сквозь желтое марево янтаря.
Удивление пришло потом…
* * *
Глеб лежал на диване, а камень – на краю стола. Пепельница была забита окурками, сигарет больше не оставалось ни одной. Он потянулся к столу и взял янтарь в руку. На память пришел рассказ Уэллса о человеке, умевшем творить чудеса. У того все началось с керосиновой лампы.
«Чушь какая-то», – подумал Глеб и встал. Строго посмотрел на стрекозу. Таращится, проклятая… А что, если попробовать еще раз? Получится или нет? Только зачем мне янтарь? Сигарету бы…
Глеб представил себе сигарету, ее вкус. Он знал точно, какая ему нужна – «Золотое руно» московской фабрики «Ява». В последнее мгновение он вспомнил, что спичек тоже нет, и представил сигарету горящей.
Потом он протянул в пустоту руку, в глубине сознания надеясь, что все это обман и ничего не получится…
Что-то мягкое уперлось в его сжатые губы, а затем упало на пол. Горящая сигарета обожгла бы ладонь, подумал Глеб, нагибаясь. Об этом я не вспомнил вовремя.
Он затянулся так глубоко, что поперхнулся дымом.
Я не вспомнил, а кто вспомнил? Кто решил за меня, что вложить горящую сигарету в руку – больно? Что ей полагается быть зажатой в губах? Глеб хмыкнул. История удивительно напоминала сказку об аленьком цветочке. Только и отличия, что я не красная девица Настенька, да и чудовища что-то не видно. За диван оно спрятаться не может – места мало. Глеб потер лоб. Глупости все это. Сказка… Тогда что же с ним? Сигарета имела тот самый привкус, который ему нравился. Она догорела почти до конца, и вдруг, еще до того как Глеб осознал, чего он хочет, выскользнула из руки и, подлетев к столу, плавно опустилась в пепельницу.
Значит, я могу и это, подумал Глеб. Ему стало душно, и он сглотнул заполнившую рот слюну. Что же я еще могу? Он оглянулся по сторонам… По комнате скользил сизый дым от сигареты. Стоило подышать свежим воздухом… А что, если перебросить свое тело куда-нибудь? Оказаться сейчас… ну, хотя бы в парке.
Глеб зажмурился в ожидании… раздался высокий пронзительный звук, он ощутил вокруг себя быстрое движение и открыл глаза.
Невидимые в темноте ночного неба, шумели кроны деревьев, на скамейке, едва освещенной далеким фонарем, о чем-то шепталась парочка молодых людей, в стороне на танцплощадке играла музыка.
Глеб медленно побрел прочь.
Открывая дверь квартиры, он услышал телефонный звонок и успел схватить трубку.
– Слушаю…
– Простите, что так поздно беспокою, – узнал он голос директора института. – Мне сообщили, что у вас находятся материалы с расчетами для статьи Тихонова. Я попросил бы вас занести их в институт перед отъездом.
– Конечно, Густав Янович, обязательно занесу, – сказал Глеб.
Подойдя к столу, он вытащил из ящика пачку листов с расчетами и просмотрел их. А все-таки неплохая работа, в который раз похвалил он себя. И тут заметил ошибку… Он еще раз прочел написанное. Формула была выведена неверно, потому что по теории угнетенного поля… Какой теории? О чем я говорю? Я же ничего подобного не знаю!
Но со всей отчетливостью Глеб понял уже, что знает ее.
– Теория угнетенного поля, – проговорил он вслух, как на лекции перед студентами, – была открыта в 735 году 204 цикла двумя учеными: Конаргетом и Урмаланом. Через 85 лет дополнена и развита Туском. Все трое удостоены высшей награды народа – скульптурных портретов в Пантеоне Бессмертных…
Что-то случилось с сознанием. Глеб говорил слова, не понятные ему, но они тут же становились понятны. Точно стиралась грязь со стекла и явственным становилось ранее скрытое.
Глеб вспомнил лица трех ученых с непривычными именами. Он закрыл глаза и увидел Пантеон Бессмертных. Наконец он взял лист бумаги и одним росчерком пера написал формулу, учитывающую теорию угнетенного поля.
Потом сел и задумался.
Что же происходит? Что изменилось в нем? Он стал обладателем не свойственных человеку способностей. Мог мгновенно переносить свое тело в пространство, мог столь же легко передвигать любые предметы, не прикасаясь к ним, по его желанию из ничего возникли сначала кусок янтаря, затем сигарета. Он знал, наконец, совершенно иную физику, историю… Знал пока отрывками, но мог узнать все. Сознание как будто раздвоилось. Одна половина была привычная, земная, другая – тоже привычная, но… Так! Другая половина сознания тоже была привычной, но не земной.
Вот и определение.
Способности его, имена ученых, которых он вспомнил, были неземными. И теория угнетенного поля никогда на Земле не создавалась…
Глеб вспомнил вопрос знакомого врача о родителях.
Своего детства Глеб почти не помнил. Помнил лишь дымы над дорогами, дымы, застилавшие солнце. Черный снег и колючую проволоку. Помнил чье-то женское лицо, наверное мамы.
Глеб встал и подошел к окну. Город спал, лишь одинокие огни реклам подрагивали над крышами. Было часа два ночи…
А что, если попробовать задавать вопросы своей второй памяти, подумал Глеб. Может быть, она что-нибудь подскажет? Ну, например, так… Кто мои родители?
Память молчала.
Значит, надо изменить вопрос. Спросить вот что: откуда я? Где моя родина?
И ответ пришел.
Плеснули Глебу в глаза фиолетовые волны безбрежного океана. От набережной до самого горизонта уходили вдаль строения неизвестного города. Легкий ветер шелестел в багровых листьях деревьев. Пестрая толпа текла по улицам, а над ней проносились прозрачные шары летательных аппаратов. Цветовая гамма менялась, искрилась, складывалась и вновь распадалась, как в гигантском калейдоскопе. А над всем этим шло в зенит ослепительно голубое солнце.
Словно с птичьего полета видел Глеб эту землю… И чувство тоски, почти непереносимое чувство одиночества пришло к нему.
Надо ехать в детдом, решил Глеб. Попытаться выяснить, как я там появился.
Узнав по телефону, что ближайший нужный поезд уходит без малого через три часа, он заказал такси до вокзала. А потом, взяв папку с расчетами, несколько раз подбросил ее, точно взвешивая, и, присев к столу, начал писать.
* * *
– Послушайте, Чернов, – директор института раздраженно махнул рукой, – ваш рассказ наводит на мысль, что сегодня на дежурстве вы либо были в нетрезвом состоянии, либо спали.
– Да побойтесь бога, Густав Янович, – сторож насупился. – Трезв я был и не спал. Нельзя мне пить, врачи запретили. Поклясться могу, что папка эта будто сама на стол свалилась. И даже не свалилась вовсе, а появилась на столе. Я как раз прикуривал. Чиркнул спичкой, гляжу – а она лежит.
– Хорошо, – директор встал. – Вы можете идти.
А когда сторож вышел, он прошелся по кабинету, поглаживая бритый череп. Потом наклонился к селектору и, нажав кнопку, спросил:
– Как дела, Юрий Никитич?
– Все по-прежнему, – раздалось в ответ. – Первые два предложения читаются ясно: «Уважаемый Густав Янович, не удивляйтесь, получив это неожиданное послание. Решение задачи неверно, потому что…», а дальше идет совершеннейшая галиматья. Это даже не шифр…
– Ясно, – директор озабоченно вздохнул. – Ну, а как с самим Сажиным? Я посылал узнать.
– Был я у него, – отозвался в селекторе голос шофера. – Дома никого нет. Сосед говорит, что слышал, как машина подъезжала. Может, уехал куда.
* * *
В детском доме Глеба встретил директор, молодой парень с университетским значком на лацкане пиджака.
– Попробую вам помочь, – сказал он. – Хотя надежды почти никакой. Персонал нашего дома давно обновился. А архивы, – он пожал плечами, – ну какие архивы были в сорок четвертом? Одна забота – накормить, одеть, вылечить… Да вы лучше меня это знаете. Впрочем, подождите здесь, я взгляну на старые записи.
Минут через пятнадцать директор вернулся.
– Улов небогат, но кое-что есть. – Он помахал зажатыми в руке листами бумаги. – Тут адрес одной белорусской деревни, Гостино называется. Оттуда вашу группу, отбитых из детского концлагеря, партизаны через линию фронта перебросили. Поезжайте, порасспросите стариков. Как знать, может, кто-то и вспомнит.
* * *
Поездом, самолетом, снова поездом, потом машиной, а с нее пересев на телегу, добрался Глеб до места. В сельсовете его встретила секретарь.
– Вам в школу надо сходить, – посоветовала она. – Спросите там учителя физики Семена Игнатьевича Быстролета. Партизанил он в этих краях. Здесь и руки лишился. А теперь историю отряда пишет. Уж если кто знает, так он.
В новой двухэтажной школе, в учительской, Семен Игнатьевич Быстролет пил чай, наливая себе из самовара. Чашку он держал левой рукой, правый рукав пиджака был пуст и засунут в карман. Учитель сопел и отдувался, и лицо его, широкое и доброе, было полно такого удовольствия, что Глеб невольно улыбнулся.
– Не знаю, право, чем помочь, – сказал Семен Игнатьевич, звучно окая. – Я почти не занимался историей концлагерей. Удивительно, знаете ли, скудные материалы. Когда партизаны совершили рейд на детский концлагерь, они при отступлении подожгли его. Архив, понятно, сгорел. Концлагерь же для взрослых сами фашисты уничтожили. Даже бараки с землей сравняли.