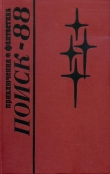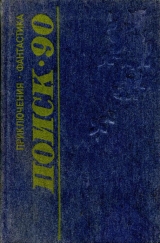
Текст книги "Поиск-90: Приключения. Фантастика"
Автор книги: Сергей Щеглов
Соавторы: Андрей Мешавкин,Леонид Бекетов,Евгений Филенко,Юрий Уральский,Юрий Попов,Владимир Киршин,Лев Докторов,Евгений Тамарченко
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Они скрылись в коридоре. Патрик скрипнул зубами:
– Кой черт дернул тебя катапультироваться?!
– А что?!
– Ты все испортил! Знаешь, что случилось? Космодром этот единственный на Аиде, и вот ты его выбрасываешь на орбиту. Ребята остались там, внизу, без связи, без транспорта!
– Я не хотел… Но что вы здесь делали? – подчеркнуто вежливо спросил Петров.
– Ничего, – Патрик отвернулся. – Теперь уже все равно.
Зашипел невидимый динамик, и громовой голос объявил:
– Товарищи Лоу и Петров! Приглашаем вас пройти в зал Отдела Безопасности, третий ярус, транспорт номер восемь! Товарищи Лоу и Петров! Приглашаем вас…
Патрик, не оборачиваясь, пошел вперед. Петров послушно двинулся следом.
В зале Отдела Безопасности их встретили два молодых человека, вежливых, очень спокойных и одинаковых, провели в кабинет.
Предупредительно усадили в мягкие кресла.
Вышли, плотно прикрыв двери.
Представитель Отдела не заставил себя ждать; он вошел с противоположной стороны и сел напротив, за столик, на котором стоял чайник и две маленькие чашечки; снял и стал не спеша протирать старомодные очки, явно выдерживая необходимую паузу. Однако, вопреки всем правилам, разговор начал один из приглашенных.
– Скажите, пожалуйста, почему космодром не катапультировался автоматически?! – спросил Петров.
Патрик покосился на него с прежним изумлением. Представитель кивнул, улыбнулся.
– Меня зовут Теодор Степанович, фамилия моя – Леруа, – сказал он, надевая очки. Видимо, он не торопился. – Автоматика парализуется даже средним дрязгом; люди же не сразу решаются прибегнуть к крайним средствам. Поэтому приходится использовать другие методы…
– Использовать?! – Петров приподнялся в кресле. – Что это значит?!
– Всему свое время. Сначала – с вашего позволения, конечно! – я хотел бы задать несколько вопросов товарищу Лоу…
– Я готов, – безразлично сказал Патрик.
– Как вы оказались в защищенном секторе космодрома, в нарушение существующих инструкций?
– Вследствие происшедшего дрязга.
– А чем был, по-вашему, вызван дрязг?
– Причины возникновения дрязгов, как и других феноменов, пока неизвестны.
– В таком случае, что вы скажете об этом вашем приборе?
Один из молодых людей отделился от стены и положил на стол остатки голубого аппарата. Потом придвинул и включил репликатор. Спустя минуту конструкция налилась желто-зеленым светом, и кабинет начал мягко покачиваться на волнах времени.
Леруа протянул руку, и сияние исчезло.
– Рекомендую хорошо обдумать свои слова, – сказал он, глядя Патрику в глаза. – Как видите, для нас не составило особого труда понять, что за аппарат лежал рядом с вами. Поймите и вы, Лоу: мы не ставим целью обвинить вас; наша забота – безопасность, а значит, скорейшее установление истины и порядка! Для возвращения космодрома на Аиду мы должны быть уверены, что подобное не повторится!
– Не могу этого гарантировать, – сказал Патрик устало. – Мы проиграли; но и вы не выиграли. На вашем месте я бы прекратил эту возню и разрешил бы вернуться все желающим. Можете не беспокоиться – улетит не более трети. Но вы этого никогда не сделаете, а значит, никогда не будете в безопасности. Потому что люди хотят свободы, и готовы работать ради нее. Нам уже кое-что удалось. И кто знает, что нам удастся еще!
– Вижу, – Леруа кивнул на аппарат. – Жаль, что вы применили это совсем не в тем целях!
Патрик пожал плечами.
– Значит, – продолжал Леруа, – вы отказываетесь вести разговор по существу?
– Не вижу смысла. Оставшиеся на Аиде решат все сами; вы же и так знаете больше, чем я.
– Вы можете помочь – и нам, и своим друзьям.
– Теперь уже нет.
– Вы вернетесь на Аиду нашим представителем. – Патрик удивленно поднял голову. – И возглавите конфликтную комиссию.
– Вот как? – Патрик усмехнулся.
– Вы сомневаетесь?
– Слишком поздно…
– Но вы согласны попробовать?
– Пожалуй. Хотя я врач, а не политик…
– Вот и прекрасно! Вы можете идти.
Молодой человек проводил Патрика до дверей и вышел вместе с ним. Петров остался один. Он неподвижно сидел в кресле, словно спал с открытыми глазами.
– Ну, вот и все, – сказал Леруа. – Поздравляю вас, Адольф, с завершением операции!
Короткая дрожь прошла по телу Игоря Сергеевича Петрова. Рот раскрылся, мутный взгляд прояснился. Вспомнив, кто он такой на самом деле, Петров печально посмотрел на своего шефа.
– Значит, все-таки Адольф… – пробормотал он. – Завершением? Разве мы этого добивались?
Леруа пожал плечами:
– Во всяком случае, ваше участие в программе на этом заканчивается. От лица Службы Безопасности благодарю вас…
– Моя роль, – медленно, сомнамбулически, что характерно при снятии психологической блокады, заговорил Петров, – сводилась к одному: катализатор. Мы договаривались, что моя задача – делать то же, что все, причем так, как будто нет у меня всех этих моих «способностей»… – Он усмехнулся. – Для этого и психологическая маска. Но именно в этом направлении я ничего не сделал!
– Но вы сделали главное – не дали событиям принять необратимый характер!
– Это – чистая случайность!
Леруа спрятал улыбку.
– Я должен был сделать совсем другое, – продолжал Петров. – Моя задача была понять, что происходит на Аиде, а не дублировать вашего суперагента Птицына-Доула!
– Вот как?
– Да! Но я не знаю вашей точки зрения, мне трудно объяснить все это…
– Наша оценка проведенной операции такова, – Леруа откинулся в кресле, с любопытством поглядывая на Петрова. – На Аиде готовился и был проведен захват космодрома с применением новых технических средств. Благодаря вашему вмешательству он не привел к необратимым последствиям.
– Все правильно. И все неправильно! – Петров встал и зашагал по кабинету. – Они на Аиде хотят одного: работать! Но работать-то невозможно, я сам пробовал! И этот пункт в контрактах, полное выполнение работ до отлета, форменное издевательство! Улететь невозможно! Как бы ни было для нас важно исследовать Аиду, подобные крайности – бред! Что бы стали делать вы, Леруа, окажись вы сами в такой ситуации? Я уверен, вы тоже перестали бы тратить силы на Аиду и занялись бы собственными проблемами! Например безопасностью. Наверное, они знали, что космодром можно катапультировать, и когда сделали это открытие, – Петров указал на стол, где все еще лежал аппарат, – то решили его захватить, ведь другого выхода не было, чиновники твердолобы как на подбор! Захватить, обеспечить себе безопасную зону на орбите, оттуда спокойно все исследовать… Да я бы на вашем месте отдал им космодром еще десять лет назад! Операция тщательно подготовлена, и тут прибываю я. С заданием наблюдать и с заложенной каким-то олухом программой противодействовать диверсиям! Все происходит слишком быстро, и единственное, на что я – я! – оказываюсь способен, это дернуть рубильник. Это тоже полезно, но разве вам нужно было только это?! Ладно, вы поняли. Не будь этой программы, я смог бы вам чем-то помочь. А так – вы все испортили. Единственное, что я могу теперь сообщить – все ограничения по выезду с Аиды должны быть отменены немедленно. Иначе ваши подопечные завтра устроят что-нибудь похлеще, а меня у рубильника больше не будет!
Леруа ответил не сразу. Он снял очки, задумчиво повертел ими, выгадывая время для ответа. Потом надел обратно и заговорил:
– Может быть, вы и правы, – начал он, не глядя на Петрова. – Вы были бы абсолютно правы, будь нашей целью изучение и освоение Аиды. Но все просто только при недостатке информации. Дело в том, что нормальная организация работ на Аиде – это не решение проблемы. Это конец одного из ее решений.
– Я вас не понимаю.
– Вы знаете, кого обычно направляют на Аиду?
– Конечно! Опытных десантников, координаторов, исследователей – зарекомендовавших себя участием в особо опасных эпизодах.
– Вот именно, – Леруа вздохнул. – На Аиду направляют лиц, в силу своих индивидуальных особенностей несущих потенциальную опасность для общества. Видите ли, мы не имеем никакого права ограничивать свободу личности, в частности, права на перемещение. Но когда число несчастных случаев с человеческими жертвами вдруг начало расти, и исследования показали, что они надежно коррелируют с определенной группой лиц, чаще всего выдающихся способностей, талантливых или даже гениальных… Но они опасны, смертельно опасны, вот как вы, например…
– Я – особый случай, – напомнил Петров.
– Да, конечно… Выбора у нас нет, сегодня от каждого человека зависит слишком многое. Он может все, один человек. Так что остается одно: ограничить сферу возможных отрицательных последствий. Дальние планеты с многолетними заданиями, медицинские ограничения, особые зоны… Открытие Аиды было находкой. Такое количество непознанного могло оправдать в глазах Совета ее особый статус. Мы не имеем права рисковать. Обычные люди в любом случае должны быть в безопасности – таков главный принцип нашей организации. С появлением Аиды число несчастных случаев стало сокращаться. А теперь…
– Разве нет другого выхода? – перебил его Петров. – Неужели они так опасны?!
– Да.
– Не может быть! Это какая-то ошибка. Но что же теперь будет с Аидой?
– Не знаю, – Леруа налил себе чаю. – Я не бог, я простой смертный. Но мое положение отличается от вашего тем, что я не имею права ничего не делать! Ошибки бывают у всех. Но у меня нет бластера в руках, и я не шагаю по незнакомой планете. Я могу успеть исправить свою ошибку. Вот в чем разница!
– И все-таки: что будет с Аидой? – продолжал настаивать Петров.
– Всем нам свойственно искать ответа у начальства, – вздохнул Леруа. – Придется менять способ ограничения; может быть, сменить базовую планету. Сейчас вступает в действие резервный вариант – начало подлинного освоения Аиды; это займет их на несколько лет. А потом они овладеют феноменами, станут еще опаснее, снова нужно будет искать выход, и так без конца… Поверьте, я рад, что эти проблемы решать придется уже не мне.
– Да, – сказал внезапно Петров, – уже не вам. Они решат их сами! Ну, я пойду. Желаю успехов.
– До свидания, – ответил Леруа, и, когда за Адольфом Хоргом закрылись двери, позволил себе улыбнуться. Он улыбался, потому что знал: встретиться вновь им придется довольно скоро.
А Петров, закрыв за собой двери, шел по коридору и улыбался – потому что не знал этого.
5И я здоров. А ежели и болен,
То – только тем,
чем вся Земля больна.
В. Радкевич
– Вот и все, – просто сказал Патрик. – Стоило ли из-за этого идти на космодром?
– Стоило.
Алан выразил общее мнение. Он знал, что говорит, человек, получивший от Аиды все пространство – и все же вернувшийся в человеческий облик. Грег добавил только:
– Все получилось, как надо. Хотя скажи мне кто раньше, что так выйдет – заставил бы постучать по дереву.
– Ладно, ребята, – Стив отошел от стены. – Давайте лучше думать, что делать дальше.
Полумрак бара был забыт. Сияли огни: еще не праздничные, но уже яркие. И лица стали светлей. Никто не пил. Даже Макс, хмуро сидевший в углу. Он слушал и молчал, но можно было догадаться, что он тоже доволен.
– Работать. Вдвоем – один действует, другой контролирует. Сначала над защитой. Отдых в безопасности; трансфер на орбиту уже защищен. – Патрик говорил коротко и уверенно.
– И еще, ребята, – добавил Алан. – Есть мысль открыть здесь туристские маршруты. По безопасным местам, а такие есть, в свое время я все облазил. Такого восхода больше нигде не увидишь. А феномены – из безопасных – лучшая реклама! Сам бы занялся, но моя тема – финаляты. Буду потихоньку входить в контакт, кто захочет – восстанавливать…
– Туристы? Неплохо придумано, – улыбнулся Грег. – Новичкам у нас везет. Да, кстати, Патрик – ты надолго в этой комиссии?
– Как получится, – Патрик покачал головой. – В других-то секторах Петрова не было. Пока всех убедишь…
– Петров да Петров, – вмешался до сих пор молчавший человек, сидевший чуть в отдалении. – Я всю галактику облетел, всех членов Совета знаю, с самим Павловым вот этой рукой здоровался – а о Петрове слыхом не слыхивал. А ведь экзот такой силы!.. Кто этот Петров?
– Как кто? – Патрик удивился. – Игорь Сергеевич, диалогик… Хотя…
– Он не вернулся на Аиду, – сказал человек напористо.
– Ясно, – Грег поднял руку. – Это был не Петров. Нашего брата отсюда ни за что не выпустят. Он был оттуда. Потому и рубильник дернул… Жаль, он мне казался вполне симпатичным…
– Ты как всегда спешишь, – рассудительно заметил Стив. – Они часто используют психомаску – человек сам себя не помнит. И еще вставные программы – сам о ней не подозреваешь, а потом вдруг начинаешь что-то делать, не зная, зачем. По-моему, его послали и с тем, и с другим.
– Похоже на то, – согласился Патрик. – Петров не мог знать Стива – но узнал его. Психомаска, очевидно, но не полная.
– Что с человеком делают, – Стив рубанул воздух кулаком. – Так мы и не узнаем, кто это был на самом деле!
– Отчего же?
Все обернулись. Алана улыбался, довольный столь единодушным вниманием.
– Сделать такое за несколько часов, – пояснил он, – способен далеко не всякий. Более того, до сих пор такое мог сделать только один человек!
– Хорг?..
– Не может быть! На него не напялить гипномаску!
– Кто знает, может быть, он пошел на это добровольно? Каждого из нас можно обмануть!
– Вот как. В этом что-то есть! – Глаза Грега заблестели. – А тебе не кажется, что уж его-то должны были послать на Аиду раньше всех нас?! И не послали?
– Ну и что?
– Значит, либо не смогли, либо это оказалось ненужным! Он выше этой изоляции! Он проскочил этап, на котором застряли мы!
– Не все, – заметил Алан.
– Ты тоже – поначалу! Так вот – это ли не выход?! Это ж так просто не маскировать способности, а развивать их. Пока необычное мало, его боятся, когда оно вырастает, к нему привыкают!
– Мы все понимаем, Грег, – сказал Патрик. – Не надо так волноваться. Ты прав. Не не все сразу! Не спеши стать необычным, ведь это Аида!
Патрик верил в приметы, и когда раздался вскрик, резко обернулся, как будто знаю, что происходит.
Макс, сжимая вилку, таращился на духа, серебристым облачком висевшего перед ним. Дух мерцал и готовился к произнесению речи.
– Привидение! – воскликнул Грег. – Новый феномен!
– Не новый, – пренебрежительно дополнил Алан. – Еще времен второй экспедиции. Название – дух, оптимальные действия – поговорить, считается, что он предсказывает будущее. Но появляется редко, так редко, что его даже в списки не заносят.
– Ты – Гена Птицын? – негромко прогудел дух, будто стесняясь. Макс отложил вилку, поглядел по сторонам, понял – спрашивают его. Снова уставился на духа. – Быстрее – время коротко!
– Допустим, – прошептал Макс. – Что ты хочешь?
– Я твой дух. Помнишь первую экспедицию? Твой разум – второй.
– Я терял сознание, но ничего такого… Ты, наверное, перепутал духи бывают только у мертвых!
– Не на Аиде! Я видел будущее. Нам нужно соединиться. Я хочу быть человеком!
Макс, казалось, окаменел; однако, стоило духу шелохнуться, он стремительно метнулся к выходу. Поздно: дух подобно молнии мелькнул за ним и обвился вокруг головы, Макс расслабленно опустился на пол.
Прошла минута, другая. Дух растворялся на глазах, перетекая в Макса.
Вскоре тот поднялся, шатаясь.
Грег задумчиво произнес:
– Птицын? А называл себя Максом Доулом… И он тоже! – И презрительно отвернулся.
– Ему и так досталось, – заметил Алан примирительно. – А что до шпионов, то такого, как Петров, я бы сюда пригласил резидентом!
– Простите, – пробормотал Птицын – теперь уже не Макс, уверенность и спокойствие психомаски мигом исчезли, – ради бога простите, я был не в себе… Но теперь, надеюсь, мы подружимся?
– Посмотрим, – скептически сказал Грег.
– Это уже не от тебя зависит, – заметил Алан, улыбаясь. – Ведь он знает будущее!
– Правда? – Грег посмотрел на Птицына. Тот кивнул, опустив глаза. Тогда скажи, сумеем ли мы… Впрочем, я и так знаю, что сумеем! Скажи вот что: когда?!
Геннадий Птицын улыбнулся:
– Можете мне не верить, но у духов не бывает часов. Три слоя времени – сколько это на наши годы?
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Е. Тамарченко
ФАКТ И ФАНТАСТИКА
Я сказал бы, что реальность – это то, что длится короткий промежуток времени, то есть факт. Фантастика – это то, что продолжается всегда.
Хорхе Луис Борхес
Факт – слово и понятие древнеримской культуры, связанное, с латинским facio – делать, производить, совершать. Факт – это нечто «сделанное» или самопроизвольно свершившееся и в этом воплотившемся бытие безусловно истинное, доказательно несомненное. Практичные и деятельные римляне, акцентировав «факт», тем самым заставили и «фантазию» (phantasia) внутренне противостоять «факту» по признакам иллюзорности и невоплощенности. Исходная для латинской древнегреческая φαντασία была скорей онтологична, чем субъективна и нереальна по содержанию. Она означала прежде всего «делание зримым», «выставление напоказ» – как бы «выказывание» или «выявление» чего-то из тьмы (этому слову присущи и значения «вида», «блеска»). В греческой «фантазии» были заложены и возможности субъективного понимания – «воображение», «впечатление», «призрак» и т. д., – но до поры не они были основными. Ни термина, ни понятия «факта» древнегреческая культура не знала: «реальное» и «воображаемое» не были еще в ней последовательно разделены.
И все же серьезные мировоззренческие различия «факт» и «фантастика» (производное от «фантазии») приобрели только в Новое время. Понадобилось много тысячелетий развития, чтобы европейцы начали во всех областях культуры противопоставлять фантастику и реальность. Но если в практике и науках о природе это до поры казалось естественным, то в гуманитарной сфере с самого начала было непросто. Комплекс «Дон-Кихота», в котором факт и фантастика и неразделимы, и мудро разведены, свидетельствует о подлинных, лежащих глубже поверхностной оппозиции проблемах новоевропейской духовности в этом плане.
Очевидно, что о «фантастике», как и «факте», я говорю в философском смысле, более широком, в частности, чем представление о литературной фантастике и родственных ей жанрах художественного слова. «Дон-Кихот», как это и присуще искусству, только концентрированнее и ярче других явлений предсказывал, что и общее отношение «факта» к «фантастике» будет строиться в европейской культуре неоднозначно: как неснимаемая проблема без окончательных, готовых решений. Эту скрытую до поры противоречивость и нерешенность культурной темы не смогли смягчить или отменить ни успехи быстро развивающегося естествознания, ни общая технологическая ориентированность европейской цивилизации. Тенденции эти настраивали общественное сознание на приоритет строго объективного факта реальности, но подобного рода «свирепая правда» (В. Розанов о настроениях 60-х гг. XIX в. в России) оказалась не в состоянии объединить и сплотить культуру. Напротив, она все более углубляла разрыв между естественно-научной и гуманитарной сферами, служила развитию взаимно глухих «двух культур» (Ч. П. Сноу).
В новейшее же время ситуация и в самом теоретическом естествознании, и в технологической сфере (во всем объеме ее) раскрылась как несомненно кризисная. Концепции объективного факта и объективной реальности обнаружили свою непригодность применительно к новым, осознанным наукой глубже, чем ранее, огромным областям бытия. Технологические процессы вдруг оказались зависимы от ранее, казалось, по природе не применимых к ним ценностных критериев, природных (экологических) и даже гуманитарных (этических). Аспекты и принципы гуманитарного универсума проникли в, казалось бы, твердо отделившиеся от них естественные науки. Так произошло в научно-философском течении русского космизма (Вернадский, Циолковский, Чижевский); современная экология имеет, наряду с естественно-научными, этические и даже эстетические аспекты, ибо связана с древней идеей гармонического равновесия бытия; генетика и биотехнология оказались неотделимы в самой сути своей от нравственно-религиозных проблем, а теория относительности и физика элементарных частиц учитывают присутствие и влияние наблюдателя. Все как бы снова безнадежно запуталось, что и отражено в популярном четверостишии:
Был этот мир глубокой тьмой окутан.
«Да будет свет!» – и вот явился Ньютон.
Но Сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн – и стало все как раньше.
И правда, торжество новоевропейской концепции факта – исторически только островок в океане эпох, проводивших границу между «фантазией» и «действительностью» по-разному, но в принципе иначе, чем Новое время. Когда Дидро в знаменитой «Энциклопедии», выступая и как автор соответствующей статьи, впервые попытался осмыслить факт, он вынужден был признать: «Этот термин трудно определить: сказать, что он употребляется при всех известных обстоятельствах, когда что-либо вообще перешло из состояния возможности в состояние бытия, – отнюдь не значит сделать его яснее». И действительно, «факты можно разделить на три класса: божественные деяния, явления природы и действия людей… Все они равно подлежат критике».
Такова тривиальная на сегодня истина – факт загадочен, и критический подход к нему всегда обнаружит эту загадочность. Даже будучи установлен с определенностью – что и для науки в принципе порою недостижимо, как показывает современная физика, – факт может быть рационально осмыслен лишь относительно. В ньютоновской системе – одним образом, в эйнштейновской – другим, хотя и совместимым с первым. Единая теория поля, которая когда-нибудь будет создана, откроет третью, по-новому углубляющую схему соотнесения. Но мало знать, что процесс этот бесконечен: у него есть коренные ограничения. Наука не дает ответа на вопрос о природе факта. Неспособна дать подобный ответ и философия. И в «материализме», и в «идеализме» – если нам угодно так делить философские направления – проблема природы факта решается не рациональным путем, но верой. В частности, считать, что нам дана только относительная истина, но не абсолютная, к которой идет бесконечное приближение, – значит, в каком-то смысле себя обманывать. Именно абсолютная истина всегда дана априори. Для того чтобы строить цепь относительных шагов, мы заранее должны иметь абсолютное знание, пусть в интуитивной, латентной (а иной для него и не существует), форме. Без опоры на абсолютное невозможно и относительное – не будет вообще никакой системы отсчета. А выберем мы как абсолют материю, идею или личного Бога, решается в акте веры. В частной научной теории, формализующей относительную сторону знания, заместителем абсолютного может служить конкретная и временно неколебимая величина – такая, как скорость света в специальной теории относительности Эйнштейна. Но мысль, конечно, хотела бы идти глубже. Однако рациональным путем вопросы о сущности факта в принципе не решаемы. Напомню Достоевского: «Разумеется, никогда не исчерпать нам всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, а концы и начала – это все же еще пока для человека фантастическое». Доискиваться тайны факта в одних случаях дело веры, в других – фантазии, хотя пример Данте (и тьма менее глубоких) показывает, как «смешивать два эти ремесла».
Кроме метафизических, очевидны и вполне земные ограничения в понимании и установлении фактов. Здесь многое обусловлено «точкой зрения», неотменимой субъективностью реальной позиции человека. Воспользуемся классификацией фактов Дидро, только начнем с «действий людей», относящихся к ведению современности и истории. Вспомним эксперимент по теории следствия, поставленный некогда А. Ф. Кони. Случайные свидетели инсценированного для них преступления поняли и оценили увиденное по-разному, каждый не так или не совсем так, как другие. И это свидетели-очевидцы, причем не заинтересованные в каком-либо частном, корыстном смысле. Что же говорить об исторических фактах, известных нам косвенно и фрагментарно, нередко от лиц, непосредственно не участвовавших в событиях и, в любом случае, выражавших вполне определенные интересы, собственные и групповые (религиозные, классовые, сословные, местные, национальные, партийные и т. д.); дошедшие через документы, нередко сфальсифицированные, просто не сохранившиеся или заведомо утаенные, хотя и оставившие, как правило, отпечаток в иных событиях. В конечном счете, даже отжав чисто фактическую канву исторической ситуации, мы стоим перед веером расходящихся возможностей ее понимания. Свежий пример противоречивых трактовок относительно недавнего прошлого может дать обсуждение советско-германского договора 1939 г. В подобных случаях все опять упирается в последние основы мировоззрения того или иного исследователя. Все это побудило известного английского специалиста по советской истории Карра полусерьезно воскликнуть: «Исторический факт – это авоська, которую можно наполнить любым содержимым…» В конечном счете дело обстоит не так грустно, но, cum grano salis, это изречение можно применить и к трактовке событий любой истории.
Впрочем, чтобы уяснить ограниченные возможности осмысления и оценки человека и его действий, не следует ходить далеко. Об этом во весь голос говорят нам искусство, литература и философия, но прежде всего личный жизненный опыт. Что более, казалось бы, доступно или открыто, чем собственное существование или душа непосредственно окружающих нас людей? Но и сия тайна «велика есть», как учит авторитетно жизнь, и возможности непредвидимого в сфере личностных отношений и самопознания порой еще более разительны, чем в какой-то иной. Прекрасной иллюстрацией из области художественного слова может служить пушкинская поэма «Анджело». Оказывается, что чем ближе к нам человек как факт, включая и собственное бытие, тем дальше порой его существенная разгадка, не говоря о последней тайне человека как такового. И тут еще раз ничем, кроме общей веры и личностного доверия, не заполняемый, фундаментальный пробел в познании фактов.
Конечно, при всем этом мы имеем подлинную историю, философскую и научную, оправданные возможности общекультурной и личностной ориентации, разветвленную и глубокую науку о человеке. Все это налицо лишь благодаря тому, что существует абсолютная истина, просвечивающая сквозь запутанность человеческих действий и отношений и направляющая их изнутри, позволяя тем самым и разобраться в подлинной связи фактов. При этом и учителями-мыслителями, и специалистами, и каждым из нас, людей частной конкретной жизни, применяется логика, отличная в своем существе и от объективной и от субъективной. К примеру, и ученый историк, и следователь-юрист употребляют чем-то схожие методы при установлении фактического остова происшествия. Прежде всего они сопоставляют известные несомненно факты с различными заинтересованными свидетельствами. Получается некий, неизбежно неполный свод субъективных отношений, осмыслений, оценок, расположенный в также весьма неполных, но зато несомненных координатах факта. Все остальное доделывается фантазией, но не произвольной. Через скрещения имеющихся свидетельств и белые пятна фактического наброска проводятся «изолинии» (Л. Гумилев), отражающие метод того, кто анализирует, его основополагающее понимание истины. Поскольку подобное понимание в основах акт абсолютно ценностный, оно и несводимо ни к объективной концепции, ни к субъективному взгляду на ситуацию. Ценности, неизбежно заложенные в фундамент акта познания, и заставляют познающего подниматься как над своей частной правдой, так – в той или иной степени – и над безлично объективной позицией. С такого – разумеется, всегда относительного – уровня и решаются ключевые вопросы нашего понимания и знания человека, знания зыбкого и основательного одновременно.
Но факт принципиально трудно не только интерпретировать, его нелегко даже описать, причем и тогда, когда для этого создаются специально очищенные условия. Лабораторией для твердой постановки вопросов такого рода всегда служило естествознание, с которым мы переходим ко второму разряду фактов схемы Дидро – фактам, связанным с явлениями природы. В науках о природе достаточно долго подразумевалось, что описать факт возможно вполне объективно, безлично и беспристрастно. Методология науки XX в. заставила осознать, что так полагать наивно.
Описание факта неотделимо от его понимания – как, впрочем, философия и твердила с эпохи античной классики. И чем более строгое описание фактического события мы даем, тем более отчетливо проступают в нем предпосылки нашего собственного видения и понимания мира. А это значит, что и естествознание в принципе не объективно безлично; что и оно – неизбежно учение какого-то конкретного времени, неповторимой культурной среды и почвы и, более того, определяется в самом последнем счете уникальностью личности творца-ученого. В естествознание в последние годы был, наконец, легально (на уровне методологии науки) введен момент личной неповторимой фантазии, до этого стыдливо оставлявшийся за сценой «точных наук» как дело субъективное и легко отделимое от готового результата – формулы, идеи, изобретения. Но и здесь все сложнее, теория или открытие и в науке и технике обусловлены личностью и связаны с нею не внешним, необязательным ярлыком – довеском тип «астрономия Птолемея», «физика Бора», «двигатель Дизеля», – но духом и стилем интерпретации и воплощения, неотделимыми от итоговых результатов. Такие выводы нисколько не означают попытки субъективировать естествознание. Напротив, они указывают на более сложное и глубокое, чем схема «субъект-объект», отношение фантазии к факту в «точных науках».
Более глубокая зависимость факта от его теории в том, что теория предполагает само наличие фактов данного, определенного рода, как и характерные их параметры. Тех, кто вдумывался в Платона, Канта, Гуссерля, кто хотя бы в общем виде следил за центральной загадкой гносеологии – проблемой доопытной целостности нашего знания, – такой поворот темы не удивит. Но сошлюсь и на слова Эйнштейна, некогда поразившие Гейзенберга и, по свидетельству последнего, много ему открывшие: «Можно ли наблюдать данное явление или нет – зависит от теории. Именно теория должна установить, что можно наблюдать, а что нельзя… Именно теория должна решить, что должно быть измерено…» Основой же теории, в свою очередь, является творческая интеллектуальная интуиция – акт фантазии особого рода.
«Фактов всегда достаточно, а вот воображения часто не хватает», – писал, в частности, академик Блохинцев. Следовательно, истоки факта как бы двусторонни. С одной стороны, его основания уходят в толщу невероятных и никогда не исчерпываемых возможностей бытия, относительно которого стоит помнить предостережение Гамлета: «Есть многое на свете, друг Горацио, что нашей философии не снилось…» С другой стороны, формы факта и сама суть его высвечиваются и нашим усилием, долженствующим отвечать чуду мира, звучать с ним, по возможности, в унисон, при этом опережая уровень сегодняшних представлений. Известно, что в таких актах основное дается «даром» и «вдохновением» – таинственной благодатью, как будто бы превышающей частные человеческие силы и выдумку. Отсюда и столь разительное для современников и потомков нередкое различие между «творцом» и «человеком», сосуществующими, однако, в единой личности.