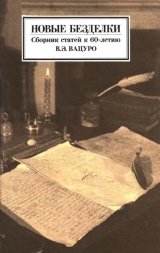
Текст книги "Новые безделки: Сборник к 60-летию В. Э. Вацуро"
Автор книги: Сергей Фомичев
Соавторы: Вячеслав Иванов,Ольга Муравьева,Юрий Левин,Михаил Строганов,Андрей Зорин,Александр Лавров,Алексей Песков,Илья Серман,Ирина Чистова,Л. Лейтон
Жанры:
Языкознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 37 страниц)
О. А. Проскурин
Батюшков и поэтическая школа Жуковского
(Опыт переосмысления проблемы)
Противопоставление поэтических систем Жуковского и Батюшкова давно стало одним из общих мест работ о русской поэзии начала 19 века. Традиция такого противопоставления кажется тем авторитетнее, что корни ее обнаруживаются уже в суждениях современной обоим поэтам критики. Видимо, первым наметил контуры столь популярной впоследствии антитезы С. С. Уваров в рецензии на батюшковские «Опыты в стихах и прозе»: «Жуковский более красноречив и устремлен ввысь. Батюшков же изысканнее и законченнее; один смелее, другой не оставляет ничего на волю случая; первый – поэт Севера, второй – поэт Юга» и т. п.[202]202
Le Conservateur Impartial. 1817. № 83. P. 414. Цитируется по переводу В. А. Мильчиной в изд.: Арзамас: Сб. в двух книгах. М.: Худ. лит., 1994. Кн. I. С. 96.
[Закрыть] Эта идея была подхвачена и развита П. А. Плетневым[203]203
Плетнев П. А. Заметка о сочинениях Жуковского и Батюшкова. – Плетнев П. А. Статьи. Стихотворения. Письма. М.: Сов. Россия, 1988. С. 24–28.
[Закрыть], не раз варьировалась в журнальных статьях 1820–1830-х гг. и наконец была – на новых основаниях – канонизирована В. Г. Белинским, приспособившим ее к своей гегельянской формуле литературного развития[204]204
Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья третья. – Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М.: Изд. АН СССР, 1955. Т. 7. С. 224. Впрочем, как всегда у Белинского (чего нельзя сказать о его новейших последователях), жесткость доктрины смягчена исключительным литературным чутьем критика (см., например, с. 240 и след.).
[Закрыть]. У современных историков литературы эта концепция, лишившись «философского» обоснования, приобрела черты истины, в общем не требующей доказательств.
Такой подход, «разводящий» пути двух поэтов, как бы дезавуирует известное высказывание Пушкина о «школе, основанной Жуковским и Батюшковым»[205]205
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 11. С. 110.
[Закрыть]. Между тем суждение Пушкина примечательно не только как мнение человека, более чем компетентного в вопросах поэзии: оно, как это ни парадоксально, также восходит к уже знакомой нам традиции, заложенной Уваровым и Плетневым. Ибо, отмечая черты несходства между двумя поэтами, Уваров вместе с тем подчеркивал, что Жуковский и Батюшков – «блестящие представители» одной («новой») поэтической школы; равным образом и для Плетнева Жуковский и Батюшков вместе «начали новый период русской поэзии»[206]206
Арзамас. Кн. 2. С. 96; Плетнев П. А. Статьи. Стихотворения. Письма. С. 24.
[Закрыть].
Самое подчеркивание первыми интерпретаторами несходства Жуковского и Батюшкова было вызвано отчетливым ощущением их близости: чтобы читателем, еще только осваивавшим эстетические принципы новой школы, эта близость не была воспринята как тождественность, чтобы новая поэзия изначально предстала перед ним в богатстве и многообразии оттенков, чтобы Батюшков не был поспешно осмыслен как «эпигон» Жуковского, – для этого и потребовалось специально акцентировать черты несходства между двумя близкими поэтическими мирами.
Позднейшие критики и исследователи, забывшие реальный культурный и литературный контекст суждений и оценок современников, необычайно увлеклись манифестацией (не исследованием!) различий, либо полностью игнорируя родство, либо усматривая его в том, что Батюшков и Жуковский в равной мере «гармонизировали» язык русской поэзии (обстоятельство как раз наиболее спорное: слишком уж в разных направлениях шла у них эта «гармонизация» и к слишком разным результатам приводила!)[207]207
Суммарно говоря, стихи Жуковского по преимуществу «напевны»; стихи Батюшкова – за единичными исключениями – «петь» нельзя. Эта разница проявляется на всех уровнях словесной организации текста – ср. «подчинение» фоники песенной ритмике у Жуковского и обратное явление у Батюшкова; доминирование гласных в создании мелодического рисунка стиха у Жуковского – и явное главенство согласных у Батюшкова, при особой склонности поэта к игре на сочетаниях сонорных, требующих артикуляционного напряжения и тем самым вступающих в резкое противоречие с принципами «песенной» поэтики. Совершенно справедливо в этой связи заметил Ю. П. Иваск: «Языковая мелодика Батюшкова в известной схеме Эйхенбаума не принята во внимание, не учтена. Это мелодика – не декламационная (Державин), не напевная (Жуковский), не говорная (некоторые строфы „Евгения Онегина“). Это мелодика – не громкой речи, не песенного лада, не разговорных интонаций, а медленного плавного чтения. Это чистая поэзия, зависимость которой от любой прозы, а также от пения, напева – минимальна» (Иваск Ю. Батюшков. – Новый журнал. 1956. Кн. 46. С. 71). Можно предположить, что разные принципы организации стиховой речи у Жуковского и Батюшкова объясняются – по крайней мере отчасти – разными культурно-бытовыми контекстами их поэтического творчества. Для Жуковского это традиция домашнего музицирования и пения, процветавшая в тульско-орловских «культурных гнездах»; дня Батюшкова – традиция сценического декламирования, но не «архаического», а «модернизированного», представленного в лирических («элегизированных») монологах трагедий Озерова, исполнявшихся Е. Семеновой.
[Закрыть].
В итоге самая картина литературного движения начала 19 века оказалась в значительной степени искаженной. Крайне примитивизирован был литературный облик Батюшкова, превратившегося в «стихийного материалиста» и «певца земных радостей и наслаждений». Показательно, что Н. В. Фридман, автор монографии, специально посвященной поэзии Батюшкова, вообще исключил из сферы анализа те стихотворения, которые противоречили этому облику (среди них – почти все вершинные достижения Батюшкова-поэта)[208]208
Впрочем, желая показать, что «любовь к „земному“, „чувственному миру“» никогда не оставляла Батюшкова, что «стихийно-материалистическая основа его мировоззрения не была разрушена», Н. В. Фридман прибегает к любопытным аргументам: «Даже религиозные образы в элегиях Батюшкова 1815 г. удивительно конкретны и пластичны (например, образ „струя небесных благ“ в элегии „Надежда“)» (Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова. М.: Наука, 1971. С. 188).
[Закрыть]. При изучении литературного движения эпохи завороженность схемой приводила порою прямо-таки к анекдотическим результатам: в академической «Истории русского романтизма» в качестве свидетельства исключительного влияния Жуковского на поэзию современников приведены тексты, целиком построенные на парафразах из… Батюшкова![209]209
См.: Шаталов С. Е. Утверждение романтизма в русской литературе 1810-х годов. – История романтизма в русской литературе: Возникновение и утверждение романтизма в русской литературе (1790–1825). М.: Наука, 1979. С. 152–153. Как пример сочинения, написанного «буквально „по Жуковскому“», приведена элегия В. Туманского «Монастырь» – рабскую зависимость которой от элегии Батюшкова «На развалинах замка в Швеции» немедленно отметили современники (см. об этом: Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб: Наука, 1994. С. 58). Подражание Жуковскому усмотрено и в следующих стихах из «Тирсиса» В. Панаева: «И полная луна востока выплывала // По тусклой синеве безоблачных небес». Нужно было обладать редкой поэтической глухотой, чтобы в первом стихе не увидеть старательного копирования эвфонических приемов Батюшкова, а во втором – почти буквального повторения стиха из «Тени друга» («В бездонной синеве безоблачных небес»).
[Закрыть]
Разумеется, разница – и немалая – между поэтическими мирами Батюшкова и Жуковского действительно существует: художественно чуткие современники констатировали ее не напрасно. Но чтобы увидеть ее по-настоящему, требуется сначала определить и осмыслить глубинное родство: только осознав сходство, можно понять несходство – и не только на уровне внешнем (а потому часто поверхностном и не самом важном), но и в оттенках, нюансах, часто ускользающих от поверхностного взгляда.
Работы, в которых отношения двух поэтических систем не сводятся к плоскому противопоставлению «мистического идеализма» и «жизнеутверждающего гедонизма», «мерцающих полутонов» и «пластической конкретности», пока еще единичны. Среди них первое по значимости место, бесспорно, принадлежит новому исследованию В. Э. Вацуро «Лирика пушкинской поры: Элегическая школа» (1994). Замечательный исследователь и знаток русской поэзии 19 века имел здесь все основания отметить: «Пушкин, ученик Батюшкова и Жуковского, не только близко знавший обоих поэтов, но и с необычайной чуткостью улавливавший тончайшие различия их поэтических систем и поэтического мировоззрения, вовсе не случайно рассматривал эти последние все же как некую общность – „поэзию гармонической точности“, и только позднейшая историография сделала сильный акцент на индивидуальных особенностях, оставив за Жуковским „серафический“, „мистический“, идеальный поэтический мир и отведя Батюшкову мир чувственно-языческий. Уже Г. А. Гуковский стал разрушать это представление, обратив внимание на субъективный характер батюшковской античности, на ее идеализирующий смысл, но ограничил свои наблюдения более всего областью стиля. Между тем субъективно – идеализирующее начало сказывается и в самом поэтическом мироощущении Батюшкова и накладывает свой отпечаток на тип лирического героя»[210]210
Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 103–104.
[Закрыть]. Это утверждение не осталось декларацией: оно с блеском и полной убедительностью доказано во многих местах новой книги.
Сделанные ученым наблюдения и выводы прокладывают путь для дальнейшего изучения проблемы. Настоящая статья – не претендующая на полноту и исчерпывающее разрешение вопроса попытка следовать в направлении, заданном трудом В. Э. Вацуро. Хотя большинство заметок, составивших основу этой статьи, относится, видимо, к тому же времени, что и книга об элегической школе, однако именно публикация книги стимулировала их продолжение и сведение в некоторую систему.
* * *
Всякая попытка исследовать проблему «влияний» и творческого диалога ставит исследователя перед двойной опасностью. С одной стороны, всегда существует соблазн принять за проявления индивидуального влияния то, что было «общим местом» (топосом) литературного сознания той или иной эпохи. С другой стороны, есть опасность из излишней осторожности персональное влияние объявить воспроизведением «общих мест». И если опасность первого рода (принять общее за индивидуальное) чаще всего подстерегает дилетантов, слабо знающих литературный контекст (хотя далеко не только их!), то опасность второго рода (отказ видеть в многократно повторяющемся признаки индивидуальной системы) зачастую оказывается оборотной стороной эрудиции и превосходного знания материала.
О точном критерии для разрешения этой специфической историко-литературной проблемы говорить пока не приходится. Роль субъективного начала в такого рода изучениях очень велика. Но, как представляется, результаты изучения будут убедительнее и доказательнее, если рассматривать переклички и сходства в комплексном порядке, в их соотношении с разными уровнями литературной системы. Например, сходство между темами, образами и мотивами разных поэтов само по себе еще не может свидетельствовать о сознательной ориентации одного на другого (тем более если в русской или мировой литературе сходные образы и мотивы многократно повторяются). Но если это сходство проявляется и на других уровнях текста – лексическом, метрическом, ритмико-интонационном, фонетическом и т. п., то факт осознанной ориентации, факт литературного диалога устанавливается с большей степенью вероятности. Такая вероятность повышается, если при этом у нас есть основания утверждать, что тот или иной поэтический элемент тесно связан в сознании гипотетического «реципиента» с художественной системой конкретного автора, служит достаточно репрезентативным «знаком» этой системы.
Второе методологическое замечание касается проблемы соотношения между иноязычным и национальным литературным источником – проблемы, особенно актуальной в России начала 19 века, когда, с одной стороны, европейская поэзия оставалась богатейшим резервуаром тем, мотивов, сюжетов и формул, а с другой – возникла уже достаточно богатая национальная поэтическая традиция со своим репертуаром мотивов и со своим поэтическим языком. В. Э. Вацуро в связи с этим замечает: «…Отношение поэта к иноязычному источнику в начале XIX в. совершенно иное, нежели несколькими десятилетиями позднее: оно приближается к сотворчеству на заданную тему… Репертуар элегических тем был задан еще античными элегиками, подобно тому, как басенный репертуар – Эзопом: ближайший „оригинал“ оказывался в свою очередь „переводом“ некоего общеевропейского и почти вневременного блуждающего сюжета»[211]211
Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 105.
[Закрыть].
Это замечание столь же остроумно, сколь и справедливо. Более того, применительно к элегической поэзии начала 19 века можно говорить не только о сложившемся репертуаре тем, но и о репертуаре приемов для их воплощения, переходящих от одного автора к другому и из одной национальной литературы в другую. Но здесь, однако, требуется сделать одно принципиальное уточнение. Автор, даже вступая в «сотворчество» с инонациональным и иноязычным сочинителем, все же не мог не соотносить своего текста в первую очередь с национальной литературной системой, потому что именно в ней этот текст становился «литературным фактом». Отсюда – столь характерное для поэзии начала века явление двойной ориентированности текста, когда за мотивом, восходящим к иноязычному источнику, просматривается его русский аналог, когда для разработки чужеземного элегического сюжета отыскиваются материалы в русской традиции.
Такое отношение к поэтическому слову особенно актуализируется после появления «Сельского кладбища», когда, по справедливому наблюдению В. Н. Топорова, «для русского читателя (даже искушенного в западно-европейской литературе, усваиваемой в оригиналах) наиболее близкими и насущными поэтическими ценностями стали те, которые создавались в русской литературе»[212]212
Топоров В. Н. «Сельское кладбище» Жуковского: К истокам русской поэзии. – Russian Literature. X-3 (1981). P. 207–208.
[Закрыть]. Это наблюдение, касающееся читателя, конечно, должно быть распространено и на самих поэтов – тем более если перед нами поэт, обостренно чувствительный к «чужому слову», каким был Батюшков.
Может быть, несколько большую наглядность изложенным выше соображениям придаст пример из книги В. Э. Вацуро. Ученый, необычайно щепетильный в отношении корректности выводов, часто подчеркивает: «все это… „общие места“, из которых составлены стихи и Шолье, и Батюшкова, и „К Делию“ Жуковского. Ближайший источник их вряд ли может быть установлен: формулы кочуют из одного стихотворения в другое»[213]213
Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 98.
[Закрыть]. В большинстве случаев так оно, бесспорно, и есть. Но всегда ли? В четвертой главе монографии В. Э. Вацуро параллельно приведены выдержки из стихотворений М. Милонова «П. А. Никольскому» (1810) и «Ложный страх» (1810) Батюшкова. Фрагмент из Милонова звучит так:
На минуту нам едину
Жизнь дана судьбы рукой.
Пусть живем мы половину,
Но с прямой ее ценой!
Утро – мудрости и славе.
Дружбе – отдыхи свои:
Вечер – Вакху, ночь – забаве
И объятиям любви!
А вот как звучат стихи Батюшкова:
Дружбе дам я час единой,
Вакху час и сну другой.
Остального ж половиной
Поделюсь, мой друг, с тобой.
Приведя эти тексты, В. Э. Вацуро резюмирует: «Строки восходят к „Страху“ („La Frayeur“) Парни, отсюда и текстуальная близость»[214]214
Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 99.
[Закрыть].
Между тем понятно, что образы и мотивы литературного текста получают свое бытие только через словесное выражение. Отвлекаясь от соотнесенности с языковым рядом, можно говорить разве что о тематическом параллелизме – применительно к лирической поэзии вещи далеко не самой важной. Сами по себе темы не могут продуцировать текстуальной близости – если понимать под нею лексические, синтаксические, ритмические и тому подобные схождения.
Если подойти к проблеме именно с этой стороны, то нельзя не заметить нескольких знаменательных моментов. Самая лексическая близость двух русских поэтических текстов в некоторых опорных словах-символах (т. е. там, где всего более следовало ожидать воздействие общего иноязычного источника) заставляет усомниться в равной инспирированности их текстом Парни: например, Вакх как перифрастическое обозначение дружеских застолий – образ, равно значимый для стихов и Батюшкова, и Милонова, – отсутствует в «La Frayeur». Разительное сходство синтаксической структуры текстов (в частности, последовательное опущение предикатов в перечислительных конструкциях) еще в меньшей степени может быть объяснено влиянием общего источника: у Парни, в полном соответствии с жесткими законами французского языка, все сказуемые стоят на своем месте (A mes amis j’en donnerais un quart. Le doux sommeil aurait semblable part: Et la moitié serait pour ma maîtresse)[215]215
Раrnу Е. Œuvres. Tome premier. Paris: De L’imprimerie de P. Didot L’Aine, 1808, P. 19.
[Закрыть].
Далее: четырехстопный хорей, использованный и Батюшковым, и Милоновым, вовсе не является напрашивающимся эквивалентом для французского одиннадцатисложника (в позднейших попытках «эквиметрических» переводов в аналогичном случае был бы использован пятистопный ямб). И уж тем более Парни никак не мог предопределить фонетически и даже лексически тождественной рифмовки: фигурально выражаясь, «единой» и «половиной» он не рифмовал!
Может быть, взятые по отдельности, все эти факты были бы и недостаточными для сколько-нибудь определенных выводов. Но в своей совокупности они могут служить достаточно твердым подтверждением того, что бросающаяся в глаза близость двух текстов объясняется не общим иностранным источником и не обращением к общему резервуару расхожих мотивов, а в первую очередь непосредственной ориентацией одного русского автора на другого. Конкретная – русская – поэтическая система оказывается той призмой, сквозь которую воспринимается более широкая литературная традиция, и тем каналом, через который осуществляется подключение к ней. Конечно, далеко не все случаи обнаруживаемого параллелизма дают столь развернутую и столь многоуровневую систему соответствий. Чаще приходится сталкиваться с куда меньшим числом совпадений. Однако и в таких случаях сам принцип установления возможности конкретного «влияния», как представляется, сохраняет свою корректность: увеличивается степень гипотетичности полученных результатов, но не степень исследовательского произвола.
* * *
Батюшков вступил в литературу, когда Жуковский был уже достаточно известным автором, причем с каждым годом эта известность возрастала. Однако ранние опыты молодого поэта почти не несут на себе следов непосредственного поэтического воздействия Жуковского: Батюшков до поры ориентировался на другие традиции. Обращение к Жуковскому происходит около 1809 г. – когда Батюшков переживает острое разочарование в прежних жанрово-эстетических ориентирах и начинает искать новых путей для поэзии.
Очевидно, около 1809 г. было написано стихотворение «Вечер»[216]216
«Вечер» традиционно датируется 1810 г. – по времени первой публикации, в чем, однако, позволительно усомниться: стилистические принципы этого стихотворения вступают в довольно серьезные противоречия с поэтической продукцией этого года (см. об этом ниже). Для отнесения «Вечера» к более раннему времени есть и ряд других – по большей части косвенных – оснований. В декабре 1810 г. Батюшков, отвечая на не дошедшее до нас письмо Гнедича, писал: «Я рад, что тебе понравились мои стихи в Вестнике; они давно были написаны, это очень видно» (Батюшков К. Н. Сочинения: В 2 т. М.: Худ. лит., 1989. Т. 2. С. 150). А. Л. Зорин в комментарии к этому письму отмечает: «О каких именно стихах Батюшкова, напечатанных в BE в 1810 г., идет речь, установить невозможно» (С. 610). Но действительно ли дело так безнадежно? Прежде всего, естественно предположить, что друзья должны были обсуждать последние публикации (так, в мае ими обсуждалась апрельская публикация «Тибулловой элегии X» – см.: Батюшков К. И. Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 136). К тому времени самой свежей была публикация «Вечера», увидевшая свет в ноябре: между нею и предшествующей порцией батюшковских стихотворений в «Вестнике Европы» пролегает перерыв в месяц – до сентября. Кроме того, как следует из письма Батюшкова, стихи, понравившиеся Гнедичу, как-то связаны с попытками последнего склонить Батюшкова вернуться к переводу Тассо. Вряд ли какой-нибудь иной текст Батюшкова мог служить для Гнедича большим доказательством способности (и необходимости!) переводить корифея итальянской словесности. Все это говорит за то, что скорее всего именно «Вечер» был назван самим Батюшковым «давно написанным» сочинением. «Давно», – во всяком случае, означает до 1810 г.: судя по некоторым автобиографическим проекциям – после 1807 г.; судя по особенностям стилистики и стиха – в конце 1808 – начале 1809 г.
[Закрыть], имевшее подзаголовок «Подражание Петрарке». Действительно, его основная коллизия и ряд мотивов были заимствованы из 50-й канцоны Петрарки. Однако достаточно вольный характер отношения текста к первоисточнику отмечался давно. Так, И. М. Семенко, один из наиболее тонких комментаторов и интерпретаторов Батюшкова, писала об отношении «Вечера» к канцоне Петрарки следующее: «Использовав ее общую схему и тематические мотивы (конец дня приносит отдых и успокоение дряхлой пилигримке, пастуху, мореплавателю, но поэту не дает забвения от любовных страданий), Батюшков полностью меняет стилистику и образы, в особенности благодаря привнесению романтического колорита „северной“ поэзии»[217]217
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М.: Наука, 1977. С. 572.
[Закрыть].
Эти суждения во многом справедливы. Но мысль о романтическом колорите «северной» поэзии, как представляется, нуждается в некоторых коррективах. Ничего специфически романтического (если не толковать романтизм очень широко) и ничего специфически «северного» в стихотворении нет. Если и можно найти здесь немногие признаки местного колорита, то определенно «южные» («кипарисны рощи»). Отзвуки «северной поэзии» если и обнаруживаются здесь, то совершенно в ином – в использовании переведенной из Грея элегии Жуковского «Сельское кладбище».
Бесспорно отсылает к «Сельскому кладбищу» зачин «Вечера»: сигналом отсылки служит не только мотивно-тематическая тождественность, но и сохранение того рифмующего слова, что и в первом стихе элегии Жуковского («Уже бледнеет день, скрываясь за горою…» – «В тот час, как солнца луч потухнет за горою…»). Демонстративность отсылки усугубляется тем, что 50-я канцона Петрарки начинается строками, в которых сколько-нибудь конкретный ландшафтный колорит, по сути, отсутствует: «Ne la stagion che’l ciel inchina // verso occidente…»[218]218
Petrarca, Francesco. Rime: Canzoniere – Trionfi – Estravaganti. A euro di Siro Attilio Nulli. – Milano: Editore Ulrico Hoepli, 1987. P. 38.
[Закрыть]. Важным компонентом, усиливающим впечатление связанности текстов, оказывается их метрическая тождественность: оба они написаны шестистопным ямбом. Следует отметить, что до 1809 г. ни один текст Батюшкова элегического плана этим размером не писался.
Картина возвращения домой поселян, закончивших свои дневные труды, также дана в стилевом регистре Жуковского[219]219
Здесь и далее произведения Жуковского и Батюшкова, кроме особо оговоренных случаев, приводятся по изданиям: Жуковский В. А. Полное собрание сочинений: В 12 т. / Под ред. А. С. Архангельского. СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1902; Батюшков К. Н. Сочинения: В 2 т. / Под ред. В. А. Кошелева и A. Л. Зорина. М.: Худ. лит., 1989. Издания обозначены в тексте соответственно как Ж и Б: римская цифра означает том, арабская – страницу. Все курсивные выделения в поэтических цитатах принадлежат автору настоящей статьи.
[Закрыть]:
Усталый селянин медлительной стопою Оратай острый плуг увозит за собою
Идет, задумавшись, в шалаш покойный свой. И, медленной стопой идя под отчий кров,
(Ж, I, 15) Поет простую песнь в забвенье всех трудов.
(Б, I, 383–384)
Восходящие к Жуковскому мотивы затем как бы объединяются и вновь возникают уже в 4-й, заключительной, строфе, причем соответствующая фразеология «Сельского кладбища» сохраняется:
Но се бледнеет там багряный небосклон.
И медленной стопой идут волы в загон.
(Б, I, 384)
Следует отметить, что при повторном реминисцировании выявляются еще не использованные элементы первоисточника: так, если первая реминисценция зачина «Сельского кладбища» держалась на рифмующем слове «горою», то вторая отсылка к тому же стиху воспроизводит семантически насыщенный предикат «бледнеет». Отметим эту особенность цитирования: она лишний раз свидетельствует, что перед нами не случайное совпадение, а осознанная игра с источником. Эта особенность «интертекстуализма» произведений Батюшкова еще пригодится нам при дальнейшем анализе.
Возможно, отсылает к Жуковскому и рассредоточенное в двух строфах описание домашних радостей крестьянской жизни (в «Сельском кладбище» эти радости отнесены к минувшему земному бытию тех, кто ныне спит «в гробах уединенных»).
Внешнее, бросающееся в глаза сходство между текстами Батюшкова и Жуковского проявляется прежде всего на лексико-фразеологическом уровне, причем мотивы, воплотившиеся в сходных словесных формулах и понятиях, вовсе не относятся к числу центральных, «темообразующих» в «Сельском кладбище». Батюшков выделяет в тексте Жуковского элементы нё элегической, а идиллической, в первую очередь «патриархально-идиллической» топики. Атрибутами этой топики для него оказываются не только освященные традицией тематические мотивы, но прежде всего особого типа язык.
Предпосылки такого языка Батюшков и обнаруживает в элегии Жуковского. Отличительные признаки его – новая функция архаизирующего стиля. Славянизмы выступают здесь не как знак «патриархальной простонародности». Но, вместе с тем, устойчивый «высокий» семантический ореол, традиционно закрепленный за славянизмами, как бы сублимирует эту патриархальность, делает ее сопричастной благородной «старине» и в конечном итоге вечности. Патриархальность оказывается включена в разряд космически значимых ценностей и превращена в сферу, вполне соизмеримую и сопоставимую с рефлексиями интеллектуально и эмоционально утонченного лирического героя.
Батюшков проницательно почувствовал такую перестройку семантических функций архаики в «Сельском кладбище» (вообще говоря, особенно явную в допечатном тексте и существенно редуцированную в тексте «Вестника Европы», за счет общего уменьшения числа славянизмов) – и попытался ее развить и даже несколько форсировать. Общее количество славянизмов, особенно в соотношении с достаточно скромным объемом стихотворения, столь велико (селянин, бремя, стопа, оратай, брашна, игралище, рыбарь, пажити, вертепы, нощь и пр., не говоря о славянизмах морфологических) и вступает в столь резкий контраст с хронологически близкой лирической продукцией Батюшкова, что сознательное экспериментально-стилистическое задание соответствующего приема едва ли может быть подвергнуто сомнению.
Но, прилагая столь значительные усилия для создания «патриархально-идиллического» («рустического») языка, Батюшков вовсе не намеревался писать идиллию. Идиллический мир (и, следовательно, соответствующий язык) требовался ему как фон, как значимый компонент особого типа элегии. Это элегия, строящаяся на контрасте гармонического патриархального бытия и волею обстоятельств отчужденного от него индивидуума. Именно так будут построены элегические тексты, составляющие ближайший хронологический контекст «Вечера», – прежде всего элегии «из Тибулла». По-видимому, «Вечер» предшествует им во времени, оказываясь своего рода «протоэлегией».
На этом «ситуативном» уровне и выступает глубинная (а не поверхностная) связь между Батюшковым и Жуковским: самая лирическая ситуация «Вечера», заданная канцоной Петрарки, проецировалась на эмбриональный лирический сюжет «Сельского кладбища», таящийся за первичным «кладбищенским» сюжетом, – противопоставление нерефлективного патриархально-целостного мира и рефлексирующего героя, которого самая способность к рефлексии, самое ощущение неполноты счастья навсегда отделяет от этого мира и его органических ценностей. То, что у Жуковского присутствовало в виде фона, некоей элегической потенции, Батюшков выдвинул на первый план.
Опыт Жуковского оказывался значим и важен для Батюшкова и еще в одном отношении. Жуковский использовал «чужое слово» для выражения собственных эмоций и в известном смысле для описания собственной биографической ситуации (во всяком случае, для описания своей «внутренней» биографии). Этот биографизм звучал для читателей 1800-х гг., видимо, даже сильнее, чем первоначально входило в задание поэта: фоном для биографической реинтерпретации «Сельского кладбища» должны были служить последовавшие за греевским переводом сочинения – такие, как соименная батюшковскому стихотворению элегия «Вечер» (текст с уже совершенно очевидными автобиографическими мотивами и в то же время настолько явно связанный с «Сельским кладбищем», что автобиографический отсвет от него не мог не падать на содержание последнего).
Итак, свое выражается здесь через чужое: самая биография поэта, таким образом, как бы воспринимается сквозь призму авторитетных прецедентов, подключается к их ряду и получает право стать «литературным фактом». Отсюда оказывается возможным истолкование «Сельского кладбища» как поэтически точного перевода Грея, как аутентичного отражения его, Грея, эмоций и переживаний, и одновременно как «биографии души» Жуковского.
Это обстоятельство оказывалось чрезвычайно важным дня Батюшкова, который в «Вечере» также попытался выразить свое через чужое, факты собственной биографии заключить в контуры текста Петрарки. Известно, что после ранения под Дрезденом Батюшков провел некоторое время на лечении в доме рижского купца Мюгеля, с дочерью которого у него завязался роман. Бесплодно гадать, насколько он был глубок и продолжителен. Важно другое: сам Батюшков пожелал придать ему в созидаемом им биографическом мифе весьма значительное место. Во всяком случае, поэт счел возможным много лет спустя сделать его достоянием карамзинистского кружка, и Дашков еще в 1814 г. будет в письме к Вяземскому острить насчет загадочной рижской красавицы[220]220
См. письмо Д. В. Дашкова П. А. Вяземскому от 25 июня 1814 г. – Арзамас. Кн. 2. С. 226.
[Закрыть]. Судя по всему, уже очень рано рижский роман был задним числом стилизован по «петраркистской модели», что очень наглядно следует из «Воспоминаний 1807 года» (полной редакции текста)[221]221
По традиции «Воспоминание» датируется 1807 г. – на том основании, что в первопечатной редакции текст имел заголовок «Воспоминание 1807 г.». Такая датировка – явное недоразумение: авторское обозначение года несомненно отсылает не ко времени написания текста, а ко времени отразившихся в нем событий, то есть как раз дистанцирует событие и его поэтическое отражение. В. А. Кошелев предпочел компромиссную датировку: «Написано в 1807–1809 гг.» (Б, I, 452). 1809 г. как дата «Воспоминаний» представляется, однако, наиболее вероятным.
[Закрыть]. Для такой стилизации материал готовился в «Вечере», что явствует из сличения концовок двух стихотворений.
«Вечер» заканчивается картиной, отсутствующей у Петрарки:
О лира, возбуди бряцаньем струн златых
И холмы спящие, и кипарисны рощи,
Где я, печали сын, среди глубокой нощи,
Объятый трепетом, склонился на гранит…
И надо мною тень Лауры пролетит!..
(Б, I, 384).
Никакой «тени Лауры» в 50-й канцоне нет. Зато совершенно аналогичный образ (но детализированный и развернутый) завершает «Воспоминание»:
И в час полуночи туманной
Мечтой очарованный,
Я слышу в ветерке, принесшем на крылах
Цветов благоуханье,
Эмилии дыханье:
Я вижу в облаках
Ее, текущую воздушною стезею…
Раскинуты власы красавицы волною
В небесной синеве,
Венок из белых роз блистает на главе…
(Б, I, 368).
Излишне (для наших целей) подробно разбирать все «петраркистские» детали этого образа. Важно отметить другое: для того чтобы они могли войти во вполне уже оригинальное стихотворение Батюшкова, потребовался опыт «Вечера», где поэт еще тесно связан с чужим оригиналом, но где чужой текст уже служит материалом для выражения собственного чувства.
Итак, поэтически чувствовать и поэтически переживать любовные коллизии молодой Батюшков учится в первую очередь у Петрарки, поэтически выражать свое чувство – у Жуковского. И если одна часть этих уроков – эксперименты по созданию «рустического стиля», – отразившись в нескольких ярких текстах рубежа 1800–1810-х гг., вскоре будет оставлена, то другие – связанные с разработкой лирической коллизии – будут иметь свое продолжение. Сближение Жуковского и Петрарки, наметившееся в художественном сознании молодого Батюшкова, впоследствии будет глубоко осмыслено и воспринято как принципиально важное.
Время личного знакомства (1810), а затем тесного сближения Батюшкова и Жуковского принято трактовать как период наиболее значительного литературного отталкивания Батюшкова от поэзии его нового друга. Батюшков, только что преодолевший очередной духовный и литературный кризис, как раз в эту пору пытается разработать новый тип русской «анакреонтейи» (опосредованной Парни), а затем – новый тип дружеского послания, в значительной степени вобравший в себя горацианско-анакреонтический опыт. На этом пути Батюшкова ждали блестящие удачи, оказавшие значительное влияние на весь строй русской поэзии: в глазах многих исследователей литературный облик Батюшкова по сей день ассоциируется в первую очередь с его творчеством 1810–1813 гг. Поэт так и остался для них «русским Парни».
Этот путь с неизбежностью, казалось бы, должен был уводить Батюшкова в сторону от линии поэтических исканий Жуковского. Многое вроде бы говорит за то, что так оно и было на самом деле. Комментаторы давно уже обнаружили факты шутливо-иронического цитирования и комического переосмысления текстов Жуковского в сочинениях Батюшкова начала 1810-х гт. На основании обнаруженных фактов исследователи нередко делали выводы о «борьбе» Батюшкова с Жуковским, о его «протесте» против мистического спиритуализма и бесплотного идеализма.
Насколько, однако, подобные мнения справедливы? В своей новой книге В. Э. Вацуро едва ли не впервые выявил и сделал предметом анализа период поэтического «горацианства» Жуковского, пришедшийся на 1809–1813 гг. (т. е. как раз на годы сближения с Батюшковым и «анакреонтических» увлечений последнего!) и пришел к неожиданному для традиционного историко-литературного сознания выводу о том, что и применительно к этой поре можно говорить о «параллелизме литературного развития» двух поэтов, приводящем к сходным художественным результатам «почти с фатальной закономерностью»[222]222
Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. С. 93, 95.
[Закрыть].
«Параллелизм развития» эстетических систем не исключал возможности спора и даже полемики относительно мировоззренческого содержания этих систем. Однако самая направленность этого спора, как представляется, была диаметрально противоположной той, что рисовалась воображению большинства исследователей.
К февралю 1810 г. относится один из первых опытов Батюшкова в новом роде – стихотворение «Привидение», представляющее собой вольный перевод «Le Revenant» Парни. Именно в этом тексте исследователи усматривали острую полемику с Жуковским – на том основании, что в нем обнаруживается перефразированная и помещенная в новый контекст строка из «Людмилы» Жуковского. «В час полуночных явлений» (у Жуковского: «В час полуночных видений»; отметим также использование Жуковским лексически более близкого «Привидению» варианта этой формулы в «„Гимне“ (Из Томсона)»: «И в час торжественный полночного явленья»). Однако этот шутливый «полемический жест» – лишь часть более широкого и значительного диалога.
Приступая к переводу Парни, Батюшков не мог не помнить, что в русской поэзии уже существовал чрезвычайно интересный прецедент сочинения, посвященного аналогичной теме – загробной любви и посмертному спиритуальному явлению возлюбленного живой подруге. Это стихотворение Жуковского «К Нине» (1808; опубликовано в 1809 г. в «Вестнике Европы»). Вслед за Веселовским его обычно считают обращенным к Маше Протасовой[223]223
См.: Веселовский А. Н. В. А. Жуковский: Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб, 1904. С. 119–120.
[Закрыть], что в общем справедливо, хотя, конечно, героиня стихотворения – не столько реальная пятнадцатилетняя Маша, сколько вообще идеальный объект любви, феномен которой в ту пору страстно занимал Жуковского. Стихотворение оказывалось соотнесенным с тогда же написанной «Песней» («Мой друг, хранитель ангел мой…»), которая также считается – и с еще большими основаниями – обращенной к Маше Протасовой, что не мешает ей быть переводом – и довольно точным – стихотворения Фабра д’Эглантена. Не исключено, что и в основе послания «К Нине» лежит какой-то (пока не обнаруженный) иностранный источник. Как бы то ни было, перед нами явно экспериментальные опыты по созданию любовной лирики принципиально нового для русской поэзии типа[224]224
Об экспериментальном характере стихотворения «К Нине» свидетельствует, между прочим, и его стихотворный размер – нерифмованный четырехстопный амфибрахий со сплошными женскими клаузулами – стих, уникальный не только для тогдашней поэзии Жуковского, но и вообще для всей русской поэзии начала века. М. Л. Гаспаров связывает распространение в ней амфибрахия с балладой, в частности с балладами Жуковского (1814–1816). По его мнению, выход амфибрахия «за пределы балладного жанра» происходит у того же Жуковского – в «Теоне и Эсхине» (Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М.: Наука, 1984. С. 119, 120. Между тем, как видим, дело обстояло несколько иначе: размер впервые апробируется как раз в лирике и из нее приходит в балладу (характерно, что «Теон и Эсхин» в жанровом отношении – промежуточная форма).
[Закрыть].
Они очень тесно связаны с религиозно-этическими исканиями Жуковского 1800-х гг. В эту пору Жуковский-поэт пытается преодолеть остро ощущаемую трагедийность жизни посредством argumento ad religionis – опоры на общепринятые религиозные ценности. Однако религия, воспринятая как авторитетная система представлений, но не пережитая лично, парадоксальным образом оказывается (по крайней мере, до середины 1810-х гг.) формой рационалистического обоснования оптимизма. В самой своей религиозности Жуковский еще остается сыном 18 столетия.
В послании «К Нине» религиозный постулат – вера в бессмертие – делается аргументом для рационалистического снятия проблемы страдания в любви, ибо в обетованном трансцендентном соединении любящих земная любовь не только продолжится, но и обретет наконец свое идеальное претворение. Разумеется, к реально-эмпирическому пласту биографии Жуковского все это имело весьма отдаленное отношение: все, что нам известно о тогдашних биографических обстоятельствах поэта, говорит о том, что его настроения и эмоции были далеки от безмятежного спокойствия. В поэзии довоплощалось то, что не удавалось воплотить в жизни. Результатом поэтического воплощения новой «идеологии любви» оказалось создание новой формы медитативной любовной лирики. Это было некое боковое движение в сторону от элегии: центральный элегический мотив – утраты, «не-обладания» – оказывался здесь устраненным. Устранялся и эротически-чувственный момент, что позволяло переключить тему в чисто спиритуальный модус и облегчить ее оптимистическое (так сказать, «антиэлегическое») решение.








