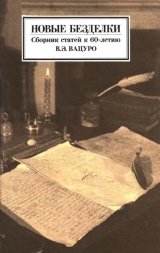
Текст книги "Новые безделки: Сборник к 60-летию В. Э. Вацуро"
Автор книги: Сергей Фомичев
Соавторы: Вячеслав Иванов,Ольга Муравьева,Юрий Левин,Михаил Строганов,Андрей Зорин,Александр Лавров,Алексей Песков,Илья Серман,Ирина Чистова,Л. Лейтон
Жанры:
Языкознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 37 страниц)
Еще более важной и еще менее приемлемой была для Булгарина основная идеологическая концепция пушкинской трагедии. «Борис Годунов», с историософской точки зрения, одно из самых пессимистических произведений Пушкина. В основе его постоянное противопоставление власти и народа. Булгарин был прав, когда писал в «Записке», что «дух целого сочинения <т. е. пушкинской трагедии. – М.А.> монархической». В пору работы над «Годуновым» Пушкин, вслед за Карамзиным, считал монархию естественной, единственно приемлемой для России формой правления. Проблема заключалась в отношении народа к царю[562]562
Очень интересные и не утратившие до сих пор своей ценности наблюдения над проблемой народа в «Борисе Годунове» сделал Г. А. Гуковский в книге «Пушкин и проблемы реалистического стиля». К сожалению, на этой книге, написанной в 1948 году, лежит тяжелый отпечаток сталинской эпохи (10).
[Закрыть]. Здесь, с точки зрения Пушкина, и крылась трагедия. Борис был добрый, умный и хороший царь. Однако народ не приемлет никакой власти. Он склонен к разрушению, бунту, анархии. Поэтому народ ненавидит Бориса и поддерживает другого царя. Сам Борис это хорошо понимает:
Народ всегда к смятенью тайно склонен…
Бывают моменты, когда анархия побеждает. Таким было «смутное время», приближение которого все время ощущается в трагедии (читатель очень хорошо знает, что последует за воцарением Самозванца). Эти моменты истории угрожают полной гибелью всему народу, который, восставая против власти, бессознательно к этой гибели стремится. (Так в творчестве Пушкина подготавливается знаменитая формула «Капитанской дочки»: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»)
Свергая одного царя, народ тут же готов вступить в конфликт со следующим. Поэтому в сущности неважно, завершает ли трагедию авторская ремарка:
Народ безмолвствует
или (как было в беловой рукописи) крик народа:
Обе концовки в сущности одинаковы: обе предрекают новый бунт, новую анархию и всеобщую гибель. Получается дурная бесконечность: воцарение при одобрении народа – восстание – гибель царя – новое воцарение – одобрение народа – гибель… Из этой бесконечности нет и не может быть выхода.
Булгарин использовал пушкинскую концепцию, но упростил и примите визировал ее. В основу его романа положена мысль о сходстве между обоими протагонистами. Они равны в том, что оба являются узурпаторами престола. Оба не царской крови. (Для Пушкина эта проблема никакой роли не играла!) Отсюда меняются все акценты при обращении к теме народа. Народ у Булгарина не «к смятенью тайно склонен», как у Пушкина, а искренне привязан к царю, но только при условии, что в жилах государя течет потомственная царская кровь.
Борис у Булгарина, как у Пушкина, жалуется на непостоянство, переменчивость народа: «Это стадо, которое ревет радостно на тучной пажити, но не защитит пастыря от волков. Знаю я народ! Божество его – сила! В чьих руках милость и кара, тот и прав перед народом. Сегодня он славит Царя Бориса, а пускай завтра мятежный боярин возложит венец на главу свою, и заключит Бориса в оковы, – народ станет поклоняться сильному и забудет о слабом» (5, ч. I, 235). Конечно, все это гораздо примитивнее, чем та фатальная вражда народа к царю, о которой говорит Пушкин, но в речах пушкинского Бориса мы слышим сходные жалобы:
Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умеют только мертвых —
Безумны мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше!
К ним примыкает и обмен репликами между Басмановым и Борисом:
Всегда народ к смятенью тайно склонен <…>
Конь иногда сбивает седока <…>
Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ <…>
<…> милости не чувствует народ:
Твори добро – не скажет он спасибо;
Грабь и казни – тебе не будет хуже.
Если у Пушкина противостояние царь – народ заложено в самой природе власти, то, с точки зрения Булгарина, речь идет о частном случае: незаконном захвате власти узурпаторами. И только поэтому народ восстает на царя: «Так было во все времена, у всех народов <…> где на престоле не было царской крови» (5, ч. I, 235).
И у Пушкина, и у Булгарина Самозванец рассуждает о характере русского народа: как он может воспринять переход к католицизму. Пушкинский Самозванец говорит о пассивности и терпимости народа (что, с точки зрения Пушкина, справедливо, пока не начинается бунт):
Я знаю дух народа моего;
В нем набожность не знает исступленья:
Ему священ пример царя его.
Всегда, к тому ж, терпимость равнодушна.
У Булгарина Самозванец основывает свою силу на том, что в его жилах, в отличие от Бориса, течет кровь царей: «Вы не знаете русского народа, почтенные отцы, если сомневаетесь в успехе моего дела. Привязанность к царской крови сильнее в нем всех других душевных ощущений…» (5, ч. III, 33).
Чья же царская кровь, если прямые потомки Рюрика вымерли, а престол последовательно захватывается двумя узурпаторами, может привлечь к себе любовь и доверие народа? Это Романовы, по родству своему с царствующим домом претендовавшие на престол после смерти Федора, и потомки которых царствуют ныне.
Трагическая пушкинская коллизия разрешается у Булгарина в перспективе его романа избранием истинного, по крови, царя, что дает ему возможность рассыпать безвкусные панегирики царствующему дому на страницах своего сочинения. Так, даже с точки зрения Годунова, «Романовы, по родству своему с иссякшим родом Рюриковым, более всех думают иметь права к венцу царскому» (5, ч. II, 10). Вместо трагического пушкинского финала роман Булгарина заканчивается восхвалением царствующей династии – истинной спасительницы отечества: «Россия до тех пор не будет великою и счастливою, пока не будет иметь Царя из законного царского рода. Господи, сохрани Святое племя!.. Этому племени принадлежит Россия, им только она успокоится и возвеличится! Боже храни Романовых для блага Церкви и отечества!» (5, ч. IV, 504–505).
Булгарин получил перстень за верноподданнический дух своего произведения. Возможно, это произошло в результате ходатайства Бенкендорфа, который писал царю: «Если бы Ваше Величество прочли это сочинение <т. е. „Димитрия Самозванца“. – М.А.>, то вы нашли бы в нем много очень интересного и в особенности монархического, а также победу лигитимизма. Я бы желал, чтобы авторы, нападающие на это сочинение, писали в том же духе…» (13, 499) Самому же царю роман не понравился (8, 272). Николая, видимо, покоробила безвкусная лесть Булгарина.
Пушкин же был разъярен. Полемика с еще не напечатанным «Борисом Годуновым», напрямую содержащаяся во вступлении к роману и явственно ощутимая в его тексте, побуждала его несколько раз браться за перо. Он видел искажение своих идей в романе Булгарина, прямое подражание и явные, хотя и трудно доказуемые заимствования.
Нас, однако, не интересует сейчас анализ ожесточеннейшей полемики между Пушкиным и Булгариным, которая достаточно хорошо, по крайней мере с фактической стороны, изучена в пушкинской литературе, хотя обычно не учитывается, что обе стороны мало считались с приличиями и этическими нормами. Обратимся к литературным проблемам, непосредственно связанным с романом Булгарина.
Из пушкинского круга вышла эпиграмма, высмеивавшая притязания Булгарина на место русского Вальтер Скотта:
Все говорят: он Вальтер Скотт,
Но я, поэт, не лицемерю.
Согласен я: он просто скот,
Но, что он Вальтер Скотт, – не верю.
(18, 437)
Булгарину она, несомненно, была известна, и он вполне мог предполагать, что автором был Пушкин. Характерно, что впервые эпиграмма была опубликована Герценом в 1861 г. под именем Пушкина (18, 831). На подобном же каламбуре основана еще одна более слабая эпиграмма на Булгарина, явившаяся, очевидно, тоже вскоре после появления «Самозванца» и построенная на том же противопоставлении великому романисту его слабого подражателя:
Романтик, балагур, шотландец
Ввел подражанье за собой:
Вдруг Выжигин и Самозванец
Явились на Руси святой.
Писатель гордый, издавая,
Мнил быть наш новый Вальтер Скотт.
К чему фамилия двойная?
Ему довольно, повторяя,
Одной последней без хлопот.
(18, 435)
Вокруг имени Вальтера Скопа и называемом или подразумеваемом его сопоставлении с русским автором и шло в печати обсуждение «Димитрия Самозванца». Как уже упоминалось, в марте 1830 года в «Литературной газете» появилась отрицательная рецензия Дельвига. Булгарин считал ее принадлежащей Пушкину и был прав в том отношении, что рецензия, несомненно, отражала и точку зрения Пушкина и мнение всего пушкинского круга.
Дельвиг считает, что в романе нет духа истории. Хотя автор и знает эпоху, но герои его напоминают «кукол, одетых в мундиры и чинно расставленных между раскрашенными кулисами», а не «людей живых и мыслящих»; «выдержанных же характеров нет ни одного». Приговор, вынесенный роману, беспощаден и не очень справедлив: «…скучный, беспорядочный сбор богатых материялов, перемешанных с вымыслами ненужными, часто оскорбляющими чувство приличия» (11, 218–220).
Таким образом, с точки зрения Дельвига, автор «Димитрия Самозванца» никак не может претендовать на титул русского Вальтера Скотта. И тем интереснее один из упреков, сделанных Булгарину и который на деле как раз и показывает его близость к традициям Скотта. Дельвиг между прочим пишет, обвиняя Булгарина в отсутствии патриотизма (чего на самом деле уж никак нельзя сказать о нашем авторе!): «…мы извиним в нем повсюду выказывающееся пристрастное предпочтение народа польского перед русским. Нам ли, гордящимся веротерпимостию, открыть гонение противу не наших чувств и мыслей? Нам приятно видеть в г. Булгарине поляка, ставящего выше всего свою нацию; но чувство патриотизма заразительно, и мы бы еще с большим удовольствием прочли повесть о тех временах, сочиненную писателем русским» (11, 219).
По отношению к Булгарину это замечание Дельвига, вообще сильно попахивающее доносом, абсолютно несправедливо. Булгарин был одним из очень немногих русских писателей, в произведениях которого нет национальной спеси, ксенофобии, стремления возвеличить своих соплеменников поляков или русских за счет других национальностей. Он отмечает воинственность поляков, их любовь к битвам и отвращение к измене, обману и предательству (5, ч. III, 22). В то же время говорит и о насилиях и жестокостях, чинимых польским сбродом в Москве после воцарения Лжедимитрия. Даже русские люди, не любящие чужеземцев, замечают у Булгарина: «Немцы умеют служить верно. Честные люди, жаль, что не православные» (5, ч. IV, 481). В то же время Булгарин нигде не показывает превосходства поляков над русскими, в чем обвинял его Дельвиг. Уже упоминавшийся рецензент «Московского вестника» защитил Булгарина от этих нападок: «Говорят, что он изобразил поляков с лучшей стороны, чем русских. Это несправедливо» (28, 191).
В национальной терпимости, толерантности, отсутствии национальной спеси Булгарин был ближе к Скотту, чем другие русские писатели. Нападки Дельвига задели его за живое. Он уделил полемике с ним большую часть (14 страниц из 30) предисловия ко второму изданию романа. И не случайно, защищаясь от этих обвинений, Булгарин обращается к авторитету сначала Тацита, поставившего в образец римлянам чистоту германских нравов, а потом Скотта: «В романах Вальтера Скотта единоземцы его не всегда играют блестящие роли, французы также не разгневались на него за то, что он представил эпоху Лудовика XI в черных красках» (6, ч. I, XXX–XXXI).
На Скотта Булгарин сознательно ориентировался в своем романе, именем Скотта он защищался от нападения критиков: «Нет ни одного лучшего романа Скотта, где бы не было таких мест, которые читатель, по своему вкусу, не находил скучными и длинными. <…> У меня почитают важным недостатком то, что восхваляется в Вальтере Скотте…» (6, ч. I, LIV–LV).
На самом деле только болезненно самолюбивому и нетерпимому Булгарину критика казалась жестокой и несправедливой. Большинство статей были скорее благосклонными. Только отношение пушкинского круга к Булгарину оставалось непримиримо враждебным.
С «Димитрия Самозванца» начинается беспрецедентная по резкости и взаимным оскорблениям борьба Булгарина и Пушкина. Унимать разошедшегося Булгарина пришлось самому царю, который в марте – апреле 1830 г. писал Бенкендорфу: «В сегодняшнем номере „Пчелы“ находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина; к этой статье наверное будет продолжение; поэтому предлагаю Вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения; и, если возможно, запретите его журнал» (17, 123).
«Журнал» (т. е. газета «Северная пчела») запрещен не был, может быть, в результате заступничества Бенкендорфа. Ожесточенная полемика продолжалась. Однако она уже не имела отношения к историческим романам Скотта. Николай же продолжал относиться к Булгарину с некоторой брезгливостью и явной неприязнью. Гораздо позднее, в 1851 году, он приказал сделать ему строгое внушение, высказал подозрение в его лояльности и обещал впредь помнить его проступки (17а, 90–91).
Питтсбург
ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеев М. П. Русско-английские литературные связи (XVIII век – первая половина XIX века). / Лит. наследство. Т. 91. М., 1982.
2. Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984.
3. Базанов В. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск, 1949.
3а.Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 1.
4. Булгарин Фаддей. Сочинения. М., 1990.
5. Булгарин Фаддей. Димитрий Самозванец. СПб.: В типографии Александра Смирдина, 1830. Ч. 1–4.
6. Булгарин Фаддей. Димитрий Самозванец. Изд. 2-е, исправленное. СПб., 1830.
7. Винокур Г. О. Кто был цензором «Бориса Годунова». – Пушкин: Временник пушкинской комиссии. 1. М.; Л., 1936.
8. Гозенпуд А. А. Из истории общественно-литературной борьбы 20-х – 30-х годов XIX в. («Борис Годунов» и «Димитрий Самозванец»). – Пушкин. Исследования и материалы. Т. VI. Л., 1969.
9. Городецкий Б. П. Кто же был цензором «Бориса Годунова» в 1826 году. – Русская литература. 1967. № 4.
10. Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957.
11. Дельвиг А. А. Сочинения. Л., 1986.
12. Левин Ю. Д. Прижизненная слава Вальтера Скотта в России. – Эпоха романтизма. Л., 1975.
13. Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. <…> СПб., 1909.
14. Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. М., 1982.
15. Пушкин. Полн. собр. соч. Т. VII. <Пробный>: Драматические произведения. Изд. АН СССР, 1935.
16. Пушкин. Полн. собр. соч. Т. I–XVI. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1937–1949.
17. Рейтблат А. И. Булгарин и III отделение в 1826–1831 гг. – Новое литературное обозрение. 1993. № 2.
17а.Рейтблат А. И. <Публикация> Три письма Ф. В. Булгарина. – Новое литературное обозрение. 1994. № 6.
18. Русская эпиграмма второй половины XVII – начала XX в. Л., 1975 (Библиотека поэта, б.с.).
18а.Скотт Вальтер. Собр. соч.: В 20 т. М.; Л., 1960–1965.
19. Скрынников Р. Г. Борис Годунов. М., 1978.
20. Скрынников Р. Г. Самозванцы в России в начале XVII века. Новосибирск, 1987. С. 113–146.
21. Смирнова-Россет А. О. Воспоминания. Письма. М.: Правда, 1990.
22. Столпянский П. Н. Пушкин и «Северная пчела». – Пушкин и его современники. Вып. XXIII–XXIV. Пгр., 1916 (Reprint: Mouton, The Hague-Paris, 1970).
23. Ушаков Василий. Димитрий Самозванец. Соч. Ф. Булгарина. – Московский телеграф. 1830. Ч. 3. № 6, март. С. 226–233.
24. Шильдер Н. К. Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Т. 1–2. СПб., 1903.
25. Johnson Edgar. Sir Walter Scott. The Great Unknown. New York: The Macmillan Co, 1970.
26. Mejszutowicz Zofia. Powesc obyczajowa Tadeusza Bulharyna. Polska Akademia Nauk, 1978.
27. Welsh Alexander. The Hero of the Waverley Novels. 2-nd ed. Princeton, 1992.
28. W. W. Еще несколько слов о Димитрии Самозванце. – Московский вестник. 1830. Ч. 2. № 6. С. 187.
В. А. Мильчина, А. Л. Осповат
Пушкин и «Записки» Екатерины II
(Заметки к теме)
Для целей настоящих заметок нет необходимости детально характеризовать всю допечатную историю «Записок» Екатерины II. Сейчас нам важно напомнить лишь о том, что при жизни Пушкина текст французского оригинала, хранившийся в архиве Зимнего дворца, держался в секрете даже от членов царствующей фамилии, но между тем количество копий «Записок» (восходивших к той, что снял кн. А. Б. Куракин, воспользовавшись доверием Павла I) постепенно возрастало, о чем лучше всего свидетельствует наличие большого числа разночтений в сохранившихся рукописных экземплярах[564]564
Подробнее см.: Теребенина Р. Е. Копия «Записок» Екатерины II из архива Пушкина. – Временник Пушкинской комиссии. 1966. Л., 1969. С. 8–22; Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII – первой половины XIX в.: От рукописи к книге. М., 1991. С. 212–214, 217–218; Эйдельман Н. Я. Восемнадцатое столетие в изданиях Вольной русской типографии. – Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии. <…> Справочный том. <…> М., 1992. С. 167–194 (в основе этого раздела лежит статья: Мемуары Екатерины II – одна из раскрытых тайн самодержавия. – Вопр. ист., 1968. № 1. С. 149–160; под слегка укороченным заглавием включена в посмертный сборник автора: Эйдельман Н. Я. Из потаенной истории России XVIII–XIX веков. М., 1993. С. 154–180).
[Закрыть]. И если вплоть до начала 1838 г. верховная власть не пыталась изъять ходившие в публике списки, то хотя бы отчасти это может быть объяснимо щепетильностью их владельцев: копирование (да и чтение) мемуаров императрицы происходило при соблюдении разумных мер предосторожности, и не случайно, например, упоминания о «Записках» Екатерины II столь редки в переписке первой трети XIX в., включая наиболее конфиденциальные ее разделы.
Кажется, только Пушкин нарушал эту конвенцию.
1
С текстом «Записок» он познакомился, вероятно, еще в Одессе (т. е. во второй половине 1823 – начале 1824 г.); собственной же копией (переписанной Д. Н. Гончаровым и Н. Н. Пушкиной, по-видимому, с одного из принадлежавших А. И. Тургеневу экземпляров) он обзавелся скорее всего в 1831–1832 гг.[565]565
См.: Теребенина Р. Е. Указ. соч. С. 11–13, 19.
[Закрыть], когда естественное читательское любопытство тесно переплелось с его профессиональными потребностями историка XVIII века[566]566
Об этой сфере его интересов см., напр.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Пушкин и книга Вяземского о Фонвизине. – Новонайденный автограф Пушкина. <…> М.; Л., 1968. С. 58–119.
[Закрыть]. Примерно в это же время куратором архивных занятий Пушкина назначается Д. Н. Блудов (с февраля 1832 г. министр внутренних дел). Последний только что закончил порученный ему императором разбор накопившейся массы важнейших рукописных документов, рассредоточенных по разным хранилищам[567]567
См.: Русский биографический словарь. СПб., 1908. Т. Бетанкур-Бякстер. С.96; Фейнберг И. Незавершенные работы Пушкина. Изд. б-е. М., 1976. С. 107–113.
[Закрыть]: в ходе этих занятий обнаружился и оригинал мемуаров императрицы, который по распоряжению Николая I был теперь перемещен в архив Коллегии иностранных дел[568]568
См.: Эйдельман Н. Я. Восемнадцатое столетие в изданиях Вольной русской типографии. С. 178.
[Закрыть]. Контакты Блудова и Пушкина как раз в 1832 г. приобретают достаточно доверительный характер (новый министр, в частности, исхлопотал высочайшее разрешение на издание газеты «Дневник»), и кажется весьма вероятным, что их беседы отразились в следующем пассаже из рукописной редакции Предисловия к «Истории Пугачевского бунта»:
«Дело о Пугачеве находится в Сенат.<ском> Арх.<иве>. – Там хранятся драгоцен.<ные> историч.<еские> памятники. Ныне царств.<ующий> им.<ператор>, по своем восшествии на престол подавший великий пример откровенности, приказал привести их в порядок. – Важные бумаги, некогда государственные тайны, ныне превратившиеся в историч.<еские> материалы, были вынесены из подвалов Сената, где три наводнения посетили их и едва не уничтожили. – (Новейшая Росс.<ийская> ист.<ория> спасена Николаем I-м).»
Утверждая здесь тождество буквального и метафорического смыслов слова спасение, Пушкин дает соединенную оценку и реальной акции – выносу «важных бумаг» из сырых подвалов, и ее желаемому (но вовсе не подразумевавшемуся в условиях николаевского режима) следствию – переводу ранее секретной и потому не обследованной документации в ранг исторического источника, доступного обзору, анализу и рефлексии. Из возвращаемых на поверхность материалов Пушкин называет лишь следственное дело о Пугачеве, хотя почти несомненно, что он мог бы составить целый перечень «блудовских» находок[570]570
Подобным перечнем мы не располагаем и до сих пор. Из материалов по екатерининскому веку, обнаруженных Блудовым, укажем хотя бы на собственноручно составленный императрицей проект закона о том, чтобы дети крепостных, рожденные после 1785 г., считались свободными (см.: Рус. архив. 1865. Изд. 2-е. Стлб. 643; примеч. П. И. Бартенева), и на «подлинные современные бумага», документирующие биографию княжны Таракановой – от ее поимки гр. А. Ф. Орловым и до смерти в Алексеевском равелине (см.: Лонгинов М. Заметка о княжне Таракановой. – Там же. Стлб. 651–656).
[Закрыть], среди которых был и автограф «Записок» Екатерины II. Предисловие к «Истории Пугачевского бунта» датировано 6 ноября 1833 г., а уже менее чем через месяц, 4 декабря, в пушкинском дневнике появляется запись, под другим углом зрения оценивающая степень сохранности основных источников по «новейшей истории»: «Государыня пишет свои записки… Дойдут ли они до потомства? Елисавета Алекс.<еевна> писала свои, но они были сожжены ее фрейлиною; Мария Федоровна также. – Государь сжег их по ее приказанию. – Какая потеря!» (XII. 316).
В конце января 1834 г., вернув рукопись Предисловия и первых пяти глав «Истории Пугачевского бунта»[571]571
См.: Петрунина Н. Н. Вокруг «Истории Пугачева». – Пушкин: Исслед. и материалы. Л. 1969. T. VI. С.236.
[Закрыть] со своими замечаниями (на взгляд автора, «очень дельными»: XII. 320), государь разрешил публикацию книги. Вскоре, на масляничном бале 25 февраля, Николай I имел с Пушкиным долгий и доброжелательный разговор (см.: Там же), по ходу которого тема спасенных/исчезнувших исторических памятников могла быть затронута не только в общем плане (хотя бы в связи с тем, что император вычеркнул из Предисловия фразу о спасенной им истории; см.: IX/1. 411[572]572
По этой причине, а также ввиду того, что Пушкин хотел избежать неточности в наименовании архивохранилищ (см.: Зенгер Т. Николай I – редактор Пушкина. – Лит. наследство. М., 1934. Т. 16/18. С. 513), в окончательном тексте второй абзац Предисловия подвергся сокращению (ср.: IX/1. 3).
[Закрыть]), но и по одному вполне частному поводу.
Как представляется, контекст данного разговора в наибольшей степени располагал Пушкина признаться в том, что он владеет копией «Записок» Екатерины II, а Николая I – достаточно благосклонно воспринять и это сообщение, и даже некоторые соображения касательно этого памятника. Для нас, впрочем, важно установить не столько конкретную дату[573]573
В 1834 г. Пушкин встречался с государем еще несколько раз – 4 марта, 23 апреля и 16 декабря (см.: XII. 320, 327–328, 334). Еще одна беседа состоялась 17 января, на балу у графа А. А. Бобринского (см.: XII. 319), но очень сомнительно, чтобы Пушкин завел с императором речь о «Записках» Екатерины II до его одобрения «Истории Пугачевского бунта».
[Закрыть], сколько сам факт подобного объяснения, который безусловно относится к 1834 г., ибо уже 8 января 1835 г. в дневник Пушкина заносятся строки: «В.<еликая> кн.<ягиня> взяла у меня Записки Екатерины II и сходит от них с ума» (XII. 336).
Если, как до сих пор принято, считать, что передача копии «Записок» великой княгине Елене Павловне (жене младшего брата императора) произошла без ведома Николая I, то роль Пушкина в этом эпизоде должна описываться по аналогии с прожженным контрабандистом, промышляющим фамильными тайнами правящей династии в непосредственном окружении императора. Однако такого рода акция, совершенно не укладывающаяся в рамки отношений Пушкина с Николаем I, выглядит тем более неправдоподобной в ситуации, когда только благодаря высочайшему цензору выходит в свет «История Пугачевского бунта» (в конце 1834 г.) и автору уже обещана аудиенция в Зимнем дворце, во время которой он намеревался преподнести государю первый экземпляр книги и рукописный экземпляр «Замечаний о бунте», а также испросить разрешение прочитать наконец следственное дело о Пугачеве (см. переписку с А. Х. Бенкендорфом и А. Н. Мордвиновым от декабря 1834 – января 1835 г.: XV. 201–202, XVI. 7).
Возвращаясь к пушкинской записи от 8 января 1835 г., обратим внимание, что ее грамматический строй оттеняет инициативу именно великой княгини (она взяла у меня, а не я дал ей). Таким образом, проясняется этикетная сторона дела: осведомленный о наличии у Пушкина собственной копии мемуаров императрицы, Николай I – в нарушение общего правила – разрешил своей невестке ознакомиться именно с этим текстом (любые манипуляции с оригиналом привели бы к ненужной огласке); обращаясь же к Пушкину, Елена Павловна, разумеется, сослалась на полученную высочайшую санкцию.
2
Предполагаемое объяснение с Николаем I по поводу «Записок» Екатерины II отразилось не только в рассмотренном эпизоде, но и в тексте, над которым Пушкин работал в конце 1834 г.
Прямую – и внешне не мотивированную – отсылку к этому секретному документу находим в «Замечаниях о бунте», адресованных лично государю (и доставленных ему в конце января 1835 г. через Бенкендорфа; см.: XVI. 7–5). Упоминание в «Истории Пугачевского бунта» о «симбирском коменданте, полковнике Чернышеве», повешенном в ноябре 1773 г. после того, как его отряд, шедший на выручку осажденному Оренбургу, был разбит мятежниками (глава III: IX/1. 29–31)[574]574
Об этом реальном эпизоде см.: Дубровин Н. Ф. Пугачев и его сообщники. СПб., 1884. Т.2. С. 105–110.
[Закрыть], Пушкин сопроводил следующим – шестым, по общему счету, – замечанием:
«Чернышев (тот самый, о котором государыня Екатерина II говорит в своих записках) был некогда каммер-лакеем. Он был удален из Петербурга повелением императрицы Елисаветы Петровны. Императрица Екатерина, вступив на престол, осыпала его и брата своими милостями. Старший умер в П.<етер>Б.<урге> комендантом крепости.»
(IX/1. 372, ср. черновую редакцию: IX/2. 475)
Этот пассаж, далеко уводящий от собственно пугачевской темы, как и вообще от темы русского бунта[575]575
Об общей установке на независимость текста «Замечаний от „Истории Пугачевского бунта“» см.: Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия <…> Изд. 2-е. М., 1984. С. 194. – Отметим попутно наше расхождение с автором книги в общей характеристике шестого замечания: мы полагаем, что здесь имеет место не «приглашение царя к разговору» о секретной истории XVIII в. (см.: Там же. С. 198–199), но продолжение уже начатого разговора.
[Закрыть], требует особого внимания.
Начнем с того, что история опалы трех братьев Чернышевых, до мая 1746 г. состоявших камер-лакеями великого князя Петра Федоровича, освещена в двух редакциях «Записок» Екатерины II – второй и четвертой (по нумерации, принятой в академическом издании Я. Л. Барскова и А. Н. Пыпина[576]576
См.: Барское Я. Предисловие. – Соч. императрицы Екатерины II <…> / С объяснит, примеч. акад. А. Н. Пыпина. СПб., 1907. Т.12. C.I–XIII.
[Закрыть]). В четвертой редакции, наиболее пространной и чаще всего публиковавшейся, этот сюжет концентрируется вокруг фигуры Андрея (Гавриловича) Чернышева: любимец великого князя, он навлек на себя подозрения императрицы Елизаветы после того, как вошел в полную доверенность к Екатерине. В результате изгнанию подвергся и сам Андрей Чернышев, и два его младших кузена (Петр и Алексей Матвеевичи); последние, однако, присутствуют в тексте лишь в качестве фоновых персонажей, не имеющих даже собственных имен[577]577
См.: Там же. С. 237–240 (оригинал); Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии. Записки императрицы Екатерины II. М., 1990. С. 44–47 (перевод).
[Закрыть]. Вторая редакция «Записок» существенно осложняет подоплеку изгнания Чернышевых. Здесь уже Петр Матвеевич выставлен объектом ревности наследника престола, однако супружеский упрек Екатерина парирует крайне двусмысленной репликой: она удивлена, что «ужасная клевета» связывает ее имя с Петром, а не с «красавцем» Андреем Чернышевым, пристрастие к которому она разделяет вместе с великим князем[578]578
См.: Соч. императрицы Екатерины II. Т.12. С. 86–87 (оригинал).
[Закрыть].
Самое любопытное, что пушкинская копия соответствует как раз четвертой редакции «Записок», где не сообщается имя Петра Матвеевича – того самого Чернышева, который впоследствии был назначен симбирским комендантом и в этом качестве упомянут в «Истории пугачевского бунта» и в «Замечаниях о бунте»[579]579
Сводки данных об А.Г. и П. М. Чернышевых см.: Оболенский М. Исторические замечания. – Рус. архив. 1865. Изд. 2-е. Стлб. 991–996; Лонгинов М. Заметка о Чернышевых. – Там же. Стлб. 1004–1009; Русский биографический словарь. СПб., 1905. Т. Чаадаев-Швитков. С. 307–308; 330–331.
[Закрыть]. Обнаружив этот факт, Р. Е. Теребенина с полным основанием усомнилась в том, что Пушкин вообще держал в руках вторую редакцию «Записок» Екатерины II, которая представлена лишь в одной из всех известных нам копий[580]580
См.: Теребенина Р. Е. Указ. соч. С.20.
[Закрыть].
Дело, однако, заключается в том, что сведения о Чернышевых, восходящие ко второй редакции «Записок», Пушкин почерпнул из промежуточного источника. Среди его бумаг сохранилась запись устного рассказа И. И. Дмитриева (предположительная дата – лето 1833 г.): «Полковник Чернышев был тот самый, о котором Екатерина II говорит в своих записках. Он и брат его были любимцы Петра III, который сделал одного полковником и дал ему полк, а второго подполковником. Екатерина пожаловала первого бригадиром и сделала П.<етер>б.<ургским> комендантом, а брата его полковником и комендантом Симбирским…» (IX/2. 497; неточности в описании службы братьев при Петре III не оговариваются – см. литературу, указанную в примеч. 16[581]581
В файле – комментарий № 579 – прим. верст.
[Закрыть]).
Тот самый – формула, уместная в устах именно Дмитриева, который читал наиболее полную копию «Записок» Екатерины II, включавшую в том числе вторую редакцию[582]582
В мае 1822 г., обещая угостить Дмитриева «Записками» Екатерины II, Карамзин уведомлял его, что А. Тургенев хранит копию, сделанную непосредственно с «экземпляра куракинского» (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С.327, 329) – т. е. самого раннего и полного списка этого памятника.
[Закрыть] (в юности переживший в Симбирске пугачевщину, он отлично помнил и о драматической участи коменданта города[583]583
См. в его мемуарах «Взгляд на мою жизнь» (Дмитриев И. И. Соч. СПб., 1893. Т. II. С. 10).
[Закрыть]). Перенесенная же в пушкинский текст, эта формула приобрела новые смысловые грани.
3
Основанное на рассказе Дмитриева, шестое замечание вводит в рукопись тему екатерининского фаворитизма, которая далее развивается не только в тринадцатом и четырнадцатом замечаниях (см.: IX/1. 373–374; ср. особенно не вошедший в основной текст «Замечаний» «анекдот о разрубл.<енной> щеке» А. Г. Орлова: Там же. 479–480), также базирующихся на свидетельствах пушкинских современников[584]584
Источник тринадцатого замечания – рассказ кн. А. Н. Голицына, который мог быть известен Пушкину в передаче П. А. Вяземского или А. И. Тургенева (ср.: Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. С. 204–205); источник «анекдота о разрубл.<енной> щеке» – рассказ П. В. Долгорукова (см.: Овчинников Р. В. Записи Пушкина о Шванвичах. – Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1991. T. XTV. С. 240–245).
[Закрыть], но и в восьмом замечании, где (как и в «Истории Пугачевского бунта») поведение А. И. Бибикова изображено по контрасту с нравами этого института (см.: Там же. 372–373).
Вместе с тем шестое замечание может быть осмыслено в более широком контексте, которому принадлежит и состоявшаяся в том же декабре 1834 г. беседа Пушкина с великим князем Михаилом Павловичем о «старинном дворянстве» (см.: XII. 334–335). Производя идентификацию «того самого Чернышева» (Петра) и его брата (Андрея), автор как бы отделяет их от других Чернышевых и напоминает о сохраняющейся с екатерининских времен оппозиции двух ветвей этого рода – «низкой» и «высокой».
В имплицитной форме эта оппозиция присутствует уже в «Истории Пугачевского бунта»: на той странице, к которой дана ссылка в шестом примечании (см.: IX/1. 29), в тесном соседстве фигурируют имена несчастного симбирского коменданта Чернышева и «графа З. Г. Чернышева». Потомственный граф и военачальник (второй сын генерал-аншефа Григория Петровича Чернышева, начинавшего, впрочем, с денщика Петра I), в период Семилетней войны сделавшийся персонажем песенного фольклора[585]585
Песня «Чернышев в плену» (см.: Русская историческая песня. Л., 1987. С. 245–247, 492–493) сохраняла популярность и в пушкинскую эпоху (см.: Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С.9).
[Закрыть], Захар Григорьевич (1722–1784) также ходил в фаворитах Екатерины, в эпоху пугачевщины был генерал-фельдмаршалом и президентом Военной коллегии, а позднее стал московским генерал-губернатором. Под конец жизни, исходатайствовав высочайшее дозволение, Чернышев основал первый в России фамильный майорат, унаследованый его племянником, «одним из самых любезных людей в свете»[586]586
Жихарев С. П. Записки современника. T. I. Дневник студента. Л., 1989. С. 102.
[Закрыть], обер-шенком графом Григорием Ивановичем (1762–1831). С семьей последнего Пушкин состоял в дальнем родстве; детям обер-шенка – сыну, графу Захару Григорьевичу (1797–1862), участнику декабристского заговора, и шести дочерям – он приходился четвероюродным братом.
«Низкая» ветвь Чернышевых в пушкинское время была представлена прежде всего фигурой Александра Ивановича (1786–1857)[587]587
Он был сыном генерал-поручика и сенатора Ивана Львовича Чернышева (1736–1793), биографическую сводку о котором открывает примечательная констатация: «о его происхождении и родственных связях существуют самые противоречивые сведения, но определенного ничего нет» (Русский биографический словарь. Т. Чаадаев-Швитков. С.325). См. также примеч. 29 /в файле – комментарий № 593 – прим. верст./.
[Закрыть], взысканного милостями двух императоров. Сделав военно-придворную карьеру при Александре I (генерал-лейтенант и одновременно генерал-адъютант), он еще более возвысился в царствование Николая I: в 1832–1852 гг. – военный министр (управлял министерством с 1827 г.), с 1826 г. – граф, с 1841 г. – князь, с 1849 г. – светлейший князь. От прочих сановных особ А. И. Чернышева отличала на редкость одиозная репутация; достаточно сказать, что в отчете III Отделения за 1829 г. военный министр аттестовался как «предмет ненависти публики, всех классов без исключения»[588]588
Красный архив. 1930. Т. 1(38). С. 129 (публикация А. Сергеева).
[Закрыть]. Скандальную известность приобрели отношения Александра Ивановича с наследниками графа З. Г. Чернышева. Его претензии на аристократическое родство были демонстративно отвергнуты еще в ходе следствия над декабристами («Как, кузен, и вы состоите в числе виновников»? – спросил он Захара Григорьевича. На что последовала реплика: «Быть может, я и виновен, но я вам не кузен»[589]589
Дружинин Н. М. Семейство Чернышевых и декабристское движение. – Дружинин Н. М. Избр. труды: Революционное движение в России в XIX в. М., 1985. С.347.
[Закрыть]), а в 1828 г., когда Александр Иванович попытался завладеть Чернышевским майоратом (на который осужденный Захар Григорьевич утратил свои наследственные права), этот иск не получил поддержку ни в Кабинете министров, ни у самого императора. В начале 1832 г., спустя год после смерти Г. И. Чернышева, вакантный майорат был присужден мужу его старшей дочери Софьи Григорьевны – И. Г. Кругликову, который по такому случаю получил титул графа Чернышева-Кругликова.
Отношение Пушкина к А. И. Чернышеву (с которым в 1833 г. он вступил в официальную переписку по поводу выдачи материалов из архива Военного министерства; см.: XV. 47, 51, 54) отражают строки из дневниковой записи от 2 апреля 1834 г.: «Закон говорит именно, что раз забаллотированный <в Английский клуб. – В.М., А.О.> человек не имеет уже никогда права быть избираемым. Но были исключения: гр. Чернышев (воен.<ый> министр) и Гладков (об.<ер->полицмейстер). Их избрали по желанию правительства, хотя по первому разу они и были отвергнуты» (XII. 323). Упоминание об инциденте, к тому времени потерявшем всякую актуальность (принудительное избрание А. И. Чернышева в Английский клуб относится к 1831 г., а через год он выбыл из состава его членов[590]590
См.: Дневник А. С. Пушкина. 1833–1835 / Под ред. с объяснит, примеч. Б. Л. Модзалевского. М.; Пг. 1923. С. 124.
[Закрыть]), свидетельствует об устойчивости той негативной характеристики военного министра, которую Пушкин опирал в том числе и на показания других Чернышевых.








