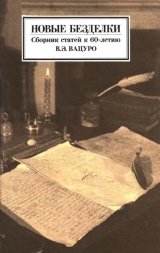
Текст книги "Новые безделки: Сборник к 60-летию В. Э. Вацуро"
Автор книги: Сергей Фомичев
Соавторы: Вячеслав Иванов,Ольга Муравьева,Юрий Левин,Михаил Строганов,Андрей Зорин,Александр Лавров,Алексей Песков,Илья Серман,Ирина Чистова,Л. Лейтон
Жанры:
Языкознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 37 страниц)
На следующей стадии толстые журналы (первым была «Библиотека для чтения») начинают выплачивать довольно высокий гонорар практически всем авторам (кроме дебютантов), причем по твердой ставке.
Следовательно, эпоха альманахов – это период перехода от кружка и салона (как основных форм организации литературной жизни) к журналу. Альманах явился средством профессионализации литературы, налаживания новых типов связей внутри литературной среды и между писателями и публикой, с одной стороны, и расширения читательской аудитории, приучения сравнительно широких слоев образованного «класса» населения к чтению художественной литературы – с другой. Трудно переоценить его вклад в переориентацию читательского интереса с зарубежной на отечественную литературу. Когда появилось достаточное количество литераторов-профессионалов, ориентирующихся на получение денег за свой труд и достаточное число читателей, готовых платить за возможность читать их сочинения, возникла возможность создать журналы, в основе которых была бы отечественная словесность. В середине 1830-х гг. наступил конец альманашной эпохи и на первый план вышел толстый журнал («Библиотека для чтения», «Отечественные записки», «Современник» и др.), кардинально отличающийся по своему характеру как от альманаха, так и от журнала первой трети XIX в.[409]409
О смене альманаха толстым журналом см.: Белкина М. А. «Светская повесть» 30-х годов и «Княгиня Литовская» Лермонтова. – Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Сб. 1. М., 1941. С. 516–551.
[Закрыть]
Новой читательской аудитории (помещичьим семьям) толстый журнал подходил как нельзя лучше, т. к. давал много разнородного (для разных членов семьи) материала для чтения, причем не нужно было тратить специальных усилий на его приобретение, поскольку он доставлялся по почте.
Правда, альманах вскоре возродился, но уже на иной основе – как толстая книга большого формата, состоящая из прозаических произведений. Судьба этого нового, иного по характеру альманаха – это уже, как говорится, «совсем другая история».
Москва
М. А. Турьян
Владимир Одоевский и Лермонтов: К истокам религиозных споров
К концу 1820-х – началу 1830-х годов относятся несколько неосуществленных «итальянских» замыслов Одоевского; П. Н. Сакулин, крупнейший знаток его творчества, даже выделил их в особый «итальянский» цикл[410]410
Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. В. Ф. Одоевский. Мыслитель. – Писатель. Т. 1. Ч. 2. М., 1913. С. 5–18.
[Закрыть]. Среди этих замыслов несомненный интерес представляет история об отшельнике Виченцио и святой Цецилии, сохранившаяся в нескольких развернутых, сюжетно разработанных отрывках: мы располагаем, согласно пометам самого Одоевского, началом, серединой повести и еще двумя совершенно отделанными главами, по которым можно составить достаточно полное представление о художественно-философских идеях, заложенных в произведении[411]411
См. публикацию текста повести в приложении к наст. статье.
[Закрыть].
Действие повести разворачивается в монастыре святого Бернарда, в виду печальных, погруженных в могильную тишину альпийских гор. Инок Виченцио – некогда любомудр, исполненный высоких помыслов, посвятивший себя поэзии и живописи, постигнувший «волшебное сродство мысли с выражением», теперь, «уже не на заре лет», разочаровавшись в жизни, не понятый и отвергнутый людьми, ищет прибежища в монастыре – в его «беззаботном» бытии, в «слепой покорности чужой воле», и с «сладострастием отчаяния» следит, как постепенно свинцовым сном засыпает его душа. Однажды нечаянным движением руки он отдирает со стены своей кельи кусок старых обоев, и неожиданно его взорам предстает прекрасное изображение святой Цецилии, писанное «с древнею простотою» рукой неизвестного, но великого мастера. Однако умершее сердце инока остается глухим к магической силе явленной ему святой, поразившей воображение его собратьев. Тем не менее невольное постоянное созерцание Цецилии делает свое дело, и Виченцио вдруг с ужасом осознает, что подчинен необоримой власти таинственной фрески, «небесному спокойствию», выраженному на лице мученицы – в его застылой душе зашевелились угасшие было чувства. Отлученный от света, изведавший все злополучие жизни отшельник влюбляется в Цецилию он одержим земной, едва ли не преступной страстью, его дух «воспрянул ото сна», прошедшее явилось ему «в новом образе». В помыслах он посвящает Цецилии подвиги борьбы за веру и открытия новых таинств природы. Он снедаем муками любви и безумной надеждой соединиться, слиться со своей призрачной возлюбленной в этом или том мире. В одну из тяжких ночей приснился Виченцио странный, несбыточный сон. Он увидел себя в цюзной Венеции, посреди мора и болезней, себя – и святую Цецилию в серой рясе сестры милосердия, спасающую страждущих. Доведенный до отчаяния, Виченцио открывается ей в своих чувствах, его страстные речи исполнены богопротивного призыва презреть неверные «людские алтари» – он отвергает их власть над собой, ибо она враждебна его непобедимому желанию жить и действовать, желанию испытать судьбу, которая, быть может, уготовила им «минуты блаженства». Ради этих минут он готов восстать на человеческие предрассудки – он признает над собой верховенство одной только «Всезиждущей Силы». Гневные напоминания Цецилии о святой Церкви и святом долге, разделивших их «бездною», звучат для инока не более как «идолопоклонством» и означают лишь отвержение его земной, плотской любви. Он говорит Цецилии о приближающемся часе освобождения, о часе, когда спадут сковывающие его цепи, он верит в твердую волю человека, которой подвластно все – стоит только пожелать, все – кроме собственной души его, находящейся во власти Сущего, истинного, а не кажущегося, подобно людским законам, Властителя; именно он, Властитель, по убеждению Виченцио, и «сводит людей, разлученных пространством, и соединяет их души для таинственной цели»; он же возбуждает в человеке мысли, чувства, невольные побуждения. Отвергаемый богопослушной Цецилией, Виченцио призывает ее тогда хотя бы умереть вместе, соединиться у того края, «где исчезают бренные приличия жизни», где умолкает «голос суетных законов, изобретенных людьми для собственного страдания». «С сей минуты, – говорит он, – во имя Всевышней Силы, возносящейся над всеми однодневными людскими мнениями, я торжественно обручаюсь с тобою; я приношу тебе в брачный подарок жизнь мою, цель моих помышлений, весь жар чувств и всю умственную деятельность, которою одарила меня Природа! С сей минуты – ты моя невеста и никому не можешь принадлежать более!..»[412]412
ОР РНБ, ф. 539 (В. Ф. Одоевского), оп. 1, пер. 80, л. 523 об.
[Закрыть]
Две завершенные главы повести, о которых говорилось выше, значатся под номерами второй и четвертой. Последняя из них, на первый взгляд, никак не соотносится с отчетливо выстроенным и пересказанным нами сюжетом. Она носит название «Характер» и действительно представляет собой психологическую разработку характера – но уже светской Цецилии, существующей как бы в двух ипостасях: женщины «природной», живущей в согласии с естественными законами бытия и сердечных побуждений, и «искусственной», подчинившейся фальшивым установлениям света. К этой главе мы еще вернемся.
К моменту возникновения замысла «Виченцио и Цецилии» тема монастыря и монашества была уже хорошо известна европейской литературе, в том числе романтической, и достаточно ею разработана – причем «амплитуда колебаний» в трактовках простиралась от «Рене» Шатобриана с его идеей спасительной силы монастыря и, кстати, с героем, отмеченным глубокой рефлексией, до страстно отрицающей самый институт святой обители, равносильной «тюрьме», «Монахини» Дидро. Связанная с нею русская романтическая традиция, как известно, отразила то же противоборство позиций. Однако в ряду называющихся здесь обычно имен (Жуковский, И. Козлов с его «Чернецом» с одной стороны, Лермонтов – с другой) имя Владимира Одоевского до сих пор не фигурировало: ни одно из опубликованных его произведений не давало к тому достаточных оснований. Недосказанная же история Виченцио и Цецилии не привлекала к себе внимания исследователей. Между тем здесь есть еще один крайне важный момент, на котором хотя бы в коротких словах необходимо остановиться: речь идет об особых жизненных обстоятельствах Одоевского, скорее всего стимулировавших этот его художественный замысел и уж во всяком случае несомненно повлиявших на его концепцию. Мы имеем в виду один из самых, пожалуй, драматических эпизодов жизни писателя – его долгий и мучительный роман с Надеждой Николаевной Ланской – судя по всему, женщиной незаурядной; вторым ее мужем был кузен жены Одоевского Павел Петрович Ланской. Этот брак, связавший Надежду Николаевну родственными и дружескими узами с семейством Одоевских, относится к самому концу 1820-х – началу 1830-х годов. Тогда же и вспыхнуло в Одоевском запретное и, в конечном итоге, роковое для него чувство[413]413
Подробнее об Н. Н. Ланской и Одоевском см.: Турьян М. А. «Странная моя судьба…» О жизни Владимира Федоровича Одоевского. М., 1991. С. 265–279; 322–348.
[Закрыть]. Первые трагические отголоски его, по собственному признанию писателя, проникли на страницы «Себастияна Баха» (1834), причем замечательно, что уже здесь им сопутствует «итальянская» тема, ознаменованная отнюдь не декоративно-романтическими, но «биологическими» чертами: молодой итальянец Франческо, возбудивший страстное чувство в жене Баха Магдалине, по версии Одоевского, полуитальянке, пробуждает в ней прежде всего «голос крови». Это было началом интенсивно развившихся впоследствии позитивистских воззрений писателя, под влиянием которых традиционные романтические представления о «южном» и «восточном» этносе как знаке волевых и иррациональных начал были переосмыслены с точки зрения естественнонаучной, физиологической. Вместе с тем новелла озарена и явственным религиозным чувством, и не свойственным ранее Одоевскому пиететом перед высшими божественными силами и неотвратимостью божественной кары.
Почти с абсолютной уверенностью можно утверждать, что к этому же времени относится и работа Одоевского над сюжетом о Виченцио и Цецилии, который также несет на себе явную печать его личной «злополучной» ситуации и отражает пережитые им «все степени нравственного страдания», известные по его переписке тех лет с А. И. Кошелевым[414]414
Там же. С. 265–266.
[Закрыть]. Четвертая, впрямую не связанная с общим сюжетом глава повести, о которой шла речь выше, по несомненному сходству характерологических черт «светской» Цецилии с Ланской, представляет собой не что иное, как попытку художественно-психологического осмысления неординарной личности последней. Бунт Виченцио, одержимого «преступной», как и его создатель, страстью, против «людских алтарей», бунт, не усмиренный даже напоминанием Цецилии о святом долге и Церкви, отмечен безусловными чертами автобиографизма.
Возникновение этого замысла для Одоевского – человека, приверженного религии, – интересно уже само по себе. Однако есть здесь и иной, на первый взгляд неожиданный, аспект, этот интерес удваивающий. Дело в том, что работа писателя над «итальянской» повестью совпадает по времени с независимым зарождением «монастырской» темы в творчестве Лермонтова, с которым, однако, несколькими годами позднее автор «Виченцио и Цецилии», по его собственному признанию, вел «религиозные споры». Совершенно очевидно, что нет никаких оснований предполагать здесь (мы имеем в виду начало тридцатых годов) какое-либо взаимное влияние. Тем симптоматичнее представляются кажущееся внешнее сходство и обозначившиеся впоследствии принципиальные различия в трактовке означенного сюжета.
В 1829–1830-м годах Лермонтов пишет поэму «Исповедь», в которой впервые прозвучала тема «монастырской тюрьмы». Она получает в творчестве поэта дальнейшее настойчивое развитие: 1832–1834-й годы – «Вадим», 1835–1836-й – «Боярин Орша» и, наконец, 1839-й – «Мцыри». Сквозная, все углубляющаяся разработка первоначальной идеи, движущейся, как кажется, к открытому богоборчеству, уже достаточно изучена и проанализирована. Между тем основная причина конфликта лермонтовского героя, насильственно или волею судеб заключенного в монастырские стены, с институтом святых отцов, утвержденным «рукою неба», коренится все же в первую очередь в вольнолюбии невольного затворника, в его стремлении к полнокровной жизни, согласной с естественными природными, а не принудительными церковными законами. Этой теме сопутствует сложный комплекс проблем, главные из которых – вопросы о добре и зле и о свободе воли в философском их понимании, – то, что составляло и предмет пристального внимания Одоевского.
Итак, уже в установках «Виченцио и Цецилии» и «Исповеди» обнаруживаются признаки совпадений. Любопытно, что один из ранних набросков повести Одоевского тоже строился в форме исповеди Виченцио; его протест также направлен против пут, налагаемых церковью и подавляющих его личность, свободу деятельности и чувств. Оба героя вступают в дерзкое, богохульное противоборство с церковными узаконениями в результате овладевшей ими «преступной» любви, оба готовы принять за свое вероотступничество смерть. Не случайно этот мотив переходит потом у Лермонтова в «Боярина Оршу». Вместе с тем в сознании писателей явно присутствует и общая дифференцирующая мысль, отделяющая истинно божественное от его рукотворной подмены. «Не говори, что Божий суд // Определяет мне конец. // Все люди, люди, мой отец…» – говорит герой и «Исповеди», и «Боярина Орши». Именно это убеждение позволяет им презреть «монастырский закон» и жить, и судить себя самого по «не менее святому» закону собственного сердца. Та же мысль доминирует и у Виченцио. Понимание «людских алтарей», которое вкладывает в его сознание Одоевский, по смыслу ближе всего, пожалуй, к тому, что говорится в Первой книге Царств – в возражениях Самуила Саулу по поводу жертвоприношений Богу. Возражения эти сводятся к тому, что Богу приятнее внутренние движения души, нежели внешний обряд. Исполнять этот обряд против Его воли значит поклоняться не Богу, а кумиру, впадать в идолопоклонство[415]415
Ветхий Завет. Первая книга Царств. Гл. 15, ст. 22–23.
[Закрыть].
Однако в отпадении лермонтовских героев и Виченцио Одоевского есть существенная разница: первые идут в своем отрицании до конца, отвергая выдумки об аде и рае, о «божьей казни», которая в их глазах не что иное, как «неправая казнь», творимая все теми же людьми – святыми отцами, уповающими на то, что кровь вероотступника послужит им «ступенью новой к небесам» и отопрет райские врата. Виченцио в своем бунте против церкви так далеко не заходит. Восстав на «людские алтари», он признает все же над собой власть не только собственного сердца, но и «Всезиждущей Силы». Если при этом помнить, что, согласно Новозаветному учению, Бог есть одновременно и глава Церкви – не в храмовом ее значении, но как собрания молящихся, то становится ясным следующее: формула «людские алтари» очень точно отражает отношение Одоевского не к Богу вообще, а к учрежденному людьми институту церкви, подчас произвольно толкующему истинное вероучение – в толковании его и кроется в данном случае основной конфликт. Именно поэтому Виченцио не отрицает, подобно Арсению, «тот» мир и верит в возможность соединения со своей возлюбленной по обе стороны бытия, тогда как для Арсения «жизнь – ничего, а вечность – миг!» В творчестве Одоевского это, пожалуй, единственное свидетельство его «толстовского» отношения к церкви, генетически по отношению к Толстому и его учению представляющее немалый интерес.
Познакомившись, очевидно, в 1838 году, Одоевский и Лермонтов особенно тесно сближаются в последние три года жизни поэта, причем Одоевский проявляет к творчеству друга острейший интерес. Богоборческий «Демон» стал ему известен не позднее начала 1839 года – кстати, через посредство Н. Н. Ланской, суда по всему, входившей в эту пору в близкое лермонтовское окружение[416]416
Подробнее см.: Турьян М. А. «Странная моя судьба…» С. 324–325.
[Закрыть]. Между тем тема «монастыря» не оставляет обоих. Но если у Лермонтова она получает сквозное развитие, то у Одоевского образ отшельника вновь возникает после значительного перерыва – в качестве первоначального замысла самой мистической повести писателя «Косморама»: «В Космор<аме> представить олицетворенные борения, которые испытывает отшельник, так что для него есть поле для самопожертвования, для гордости, для скупости и проч. т. п.»[417]417
Цит. по: Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1829–1840 гг.). Л., 1990. С. 626.
[Закрыть]. При этом нельзя не обратить внимания на тот существенный факт, что идея «Косморамы» возникает в том же, что и «Мцыри», 1839 году и что оба писателя реализуют свои замыслы практически одновременно, с несвойственной обоим быстротой – летом того же года. Однако здесь есть одно любопытное «но»: Одоевский в итоге от намеченного сюжета отказался, и в окончательном варианте повесть строится на совершенно ином, бытовом, материале. Тем не менее основная мысль в ней полностью сохранена: действие движется не только сменой внешних обстоятельств, но в равной мере внутренним «борением» героя и участием в его судьбе сопутствующих персонажей, воплотивших идеи самопожертвования, гордости и т. д. Сюжетный стержень повести – все та же «преступная» любовь, на этот раз к замужней женщине, и воспоследовавшая за это высшая – мистическая или божественная – кара. Не менее важно также, что «борения» испытывал в это время и сам писатель. Его отношения с Ланской, не имевшие выхода, двигались к драматической развязке. Как явствует из их переписки, как раз в эту пору они были заняты совместным усиленным изучением Священного писания. Символично, что в одной из коротеньких записок Надежды Николаевны к Одоевскому – очевидно, начала января 1839 года – его упоминание непроизвольно оказалось в соседстве с именем Лермонтова: «Вот, кузен, Священное писание. Очень прошу в двух словах сообщить новости о тете и возвратить „Демона“ Лермонтова, которого я обязана отдать без промедления»[418]418
Цит. по: Турьян М. А. «Странная моя судьба…» С. 324.
[Закрыть].
Одоевский все более проникался идеей христианского смирения, и его провиденциальные настроения с поразительной силой вылились на страницы «Косморамы», пронизанной автобиографическими мотивами. Между нею и незавершенной «итальянской» повестью обнаруживается глубокая связь: оба произведения отразили один и тот же автобиографический «сюжет» – роман Одоевского с Ланской, причем отразили его начало и конец. Только этим можно объяснить и отказ писателя от повторения сюжетной схемы с «отшельником»: логика развития личных обстоятельств и возобладавшие теперь умонастроения потребовали иного, не только психологического, но и художественно-философского и религиозного осмысления жизненной первоосновы. Правда, религиозный отсвет ложится на сложнейшую концепцию повести опосредованно, он – «за кадром», но безусловно ощущается как очень важная сверхзадача. Не случайно единственно возможный путь к катарсису, указанный герою в конце повести – это путь духовного очищения, на который призывает его София – олицетворенная мудрость божества; под знаком ее, кстати, пришло христианство на Русь. Мы имеем в виду предсмертные слова одной из героинь повести, Софьи: именно ей отведена роль носительницы высшей истины и – божественного откровения, прозвучавшего в ее последнем призыве к Владимиру: «Высшая любовь страдать за другого <…> чистое сердце – высшее благо; ищи его».
Нельзя не вспомнить при этом, что повесть была посвящена Е. П. Ростопчиной – поверенной сердечных тайн Одоевского и, между прочим, ближайшей приятельнице Лермонтова. И вряд ли случайно незадолго перед тем именно ей пишет Одоевский исповедальное письмо о том, что было у него «за душою» и затем в художественных образах воплотилось в «Космораме» – пишет о «высокой любви к Богу». Это письмо, до сих пор в печати полностью неизвестное, – документ, быть может, в своем роде единственный, ибо никогда ранее – да и позже – Одоевский, по собственному его признанию, не формулировал столь открыто и стройно самое сокровенное, то, что почитал «важнее всего в жизни» – свое духовное, религиозное кредо, его теософский и практический смысл, которым он не только руководствовался в жизни, но который пронизал и его творчество. Все это имеет прямое, важнейшее отношение к нашей теме, проливая на нее едва ли не самый яркий свет. Поэтому, невзирая на пространность письма, мы приводим его полностью.
<В. Ф. Одоевский – Е. П. Ростопчиной>[419]419
ОР РНБ. Ф. 539, оп. 1, пер. 95, лл. 120–127, авторизованная копия, с датой: 1838. Адресат письма не указан, но, по справедливой атрибуции П. Н. Сакулина и содержанию самого письма, им могла быть только Ростопчина: графиня, писательница, конфидент Одоевского; Ростопчины владели под Воронежем имением Анна, куда уехали на лето 1838 г. Письмо могло быть скорее всего написано как раз в летние или осенние месяцы, так как зиму 1838 года Ростопчина проводила в Петербурге и оставалась там по крайней мере до конца апреля (датой: «Петербург. 26 апреля 1838 года» помечена ее запись в черновой тетради Пушкина, подаренной ей Жуковским – см.: Ростопчина Е. П. Талисман. М., 1987. С. 7). Осенью того же года у нее родилась дочь Лидия. См. также: Сакулин П. Н. Указ. соч. Ч. 1. С. 453, прим. 5.
[Закрыть]
1838 г.Вы просили меня написать в Ваш альбом что-нибудь позадушевнее
<здесь и далее выделено в тексте. – М.Т.>. Вы сим словом задали мне претрудную задачу: что бы я ни написал Вам в Вашей книжке такого, что бы соответствовало ее назначению, было бы, разумеется, от души, но не то, что за душою; я (без всякой игры слов) обманул бы Вас против моего желания. Я принимаю Ваш вызов, как невольное Вам внушение из другого, лучшего мира; может быть, тайное, необъяснимое человеку в его скудельной жизни чувство выговорило за Вас это слово, требуя, чтобы я был для Вас проводником к нему самому, как грубый свинцовый водопровод доставляет жаждущему чистую, прозрачную струю. Язык мой Вам покажется странным, смешным – я боялся этого, боялся не смеха, но того, что не буду иметь довольно способностей, чтоб говорить Вам о том, что я считаю важнее всего в жизни. Но покоряюсь тому внутреннему чувству – после долгого борения надеюсь, что Тот, кому все открыто в сердце и жизни человека, даст силу и крепость словам моим. Прочитавши далее эти строки, Вы увидите, что их нельзя написать в альбом по той же причине, почему я никогда не говорил почти никому и даже Вам о том, что Вы прочтете теперь. Есть мысли, есть чувства, которые, как цветы ночной красавицы, могут расцветать только в тишине, а не во время светских сует и страстей. Предмет, о котором я буду говорить Вам, велик и важен, он наполняет мою жизнь, руководит моими поступками, отражается в моих сочинениях и потому я истинно могу назвать его задушевным. Слушайте:Однажды в Вашем кабинете я увидел две книги в богатом переплете, вроде молитвенников. На вопрос мой Вы отвечали: «Это мое Евангелие». Я посмотрел, то были Гюго и Байрон. Я не сказал Вам ни слова, ибо надобно было бы говорить много; но между тем я, извините, пожалел об Вас. Если бы Вы, графиня, были как те женщины, которые состоят из блонды и греха, я бы замолчал навсегда, ибо мои слова были бы для Вас вечною тарабарскою грамотою. Но в Вас зарождено другое высшее чувство, Вам знакомо то состояние духа, которое не приобретается, но дается свыше, Вам дано пиитическое дарование и, как я уже Вам говорил однажды, не даром. Здесь не ищите комплимента, напротив, слова мои упрек и упрек жестокий. Что сделали Вы с Вашим талантом? Развили ли Вы во всем великолепии ту Божественную искру, которая хранится в Вашей душе? Ваши литературные успехи в этом отношении ничего не значат; они удовлетворили Вашему тщеславию – только; но удовлетворили ли Вашему духу?
Сойдите внутрь себя и Вы сознаетесь, что они так же не удовлетворяют Вашей душе, как Байрон и Гюго не удовлетворяют тем высоким и умственным вопросам, которые как бури подымаются в нашем сердце. Пробегите Вашу жизнь, вспомните те минуты безутешной скорби, которая иногда является Бог знает откуда или привязывается к самым ничтожным житейским неприятностям. Это состояние духа знакомо всем, но в особенности людям недюжинным. Его называют сплином, нервной болезнию, апатией, чем Вам угодно, и стараются заглушить его в вихре светской суеты, сухими изысканиями науки, поэтическими образами, наконец, отчаянием, изуверством, страстями, даже самыми низкими! В эти минуты, скажите, удовлетворит ли Вас Байрон? Нашли ли Вы в нем полную отраду, которая бы освежила, исцелила Ваш дух? Нет! Он сам был под гнетом своих страстей, своей гордости и им приносит на жертву свое светлое пылкое чувство! Сего мало: он умертвил это животворное чувство на алтарю сомнения, придал поэтический отблеск своему преступлению! Байрон был самоубийцею прежде своей смерти и других учит тому же самоубийству! Несмотря на свой поэтический талант, он не знал той живительной силы, которая сокрыта в глубине души человека! При помощи этой силы человеку проясняется его назначение, его обязанности, она доставляет то спокойствие, которое одно может облагородить дух человека, она доставляет ему те наслаждения, которые истребляют житейскую горечь, она вводит его в мир чудный, до того ему неизвестный. Эта сила, повторяю, в сердце человека и нигде более; надобно только уметь ее вызвать. Вызвать же ее дело не трудное, но вместе и не легкое; оно зависит от той степени воли, до которой возвысился человек, ибо эту первоначальную, живую, естественную нашу силу заглушают в нас и воспитание, и образ жизни, и книги, и всего более наши страсти. Вы, верно, ожидаете вслед за сим что-либо мистическое, сансимонисткое, гуманитарное, неохристианское или что-нибудь в том же роде, изобретенное людьми, которых тревожило беспокойное внутреннее чувство и которые, не следуя единому узкому пути, забрели в лабиринт безвыходный! Нет! мои слова просты и безыскусственны, я решусь их выговорить: один путь к душевному спокойствию, к истинной силе, к высокому наднебесному состоянию духа, к пространнейшему развитию дарований, один путь, который низводит Небо в душу человека! Название этого пути так просто, так обыкновенно, так часто было употреблено с насмешкой, оно: Вера!
Я столько Вас уважаю, что уверен: Вы не засмеетесь, прочитавши это слово. Этим одним словом я поведал Вам важную (к сожалению, ныне) тайну, которую одни не понимают, другие не хотят знать, над которою остальные смеются или употребляют как орудие для низких замыслов и для личных выгод. Вера проста в своем основании, оно изображено четырьмя словами в Евангелии: любовь к Богу и любовь к ближнему. Дойдете ли Вы до этого чувства простым девственным порывом сердца, что всего лучше, или, как Лейбниц и Ньютон после тяжких усилий, когда ум человека, дошедши до высокой степени познания[*]*
Было: мщения.
[Закрыть], видит по-прежнему пред собою неизмеримое мрачное пространство и только один светильник: веру! Все равно, но второй путь труднее.Эти две любви, о которых так часто толкуют светские люди, как о вещи самой обыкновенной, обнимают вселенную! Под любовью к ближнему понимают одну благотворительность, то есть одну милостыню, а под любовью к Богу, кажется, просто ничего не понимают, ибо о ней собственно почти и не говорят. Вникните в высокий смысл этого изречения, и Вы изумитесь, в каком новом виде Вам представится вся жизнь человека и его обязанности, его звание в мире. Эти две любви тесно соединены между собою и одна без другой быть не могут; первая предполагает младенчество души (вспомните, что говорит Св. Писание о младенцах), вторая мудрость мужа. В сем двойственном состоянии человек поставлен в сей жизни на страже добра, и ни одно мгновение не должен предаваться животной дремоте. Посмотрите: все страдает в природе, начиная от человека до червя; один человек имеет силу утолить страдание природы; даже в низших слоях ее отымите руку человека – и природа гибнет; отымите человека от человека – человек едва ли существует.
После этого подумайте, как велико преступление того человека, который, забывая силу, ему данную для того, чтоб быть проводником добра в мире, употребляет эту силу для умножения страданий Твари! Подумайте, как велико преступление и того, кто свою силу зарывает в землю, ибо удаляться от добра, быть бесчувственным, недеятельным при виде страданий уже значит быть злым; большая часть людей злы и преступны сим последним способом, ибо, благодаря Бога, прямое зло принадлежит только редкой испорченности сердца. Но вы, которые почитаете себя добрыми, потому что, как вам кажется, вы не делаете зла, разберите каждый час в каждом дне вашей жизни: сколько раз вы забывали о своей стражде? Когда душа ваша была чистым, некорыстным младенцем? Посмотрите на ваши явные поступки, на ваши тайные побуждения, снимите эти тысячи личин, которые одна под другою скрывают от нас истинные причины наших действий – и вы ужаснетесь, сколько раз вы в грязь топтали ваше высокое звание человека! Когда руководила вас истинная любовь к Богу и человеку? Здесь побудителем вашим было тщеславие, здесь досада, здесь гордость, а более всего эгоизм, который отметает как бесполезное все то, что не приносит вам ни вещественной пользы, ни удовольствия. Вы сами, графиня, принимаясь за перо, всегда ли наполняетесь этой высокой любовью к Богу и человеку? Истину, которую Вы хотели возвестить людям, всегда ли пропускали чрез это горнило? Помышляете ли Вы о том, что лишь те чувства, те мысли, которые прошли невредимо сквозь этот палящий огонь, возвещать людям не есть преступление; что лишь такие мысли и чувства переживают века и магическою силою действуют на людей даже без их сознания? Ваше тщеславие, гордость, самолюбие не заглушали ли в Вас любви к человеку, к человеку, говорю, ибо сердце человека не должно иметь ограниченного пространства. Вопросы страшные, которые всякий должен себе делать ежедневно! Они приводят человека к важному чувству, необходимому условию всякого совершенствования, даже в низших степенях человеческой деятельности, к сознанию своего непрерывного несовершенства, к смирению! Да, графиня, к смирению, которого не знал или которое скрывал от себя и от других Байрон! Лишь тот, кто видит свою духовную нищету, лишь тот, кто скорбит о ней, может подвинуться далее! Каждый успех его должен быть поводом к смирению, если он хочет, чтобы этим успех был ступенью к высшему успеху. Смирение покажет ему его недостаток сведений и научит учиться с энтузиазмом, ибо добро неприступно человеку без сведений. «Творения Божии видимы и помышляемы суть», – говорит Апостол Павел. Лишь тот, кто знает, – имеет право на деятельность. Деятельность несовершенного знания, несмотря на доброе намерение, всегда слепа.
Смирение заставит человека спросить самого себя: как глубока в нем уверенность в том, что человеку не дано право делать зло другому, ни в каком случае? спросить себя: каждая ли его мысль, каждое ли чувство, каждое ли слово в течение дня имело предметом благо людей и возвышение себя к Источнику Мудрости? – ибо все другие мысли, чувства, слова или бесполезны (суть брошеный жемчуг), или и всего чаще преступны, ибо всякая бесполезная, суетная мысль, чувство, слово суть ступень к преступлению, хотя, по-видимому, находящемуся еще далеко; но взор человека, привыкшего читать в глубине души своей, легко видит, как из невинного по-видимому зерна может произрасти ядовитый плод. Сочинитель des «Mémoires du Diables»[*]*
«Les Mémoires du Diables». Paris, 1837–1838 («Мемуары дьявола») – роман Мелькиора Фредерика Сулье.
[Закрыть], отыскивая одни драматические эффекты, невольно попал на эту мысль, которая одна делает эту книгу замечательною.Наконец, смирение научит его еще важнейшей истине; человек, сравнивая свою жизнь, как она есть, с тем, чем бы она должна была быть, уверится скоро, что все его усилия мало ему помогут, если ему не будет помощи свыше; эта уверенность приведет его к необходимости – молиться! Да, графиня, молиться! Не смейтесь, Бога ради: я Вам поведал важную тайну, которую, как и Веру, многие не понимают, другие не хотят знать, остальные смеются. Многие довольствуются одною устною молитвою, без участия сердца, бросаются в ханжество, близкое идолупоклонству, просят богатства, честей и прочих благ земных, даже удовлетворения страстям самым нечистым. Я Вам говорю о простой христианской молитве, о молитве сердечной. Молитесь, вошедши в клеть свою и заперев двери, как говорит Евангелие, молитесь о просветлении ума, о чистоте сердца, молитесь более всего о том, чтобы Всевышний научил Вас молиться! Прибегайте к молитве, усмирив все страсти, отогнав все посторонние мысли, прибегайте к ней как младенец к груди матери, с самоотвержением, забвением всего и уверенностию, что одна молитва не пропадает, но растет и приносит плоды в невидимом человеку мире, но часто ощущаемом и в этой жизни. Тогда из этого мира является нежданно поэтическое вдохновение, не похожее на те минуты земного жара, которое часто принимают за вдохновение. Но такая молитва не так легка, как многие полагают! Они призывают Бога низойти в их сердце, но приготовили ли они Храмину для такого великого Гостя? Вы и с улицы не позовете человека, когда Ваш дом в беспорядке! Человек предается всем порывам страстей: зависти, злобе, разврату, обману, – топчет в грязь все святое, – в этом ли состоянии он хочет призвать на себя силу Божию? Вспомните Евангельскую притчу о том, кто пришел на брачный пир не в праздничной одежде. Вспомните в Ветхом Завете повествование об огне, который опалил прикоснувшегося к Кивоту нечистыми руками! Приступая к молитве, вспомните, исполнили ли Вы все долги Ваши и человека, и матери, и супруги, и владелицы низших Вас. Но сознание Вашего несовершенства не должно Вас останавливать, ибо Христос прощает семь раз семьдесят (символическое выражение, которое значит: несчетное число)! Самое несовершенство Ваше должно заставлять чаще прибегать к сему единственному отрадному художеству, как говорили святые отшельники.
Заключу немногими словами: молитва чистая, младенческая жизнь и благая деятельность (в пространнейшем смысле сего слова) – вот три занятия человека в его жизни! других для него нет! все другие суть мечта и призрак, не достойный внимания человека. Они одинаковы для всех людей, для царя и раба, для богача и нищего, для поэта и промышленника, в буре света и пустыне! Молю Бога, чтобы эти листы были прочитаны Вами с тем же чувством, с которым они написаны; и чтобы Всевышний придал им ту силу, которой я не умел дать им. Жалко, что не могу присоветовать Вам для чтения почти ни одной книги, в которой бы Вы нашли эти простые и высокие мысли представленными в большем развитии – таких книг наверное нет в Вашей библиотеке. Однако же, может быть, есть одна, и лучшая всех: Библия, в ней Вы найдете все нужное для жизни человека, особливо в Новом Завете, который яснее Ветхого, ибо к символам первого надобно иметь некоторую привычку.
_____________________
Может быть, в Воронеже Вы отыщете книгу под названием «Добротолюбие», 4 части in 4-о. Не испугайтесь ее церковной печати! В ней найдете много высокого, отрадного, поэтического – много такого, пред чем исчезнут все ребяческие мнения английских и французских так называемых философов. Особливо рекомендую в ней статью «О молитве молчания» – она, кажется, во 2-м томе – теперь ее у меня нет под руками.








