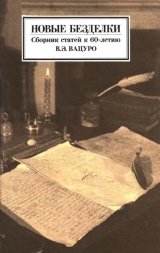
Текст книги "Новые безделки: Сборник к 60-летию В. Э. Вацуро"
Автор книги: Сергей Фомичев
Соавторы: Вячеслав Иванов,Ольга Муравьева,Юрий Левин,Михаил Строганов,Андрей Зорин,Александр Лавров,Алексей Песков,Илья Серман,Ирина Чистова,Л. Лейтон
Жанры:
Языкознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 37 страниц)
Вяч. Вс. Иванов
Откуда черпал образы Пушкин-футуролог и историк?
(Две заметки)
1. «НАПИШУТ НАШИ ИМЕНА»
Строчка из послания «К Чаадаеву» 1818 г.[844]844
О дате и политическом контексте стихотворения см. Томашевский 1990, т. 1, с. 170–163; ср. Скаковский 1978.
[Закрыть] представляет собою явно перифраз двух мест из «Повести временных лет»: «да испишють имена ихъ» (907 г., договор Олега с греками)[845]845
Шахматов 1916, с. 31–32, 54–55.
[Закрыть]; «да испишеть имена ваша» (944 г.). Обращаясь к Чаадаеву, Пушкин безусловно знал, что тот угадает, откуда взята формула, где заменена только глагольная приставка в соответствии с правильным переводом древнерусского «исписати» на современный язык. Первое, что приходит на ум при размышлении об источнике цитаты, – беседы с Карамзиным, с которым оба друга сблизились до написания пушкинского стихотворения: в 1816 г. летом Пушкин познакомился с Чаадаевым в доме Карамзиных, а 26 мая 1817 г. Чаадаев и Карамзин были у Пушкина (в день его рождения) в Лицее[846]846
Цявловский 1962, с. 112.
[Закрыть]. Карамзин в те годы трудился над изучением русских летописей, вводя в их мир читателей своей «Истории государства Российского». Друзья в то время критически оценивали это сочинение[847]847
С известной пушкинской эпиграммой (см. об ее авторстве: Томашевский 1990, т. 1, с. 205, там же на с. 194–203 об отношении к карамзинской «Истории» в кругу «Зеленой лампы») стоит сравнить более чем сдержанное суждение Чаадаева (Чаадаев 1991, т. 1, с. 456, датировка неясна), отличающееся от последующих все более положительных его суждений о покойном историке.
[Закрыть], но читали его и приведенные в нем выписки из текстов внимательно. О «жадности и внимании», с которым Пушкин прочел «в своей постеле» в феврале 1818 г. первые 8 томов карамзинской истории, он рассказал сам[848]848
Томашевский 1990, т. 1, с. 201; ср. о воздействии только что прочитанной карамзинской «Истории» на «Руслана и Людмилу» там же, с. 263, 300.
[Закрыть]. Но по отношению к Чаадаеву кажется вероятным и другой источник. В 1837 г. в «Апологии сумасшедшего» Чаадаев писал: «Пятьдесят лет тому назад немецкие ученые открыли наших летописцев»[849]849
Чаадаев 1991, т. 1, с. 532 (о датировке ср. Осповат 1992). Судя по этой формулировке с первыми изданиями русских летописцев (новгородского 1781 г. и др.) Чаадаев знаком не был.
[Закрыть]. Вероятно, что с русскими летописями Чаадаев еще в молодости познакомился по трудам Шлецера[850]850
О том, что Чаадаев знакомился с литературой конца XVIII века, касающейся ранней истории славян, свидетельствует книга Раич 1795 из его библиотеки (с надписью его рукой «Из книг Петра Чаадаева» и с вензелем «П: Ч:» на титульном листе). На полях с. 1–5 книги, где речь идет о скифах как славянах, содержится множество сугубо критических замечаний Чаадаева, которые будут описаны в другом месте. Вместе с тем книга свидетельствует о том, что историческая часть библиотеки Чаадаева сохранилась не полностью: на книге есть штамп «Международной книги»; из этой книготорговой экспортной конторы книгу в 30-х годах приобрел мой отец писатель Всеволод Иванов (скорее всего с помощью работавшего в этом учреждении М. К. Николаева, друга Е. П. Пешковой). Следовательно, часть библиотеки Чаадаева могла быть продана или во всяком случае была под угрозой продажи заграницу вместе с другими национальными сокровищами в начале сталинского времени. Поэтому каталог библиотеки Чаадаева, сохранившейся после этого опасного и для нее (как и для рукописей Чаадаева и для тех, кто, как Д. И. Шаховской, ими занимался) периода (Каталог 1980 и в этом же издании статьи З. А. Каменского и О. Г. Шереметевой; ср. Гречанинова 1978; Коган 1982; Тарасов 1985), и опубликованная часть записей Чаадаева на книгах, в ней хранящихся (Чаадаев 1991, т. 1, с. 582–626, 760–769), не дают полного представления о характере его чтения (особенно раннего, до продажи первой библиотеки).
[Закрыть], а в русский перевод его «Нестора», вышедший в 1809–1819, по его наущению мог заглядывать и Пушкин. Летописная параллель к приведенной строке заставляет думать, что русская история (о которой Чаадаев и Пушкин переписывались уже в зрелое время) могла изначально входить в круг тем разговоров двух друзей. В прошлом они пытались распознать черты будущего: как много лет спустя вспоминал о своих разговорах с Пушкиным Чаадаев, в них «каждая разумная и бескорыстная мысль чтилась выше самого беспредельного поклонения прошедшему и будущему»[851]851
Чаадаев 1991, т. 2, с. 273.
[Закрыть]. Формула летописи оказывалась моделью для предсказания грядущего. Так исподволь готовилось позднейшее увлечение Пушкина русской историей и древнерусской литературой. Следы этого видны вплоть до последних его сочинений, таких, как «Памятник», где в полустишии «всяк сущий в ней язык» снова отозвалась «Повесть временных лет»[852]852
Иванов 1994.
[Закрыть] с формулой «Се бо токмо словѣнескь язык в Руси»: как и в финале стихов «К Чаадаеву», летопись использована для проекции прошлого в будущее при описании посмертной славы поэта.
2. «…НОЧЬ МОЮ»
Стихотворение 1824 г. «Клеопатра», в переделанном виде позднее включенное в «Египетские ночи»[853]853
Бонди 1931; Томашевский 1990, т. 2, с. 311–320.
[Закрыть], было вдохновлено занятиями Пушкина римскими историками. В заключении статьи об этой стороне исторических занятий Пушкина М. М. Покровский писал: «Черновые наброски „Египетских ночей“ (правда, более позднего происхождения, чем импровизация „Чертог сиял“) показывают, что Пушкин читал Аврелия Виктора в связи с Тацитом и сумел выделить из него, как и из Тацита, наиболее существенное (разумеется, в согласии со своими текущими настроениями и литературными планами)»[854]854
Покровский 1909, с. 485–486; ср. Покровский 1939; Амусин 1941; Якубович 1941; Гельд 1923. Как показал Ю. М. Лотман, внимание Пушкина к тексту Аврелия Виктора привлек Руссо (Лотман 1993).
[Закрыть]. Приводимая самим Пушкиным цитата из Аврелия Виктора кончается словами «multi noctem illius morte emerint», что поэтом в прозе было пересказано так: «многие купили ее ночи ценою своей жизни»[855]855
Томашевский 1990, т. 2, с. 314; Малеин 1926.
[Закрыть]; очевидно, что содержание этого фрагмента передано в пушкинских строках:
Скажите, кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?
«Ее <Клеопатры> ночи» возникают снова в строке «Все таинства ее ночей» в пушкинских стихах 1835 г. (ср. «Ив сладких таинствах любви» в стихотворении «Бог в помощь вам, друзья мои»), когда он пишет «Египетские ночи», самим названием разъясняющие роль этого ключевого слова, и продолжает думать о сюжете, связанном с Клеопатрой и приуроченном к одной из нескольких ночей в составе «Повести о римской жизни»[856]856
Лотман 1992, где содержится в связи с этим убедительная критика замечаний Бонди и Томашевского.
[Закрыть].
Использованное в первом из стихотворений этого цикла в конце вопроса Клеопатры выражение «ночь мою» находит точное соответствие в поэме Стация «Фиваида» – «Thebais» (XII, 167), где вопрос Антигоны кончается словами «nocte mea» («в моей ночи»)[857]857
Statius 1980, р. 682. Ср. старинный комментарий, разъясняющий смысл этого притяжательного оборота: Placidi 1898, р. 476.
[Закрыть]. Этот римский поэт того позднего периода, который занимал Пушкина, был в его библиотеке. На принадлежавшем ему экземпляре французского перевода его «Ахиллеиды» и «Сильв» Пушкин написал шутливые стихи Керн, а та поставила свои инициалы в тот памятный день лицейской годовщины 19 октября 1828 г.[858]858
Модзалевский 1910, с. 342, № 1407 (см. на с. 343 воспроизведение пушкинского автографа «Вези, вези, не жалей» и «Мне изюм нейдет на ум» и записи Керн).
[Закрыть], когда после многолетнего перерыва Пушкин участвовал в ее праздновании и написал о его ходе шутейную грамоту, кончавшуюся пушкинским четверостишием, и в ту же ночь выехал в деревню. В 1828 г. Пушкин вновь возвращается к сюжету Клеопатры, впервые им поэтически выраженном в бытность его в Михайловском в 1824 г.
Но присмотримся ближе к словоупотреблению Стация и поэтов, с которыми его сближают. Кроме уже приведенного nocte mea в «Фиваиде» встречается noctem(que) tuam «(и) твоей ночью» (II, 650) в конце мольбы[859]859
Stace 1990, р. 51–52.
[Закрыть] и noster(que) dies «(и) наш день» (XI, 485)[860]860
Об этой и некоторых других параллелях к данному выражению в тексте поэмы Стация см. Statius 1970, р. 127.
[Закрыть]. Последний оборот соответствует фразе meus dies est «Мой этот день»[861]861
Перевод С. Ошерова: Сенека 1991, с. 42.
[Закрыть] в финале «Медеи» Сенеки (строка 1017). Словоупотребление же Стация и Пушкина ближе всего к выражению una nocte tua «на одну твою ночь» в «Фарсалии» Лукана (VIII, 113–114), которое современный комментатор находит «удивительным»[862]862
Lucan 1981, р. 101.
[Закрыть]. Но едва ли это замечание верно: число параллелей этому обороту оказывается достаточно значительным.
Каким образом Пушкин сумел воссоздать по-русски эту особенность языка римской поэзии занимавшего его времени? О Лукане и Сенеке он упоминает[863]863
Ср. Покровский 1939.
[Закрыть], о Стации специально ничего не говорит[864]864
Показательно, что, рассказывая о Кавказских воротах, ошибочно называвшихся Каспийскими, в «Путешествии в Арзрум» Пушкин упоминает Плиния (ссылаясь на ученые изыскания графа Потоцкого), но не говорит о том месте «Фиваиды» Стация (VIII, 290), где повествуется о Caspia limina, «Каспийских вратах» (Hollis 1994, р. 209), т. е. Дарьяльском ущелье, которым проходили аланы (Ковалевская 1984, с. 84). Скорее всего в это место «Фиваиды» он не заглядывал.
[Закрыть], хотя скорее всего заглядывал в его книгу хотя бы во французском переводе в своей библиотеке. Возможно, что один из названных авторов попался ему на глаза и один из приведенных оборотов он мог использовать. Но вероятно и другое: вчитывания в Аврелия Виктора оказалось достаточно, чтобы по его тексту восстановить характерную притяжательную конструкцию. Пушкинская интуиция достраивала парадигму («ее ночи» – «ночь мою»), если говорить терминами лингвистическими, а современный технологический метафоризм обозначил бы пушкинский прием как голографию, восстанавливающую целостный образ по его части.
Это касается не только грамматической сути латинской поссессивной конструкции, но и значения входящего в него слова nox «ночь». Говоря со слов Аврелия Виктора о Клеопатре, торговавшей своим телом, Пушкин употребляет слово «ночь» в эротическом смысле, обычном для латинской сексуальной лексики[865]865
Adams 1990, р. 178. Из авторов, которых заведомо читал Пушкин, такое словоупотребление отмечено у Тацита («Анналы», XIII, 44) и Овидия («Amores», I, 10. 47; I, 11. 13); встречается оно и у Сенеки. «Словарь языка Пушкина» этого специфического значения не фиксирует скорее всего из-за цензуры нравственности, обычной для советских словарей этого времени.
[Закрыть]. Не будем преувеличивать значения латинской образованности Пушкина. Знакомства с немногими авторами было достаточно для воссоздания стиля со всеми его особенностями, синтаксическими и лексическими: так чтение Петрония в последние годы жизни Пушкина помогло воссоздать строй латинской прозаической фразы в повести о римской жизни и примыкающих к ней отрывках[866]866
Толстой 1938. О воздействии чтения подлинника мениппеевой сатиры Петрония на стиль повести Пушкина ср. Лотман 1992, с. 453.
[Закрыть]. Приведенные примеры конструкций, сходных с пушкинской, у римских поэтов допускают двоякое истолкование: либо ставшее распространенным в последнее время интертекстуальное, при котором один из приведенных текстов признается непосредственно продолженным Пушкиным, либо транстекстуальное, когда по этим примерам мы можем видеть полноту пушкинского интуитивного проникновения в один из культурных стилей, им восстанавливаемых. Чудо пушкинского поэтического протеизма заставляет вспомнить слова Пастернака о необозримости сферы подсознательного у гения[867]867
Пастернак 1990, с. 45: «Чем замкнутее производящая индивидуальность, тем коллективнее, без всякого иносказания, ее повесть. Область подсознательного у гения не поддается обмеру».
[Закрыть].
Москва / Лос-Анджелес
ЛИТЕРАТУРА
Амусин И. Д. 1941. Пушкин и Тацит. – Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 6. М.-Л.
Бонди С. М. 1931. К истории создания «Египетских ночей». – Новые страницы Пушкина. М., с. 148–205.
Гельд Г. Г. 1923. По поводу замечаний Пушкина на «Анналы» Тацита. – Пушкин и его современники. Вып. 36. Пгр., с. 59–62.
Гречанинова В. С. 1978. Библиотека П. Я. Чаадаева. – Федоровские чтения. 1976. М.
Иванов Вяч. В. 1994. К истолкованию архаизмов в «Памятнике» Пушкина. – Лотмановский сборник. I. М.
Каталог 1980. Каталог библиотеки П. Я. Чаадаева. М.
Ковалевская В. Б. 1984. Кавказ и аланы. М.: «Наука».
Коган А. Л. 1982. О чем рассказывает библиотека Чаадаева. – Вопросы философии. № 2.
Лотман Ю. М. 1992. Опыт реконструкции пушкинского сюжета об Иисусе. – Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. II. Статьи по истории русской литературы XVIII – первой половины XIX века. Таллинн: «Александра», с. 452–462.
Лотман Ю. М. 1993. Несколько заметок к проблеме «Пушкин и французская литература». 1. У истока сюжета о Клеопатре. – Лотман Ю. М. Избранные статьи. Т. III. Статьи по истории русской литературы. Теория и семиотика других искусств. Механизмы культуры. Мелкие заметки. Таллинн: «Александра», с. 412–414.
Малеин А. 1926. Пушкин, Аврелий Виктор и Тацит. – Пушкин в мировой литературе. Л.
Модзалевский Б. Л. 1910 Библиотека А. С. Пушкина (Библиографическое описание). Спб.: Типография Императорской Академии наук.
Осповат А. Л. 1992. Из комментария к текстам Чаадаева (По материалам тургеневского архива). 2. К датировке и заглавию «Апологии». – Сб. ст. к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, с. 230–231.
Пастернак Б. 1990. Охранная грамота. – Борис Пастернак об искусстве. М.: «Искусство», с. 36–120.
Покровский М. М. 1909. Пушкин и русские историки. – Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому. М., с. 478–486.
Покровский М. М. 1939. Пушкин и античность. – Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 4/5. М.-Л.
Раич И. 1795. История разных славянских народов, наипаче болгар, хорватов и сербов, из тмы забвения изъятая, и во свет исторический произведенная. Спб.: В Типографии Корпуса Чужестранных Иноверцев.
Сенека 1991. Трагедии. М.: «Искусство».
Скаковский И. Т. 1978. Пушкин и Чаадаев (К вопросу о датировке и трактовке послания Пушкина к Чаадаеву). – Пушкин. Исследования и материалы. Т. VIII. Л.
Тарасов Б. Н. 1985. Молодой Чаадаев: книги и учителя. – Альманах библиофила. Вып. XVIII. М.
Толстой И. И. 1938. Пушкин и античность. – Уч. Зап. Ленинградского Пед. Института им. А. И. Герцена. Вып. 14.
Томашевский Б. В. 1990. Пушкин. Т. 1–2. М (2 изд.).
Павловский М. А. 1962. Статьи о Пушкине. М.
Чаадаев П. Я. 1991. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1–2. М.: «Наука».
Шахматов А. А. 1916. Повесть временных лет. Пгр.
Якубович Д. П. 1941. Античность в творчестве Пушкина. – Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 6. М.-Л.
Adams J. N. 1990. The Latin Sexual Vocabulary. Baltimore: The John Hopkins University Press.
Hollis A. S. 1994. Statius’ young Parthian king (Thebaid 8.286–293). – Greece and Rome, second series. October. Vol. XLI, № 2, p. 205–212.
Lucan 1981. Civil War VIII. / Edited with a commentary by R. Mayer. Warminster, Wilts: Aris & Phillips, Ltd.
Placilus 1898. Placili Lactantii qui dicitur commentarios in Statii Thebaida et commentarium in Achilleida, recensoit Ricardus Jahnke. Libsiae: Tevbneri.
Stace 1990. Thebaide. Livres I–IV. / Texte établi et traduit par R. Lesueur. Paris: Les Belles Lettres.
Statius 1970. P. Papini Stati Thebaidos Liber undecimus. Firenze: La Nuova Italia editrice.
Statius 1980. Opere di Publio Papinio Statio. / A cura di A. Traglia e G. Arico (Classici latini). Torino: Unione Tipografice Torinese.
Б. А. Кац
Неучтенные источники «Моцарта и Сальери»
(Предварительные заметки)
1. ТОМ МАРМОНТЕЛЯ
«Творческая история „Моцарта и Сальери“ и хронология работы Пушкина над текстом во многом темна» (Алексеев 1935: 523). Это откровенное признание кажется справедливым и спустя шестьдесят лет, в частности, в аспекте проблемы, обозначенной в заглавии этих заметок. Процитированная работа М. П. Алексеева остается наиболее фундаментальным исследованием круга возможных источников «Моцарта и Сальери» (далее «МиС»). Критически осветив работы своих предшественников (П. Анненкова, Е. Браудо, Н. Лернера, Ю. Оксмана, Б. Томашевского, В. Францева, С. Штейна, И. Щеглова, А. Эфроса), комментатор седьмого (пробного) тома академического собрания сочинений Пушкина добавил к уже имеющимся указаниям на источники продолжительный ряд новых указаний. Емкость этого ряда засвидетельствовала незаурядную эрудированность комментатора как в литературной, так и в музыкальной сферах. Видимо, не случайно за следующие шестьдесят лет никто не рискнул вновь обобщать круг источников пушкинской «маленькой трагедии». Внимание большинства исследователей было направлено на ее интерпретацию, а новые версии о возможных источниках появлялись изредка. В них отмечались тексты, которые могли повлиять и на сочинение в целом (см., например, Серман 1958; Джексон 1973) и на отдельные его фрагменты (см., например, Альтман 1971, Гаспаров 1977, Кац 1982). Но, может быть, плодотворнее поиска источников, неучтенных в работе М. П. Алексеева, оказалось углубление в источники, в ней указанные. На этом пути особо ценные результаты дало пристальное изучение текстов Бомарше и суждений о нем его современников (Вацуро 1974; Беляк, Виролайнен 1989; Вацуро 1994: 106). Вместе с тем не исключено, что увлечение Бомарше заслонило от внимания исследователей другой источник, находившийся, в буквальном смысле под рукой, – как у Пушкина, так и у пушкинистов. Я имею в виду поэму Мармонтеля «Полигимния», включенную в том его посмертно опубликованных сочинений (Мармонтель 1820), дополняющий восемнадцатитомное собрание, выпущенное в 1818–1819 годах. И это собрание, и дополняющий его том имелись в библиотеке Пушкина (Модзалевский 1910: 282–283).
Одним из фрагментов «МиС», неоднократно вызывавших восхищение музыкально-исторической эрудицией Пушкина, является следующий пассаж из первого монолога Сальери (все цитаты из «МиС» даются по: Пушкин 1937, VII), где освещается шумное соперничество Глюка и Пиччинни, бывшее в центре внимания художественной жизни Парижа в 1770-х годах:
Нет! никогда я зависти не знал,
О, никогда – ниже, когда Пиччинни
Пленить умел слух диких парижан,
Ниже, когда услышал в первый раз
Я Ифигении начальны звуки.
М. П. Алексеев, остужая восторги по поводу пушкинского вникания в тонкости музыкально-исторического процесса, писал: «Спор „глюкистов и пиччиннистов“ был слишком заметным эпизодом в истории французской литературы: Глюк и Пиччинни нередко упоминаются и у Руссо, и у Дидро, и у других писателей». Однако конкретный источник остался неназванным. Между тем им вполне могла быть книга посмертных сочинений высокоценимого Пушкиным Мармонтеля[868]868
Пользуюсь случаем выразить искреннюю признательность В. А. Мильчиной за помощь в ознакомлении с указанным изданием и ценные консультации при подстрочном переводе.
[Закрыть]. Содержащаяся в ней поэма «Полигимния» – пространная стихотворная сатира на соперничество Глюка с Пиччинни, в которой автор решительно занимает сторону последнего. У Мармонтеля Пиччинни находится под покровительством музы Полигимнии, которой противостоит злая фея Мелюзина – сторонница Глюка. Различные перипетии этой борьбы описаны весьма подробно с называнием многих сочинений обоих композиторов, включая и оперу Глюка «Ифигения» (подразумевается «Ифигения в Тавриде», поставленная в 1779 году, а не «Ифигения в Авлиде» – 1774), с помощью которой он (согласно Мармонтелю, временно) восстанавливает свое владычество в Париже, пошатнувшееся после триумфа Пиччинни.
Поэме предшествует предисловие, написанное издателем – сыном поэта. Издатель объясняет, что его покойный отец не собирался печатать эту комическую поэму, однако неизвестное лицо опубликовало ее пиратским образом и с грубыми ошибками. Это и заставило сына опубликовать оригинал. Попутно в том же предисловии весьма подробно излагается реальная история борьбы Пиччинни и Глюка за умы и сердца завсегдатаев парижской оперы. Не может быть сомнений в том, что Пушкин читал это весьма информативное предисловие: оно напечатано на страницах 157–169, и эти страницы в принадлежавшем Пушкину томе разрезаны (Модзалевский 1910: 283).
Разумеется, Пушкин мог знать о соперничестве Глюка и Пиччинни и из иных сообщений (как печатных, так и устных). Но изложенного в предисловии к «Полигимнии» Мармонтеля с лихвой хватило бы для свободного ориентирования в музыкально-исторических событиях почти полувековой давности. Таким образом, в число источников «МиС» можно уверенно занести если не саму поэму Мармонтеля «Полигимния», то по крайней мере предисловие к ней, написанное Мармонтелем-младшим.
Страницы же с текстом самой поэмы в томе, принадлежавшем Пушкину, остались неразрезанными. Это, с одной стороны, не дает возможности считать доказанным факт ее прочтения автором «МиС», но, с другой стороны, и не исключает такого факта. Пушкин, конечно же, мог читать любимого им Мармонтеля не только у себя дома. Как известно, волею автора «Евгения Онегина» один из томов Мармонтеля «кочующий купец» завозит даже в сельскую «глушь» поместья Лариных.
Более того, есть основания предполагать, что Пушкин не просто был знаком с самой поэмой, но и использовал некоторые ее детали при работе над композицией «МиС». Присмотримся к ним.
В первую очередь отмечу, что ни в одном из источников, из которых Пушкину могла бы стать известна легенда о том, что Сальери якобы отравил Моцарта (такие источники, по-видимому, исчерпывающе, хотя и чисто гипотетически, суммированы в указанной работе М. П. Алексеева), ничего не говорится о конкретных обстоятельствах этого отравления. В связи с этим в тематической структуре «МиС» стоит различать мотив отравления, заимствованный из легенды, и мотив совместной трапезы, предоставляющий соответствующий антураж для проведения первого мотива. Хочется подчеркнуть вполне очевидный, но не всегда осознаваемый факт: Моцарт и Сальери впервые оказались с глазу на глаз за общей трапезой именно в сочинении Пушкина. Такой трапезы не было и не могло быть в исторической реальности (подробнее: Штейнпресс 1980: 154–155, 176–177), не было ее и в письменно зафиксированных к концу 1820-х годов рассказах о якобы имевшем место отравлении. Таким образом, Пушкин первым усадил Моцарта и Сальери за общий стол и заставил их пить вместе, а потом уже это проделывали с ними множество сочинителей в самых разных жанрах и целях, разговор о которых увел бы меня далеко от темы этой заметки.
Мотив трапезы или пира в «маленьких трагедиях», как и в творчестве Пушкина в целом, хорошо изучен (см., в частности, Лотман 1988: 131–146). Это глубоко литературный мотив. М. С. Альтман показал, что еще при его подготовке в первой сцене «МиС» Пушкин опирается на литературу античности: шутка Моцарта – «божество мое проголодалось», мотивирующая сальериевское приглашение отобедать вместе, восходит к притче древнегреческого писателя Афинея, чей сборник «на французском языке имелся в библиотеке Пушкина» (Альтман 1971: 119–120).
Можно добавить, что «на французском языке имелся в библиотеке Пушкина» и поэтический текст, описывающий (видимо, впервые в мировой литературе) совместную трапезу двух соперничающих композиторов. Имею в виду эпизод из Песни Седьмой мармонтелевой «Полигимнии». Ошеломленный успехом Пиччинни Глюк напрасно ожидает, что кто-либо из его поклонников скандалом сорвет триумф пиччинниевского спектакля:
Gluck, immobile au milieu de la foule,
Comme un tyran dont le trône s’écroule,
Pâlit de crainte à chaque ébranlement:
Il espérait quelque soulevement;
Mais non; sans bruit tout son paiti s’écoule <…>
(Мармонтель 1820: 302)
(«Глюк, неподвижный среди толпы, / Как тиран, чей трон вот-вот рухнет, / Бледнеет от страха при каждом сотрясении <воздуха>: / Он надеялся на какой-либо протест; / Но нет, его сторонники расходятся без звука».)
Здесь-то совершенно внезапно Полигимния снисходит к поверженному противнику и предлагает ему мир:
Et déridant се front triste et jaloux,
Chez le Breton viens souper avec nous.
(Мармонтель 1820: 303)
(«И, разгладив морщины на своем печальном и ревнивом челе, / Поужинай с нами у Бретонца».) Поскольку ничего разъясняющего по поводу Бретонца не сказано, можно думать, что речь идет о содержателе ресторанного типа заведения, а может быть, и о самом названии последнего.
Уже приведенные строки отчетливо и подчеркнуто искаженно откликаются в «МиС». В обоих случаях приглашения на совместную трапезу следуют за потрясением от музыки соперника, но в одном случае это приглашение следует со стороны, ответственной за потрясение, а в другом – со стороны, являющейся его жертвой. И хотя ужин у Пушкина превращается в обед, все же слова «Chez le Breton viens souper avec nous» представляются не слишком далекими от пушкинских «Послушай: отобедаем мы вместе / В трактире Золотого Льва».
Совместный обед Моцарта и Сальери содержит ряд деталей, как бы кривозеркально отражающих совместный ужин Глюка и Пиччинни. В обоих случаях один из участников трапезы пребывает в мрачном настроении, несовместимом с яствами и питием. Вспомним реплику Сальери:
Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?
Обед хороший, славное вино,
А ты молчишь и хмуришься.
У Мармонтеля же смертельно мрачен завистник Глюк, однако вино явно идет ему на пользу:
А се souper l’Allemand politique
Crut devoir taire et cacher son dépit.
Il serait mort comme Caton d’Utique,
Mais dans le vin sa douleur s’assoupit.
Par les plaisirs la table était servie;
Le vin coulait; et bientôt la gaiété
Donna l’essor à la sincérité.
(«На этом ужине дипломатичный немец / Счел своим долгом молчать и скрывать досаду. / Он умер бы как Катон Утический, / Но вино развеяло его грусть. / Стол ломился от яств; вино лилось; и вскоре веселье / Разбудило искренность».)
Если в трактире Золотого Льва простодушие Моцарта, кажется, раздражает Сальери, то «у Бретонца» дело обстоит несколько иначе:
Et Piccini, par sa simplicité,
Semblait charmer les serpents de l’envie.
(«И Пиччинни своим простодушием, / Кажется, зачаровал змей зависти».) Эти строки представляются едва ли не ключевыми для определения текста Мармонтеля как одного из источников «МиС». Во-первых, сопоставление в окончаниях соседних строк слов «простодушие» и «зависть» дает нечто вроде схематического основания для одной из важнейших антитез пушкинской трагедии и вводит тему «простодушия гения», «которая развернута, в частности», в «Моцарте и Сальери» (Вацуро 1994: 110). Во-вторых, пушкинские строки:
Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным,
Змеей, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль, грызущею бессильно? —
при всей их экспрессивности живо напоминают о достаточно тривиальных мармонтелевых «змеях зависти».
Тост за дружбу у Мармонтеля поднимает смирившийся завистник – Глюк, обращающийся к Пиччинни:
«Mon doux rival, lui dit-il, dans le verre
Noyons tous deux la discorde et la guerre <…>»
(«Мой кроткий соперник, говорит он ему, в стакане / Утопим раздор и войну <…>».)
Стоит вспомнить, что после того, как Сальери «бросает яд в стакан Моцарта», именно «кроткий соперник» произносит:
За твое
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.
У Пушкина, таким образом, в стакане оказывается утоплена не вражда, а дружба.
Монолог пьяного Глюка в «Полигимнии» содержит еще минимум три примечательных – с точки зрения пушкинского эха – пассажа. Во-первых, заявление Глюка о парижанах (Мармонтель 1820: 304) – «Се peuple est vain, suffisant, ridicule: / Pour son oreille il ne faut pas que des cris» («Это народ пустой, самодовольный, смешной: / Для их ушей нужны только крики») – откликается у Пушкина в словах Сальери (стойкого приверженца Глюка) о том, что Пиччинни «пленить сумел слух диких парижан». Во-вторых, насмешка Глюка над соперником, пишущим не для толпы, а «pour quelques gens délicats» («для немногих утонченных»), находит отзвук в максимально серьезной апологии элитарности, в которой пушкинский Моцарт объединяет себя со своим убийцей: «Нас мало избранных, счастливцев праздных <…> / Единого прекрасного жрецов»[869]869
Впрочем, М. С. Альтман указывает на другой источник этой апологии – на Платона (Альтман 1971: 119). Не говорю уже о евангельском афоризме «много званых, но мало избранных» (Лк. 14, 24).
[Закрыть]. В-третьих, признание предприимчивого Глюка (Мармонтель 1829: 303–304) – «<…> mon secret, le voici: / J’ai fait semblant d’estimer la louange; / Mais c’est de l’or qu’il faut gagner ici; / Et notre gloire est une lettre de change» («Мой секрет – вот он: / Я притворялся, что уважаю похвалы; / Но здесь нужно зарабатывать только золото; / А наша слава это вексель») – вполне сопоставимо с откровением персонажа из другого пушкинского сочинения:
Что слава? Яркая заплата
На ветхом рубище певца.
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злата до конца.
(«Разговор книгопродавца с поэтом», 1824)
Последнее эхо, впрочем, уводит в сторону от «МиС». Возвращаясь же к трагедии, замечу, что саркастическое мармонтелевское уподобление Глюка Катону Утическому, древнеримскому полководцу, покончившему с собой после проигранного сражения, могло подсказать Пушкину еще один мотив, не содержавшийся ни в одной из легенд об отравлении Моцарта. Речь идет о мотиве соединения во время трапезы с врагом убийства и самоубийства. Этот мотив подробно исследован В. Э. Вацуро в работе «„Моцарт и Сальери“ в „Маскараде“» (Вацуро 1994: 279–289) и здесь нет смысла на нем останавливаться.
Стоит, однако, заметить, что если предложенная гипотеза справедлива, и, работая над «МиС», Пушкин действительно в известной мере отталкивался от «Полигимнии» Мармонтеля, то перед нами не столь уж частый в творчестве Пушкина случай переакцентировки материала источника: этот материал не пародируется (как, например, история и Шекспир в «Графе Нулине»), не снижается, но возвышается. Материал комедийной, почти шутовской поэмы Мармонтеля (в которой, разумеется, никто никого не убивает) под пером Пушкина возвышается до трагедии.
2. СТАТЬИ БУЛГАРИНА
Конкретизацию источников «МиС» существенно затрудняет неясность хронологии авторской работы над текстом. В отсутствие автографов дату, обозначенную в первой публикации (26 октября 1830 года), приходится принимать как terminus post quern non, хотя до публикации в альманахе «Северные цветы на 1832 год» (СПб., 1831, цензурное разрешение 9 октября) у Пушкина был еще почти год для каких-либо изменений текста. Но совсем непонятно, что принимать за terminus a quo. Известна запись в «Дневнике» М. П. Погодина от 11 сентября 1826 года, где в пересказе впечатлений Д. Веневитинова от встречи с Пушкиным названия завершенных сочинений перемешались с планами или набросками: «Веневитинов рассказал мне о вчерашнем дне. „Борис Годунов“ – чудо. У него еще „Самозванец“, „Моцарт и Сальери“, „Наталья Павловна“, продолжение „Фауста“, 8 песен „Онегина“ и отрывки из 9-й и проч.» (Погодин 1985: 18). Таким образом, легко заключить что к 10 сентября 1826 года существовал если не набросок, то как минимум замысел сочинения, которому суждено было завершиться лишь осенью 1830 года. Представляется естественным поставить вопрос: не происходило ли вначале 1826 года каких-либо событий, способных стимулировать пушкинский интерес к сюжету Моцарта и Сальери?
Поскольку пребывание в это время в Михайловском исключает устные беседы с теми друзьями и знакомцами поэта, которые, предположительно, могли сообщить ему ценную для работы над трагедией информацию (А. Д. Улыбышев, В. Ф. Одоевский, М. Ю. Виельгорский, Н. С. Голицын, Н. Б. Юсупов и др.), а переписка не содержит наводящих на след деталей, остается обратиться к кругу чтения поэта и прежде всего к газетным публикациям. М. П. Алексеев, не ставя означенного выше вопроса, указал на две газетные статьи начала 1826 года, которые могли послужить источниками для пушкинского замысла «МиС»: «Интересно отметить, что в „Journal de St.Pétersburg“ (1826 г., № 8, Janvier, p. 30) Улыбышев поместил краткое известие о смерти „великого композитора“ Сальери, автора „Данаид“, а несколько месяцев спустя напечатал восторженную статью о „Реквиеме“ Моцарта, исполненном в Петербурге 31 марта 1826 г.» (Алексеев 1935: 531).
Известие о смерти Сальери и петербургское исполнение моцартова Реквиема действительно могли оживить интерес Пушкина к легенде, слышанной им, видимо, ранее. Однако об исполнении Реквиема Пушкин скорее мог узнать не из рецензии Улыбышева, появившейся много позже, а из анонса, опубликованного в «Северной пчеле» (1826, № 38), и рецензии Ф. В. Булгарина, написанной по горячим следам и опубликованной в той же газете от 3 апреля 1826 года под названием «Концерт 31 марта» (№ 40, с. 3–4). Напомнивший недавно об этой рецензии в связи с историей залы Энгельгардта А. А. Гозенпуд сообщает, что в ней Булгарин кратко изложил «историю происхождения произведения и версию об отравлении Моцарта» (Гозенпуд 1992: 35). Однако в действительности статья содержит только одну из версий о заказе Реквиема, но ни одним словом не упоминает об отравлении Моцарта. Похоже, что эту статью давно никто не перечитывал, а между тем она заслуживает внимательного прочтения как один из возможных источников «МиС». В первую очередь обращает на себя внимание соположение двух сочинений Гайдна и Моцарта: «Первыми духовными сочинениями в свете почитаются: оратория Гайдена „Сотворение мира“ и Реквием, или моление об усопших Моцарта». Название оратории Гайдна могло быть известно Пушкину и прежде. Не исключено, что именно соединение этого названия с фамилией композитора и подсказало поэту слова, вложенные им в уста Сальери: «Быть может новый Гайден сотворит великое <…>» <курсив мой. – Б.К>. Однако то, что этим новым Гайденом оказался Моцарт, сочиняющий Реквием, могло быть стимулировано булгаринским сопоставлением двух шедевров, на самом деле достаточно далеких друг от друга[870]870
«Сотворение мира» было написано Гайдном спустя семь лет после моцартова Реквиема, и хотя и связано с духовной тематикой (текст разрабатывает мотивы поэмы Мильтона «Потерянный рай»), никак не является – в отличие от Реквиема – литургическим сочинением. Замечу попутно, что сальериевское ожидание «нового Гайдена» с музыкально-исторической точки зрения выглядит несколько странно: в 1791 году, к которому приурочено действие пушкинской трагедии, Гайдн полон творческих сил и еще не «сотворил» самых знаменитых своих «опусов» – 12 Лондонских симфоний и ораторий «Времена года» и «Сотворение мира».
[Закрыть].
История заказа Реквиема изложена Булгариным гораздо прозаичнее (и ближе к биографическим источникам), чем у Пушкина, однако в ней четко обозначен мотив обеспокоенности Моцарта этим заказом и его убежденности, что «Requiem он пишет для себя». Впрочем, этот мотив Пушкин мог почерпнуть и из других источников. Интереснее другое. Комментируя слова Сальери:
Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля, —
М. П. Алексеев замечает: «Даже сравнение Моцарта с Рафаэлем – на первый взгляд поражающая тонкостью критическая параллель – была общим местом музыкальных статей и притом настолько распространена, что вовсе не требовала от Пушкина обращения к специальной литературе» (Алексеев 1935: 534). Это справедливое (и подтвержденное убедительными ссылками) положение нуждается, однако, в небольшом уточнении. Слова Сальери сравнивают не просто Моцарта с Рафаэлем, но грубое исполнение музыки Моцарта с искажением рафаэлевской Мадонны. Такого типа сравнение никак нельзя считать «общим местом» ни музыкальных, ни общеэстетических статей. Однако именно критикуя исполнителей, Булгарин в той же рецензии (с.4) пишет: «Слышавшие в первый раз Requiem Моцарта в сем концерте точно так же не могут иметь полного понятия о сей музыке, как невидавшие никогда Мадонны Рафаэля в подлиннике, не могут судить о сем бессмертном творении по самой лучшей литографии».








