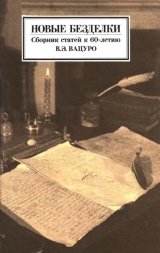
Текст книги "Новые безделки: Сборник к 60-летию В. Э. Вацуро"
Автор книги: Сергей Фомичев
Соавторы: Вячеслав Иванов,Ольга Муравьева,Юрий Левин,Михаил Строганов,Андрей Зорин,Александр Лавров,Алексей Песков,Илья Серман,Ирина Чистова,Л. Лейтон
Жанры:
Языкознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 37 страниц)
«Представьте себе у нас 1 мая и последние дни Святой Недели, это будет точное изображение каждого летнего дня в Вене. Приехав в обыкновенный будничный день и ходя по садам я забывался всякую минуту и не мог верить, чтоб не было какого-нибудь праздника или народного торжества <…> На всяком шагу музыки и сады наполнены гуляющим народом, гулянья начинаются от шести часов утра и продолжаются заполночь. Не думаю, чтоб веселились столько и в самом Париже. Садов я не успел еще порядочно рассмотреть, но вчера, когда я вошел в так называемый Адгартен, утомленный дорогой и бессонницей, довольно было одного взора на него, чтобы оживить меня. Пратер здесь самый прекрасный и модный сад. Вчера мы обедали в Адгартене, в котором нарочно для того построены небольшие домики, и под деревьями расставлены столы и стулья <…>
Лето и весна самое <лучш>ее время в Вене. Ежедневные ветры утоляют несколько чрезмерный жар, с тех пор, как я здесь, дождя еще не было. Вчера целый день провели мы в Загородном дворце Шенбрунн, который получил это название от прекрасного, в самом деле, источника, поившего водой своей Иосифа преимущественно перед другими ключами. Сады здесь прелестны и вообще нельзя довольно налюбоваться венскими окрестностями. Жаль, что нельзя сказать этого же о самых жителях, смотря на них я не могу не радоваться от всего сердца, что я не немец или, по крайней мере, не уроженец венской, я не смею утверждать, но мне кажется, что здешние жители отличаются от других немцев своим сладострастием и вообще грубою чувственностию и тупостью ума. Всякой день их множество в садах, но они приезжают туда не гулять, а есть. Это очевидно для всякого. Они всякой день регулярно завтракают, обедают, полдничают, ужинают, а остальное время дня – едят. Вино не имеет над ними обычного своего действия, они и без того задумчивы. Но чем больше пьют, тем становятся угрюмее и молчаливее. Сверх того, и су<еверие> имеет еще много власти над ними и ка<толицизм> здесь во всей силе; несколько дней назад был я свидетелем одной из главнейших их процессий и удивлялся множеству монахов всяких орденов. Это было довольно пышное зрелище; все площади, на которых останавливалась процессия, были покрыты толпами народа и на всякой был устроен жертвенник, пред которым служили молебен с коленопреклонением; тут имел я честь видеть в первый раз и императорскую фамилию. Лучший вид делала здешняя милиция, но, конечно, только издали; она составилась из ремесленных цехов, в то время как французская армия была близка к Вене, и с тех пор имеет право в этот день быть в мундире и праздновать свое установление.
Несколько раз уже был я в здешней библиотеке, в которой считается более 300 т. книг, всякий может тотчас получить <какую> хочет книгу, только не может брать <ее с> собою, а должен тут же читать и выписывать, что угодно. Всякий день две комнаты наполнены такими чтецами».[127]127
Там же. Ед. хр. 1238. Л. 8–8 об.; 14 об. – 15.
[Закрыть]
Примерно те же мотивы: теснота улиц, обилие людей, важность и степенность публики, не веселящейся от вина, всеобщая религиозность, великолепие и совершенство оперы и театра звучат и в венском журнале, который Тургенев вел для Жуковского и Мерзлякова[128]128
Там же. Ед. хр. 1240.
[Закрыть]. Мир, казалось, столь понятный и заочно облюбованный для жизни, оказался вовсе чужим, и в письме родителям он делает приписку специально для Максима Ивановича Невзорова, с которым некогда много спорил о Шиллере и Германии: «Я рад согласиться с Вами о немцах, но ведь я спорил с Вами о авторах, а эти всегда и теперь остаются в прежней цене. Но что касается до других, то надобно только пожить между ними, чтобы не быть немцем. Представьте себе, что я в Вене трубки в рот не брал, и совсем не пью кофею, а и то и другое я очень любил в Москве, теперь совсем отвык»[129]129
Там же. Ед. хр. 1238. Л. 22.
[Закрыть].
Авторы еще оставались в прежней цене. В августе 1801 г. Ан. Тургенев едет в Карлсбад, откуда получает командировку в Теплиц. «Представьте, – пишет он об этом Жуковскому и Мерзлякову, – что от Теплица только 7 миль до Дрездена, представьте, что я имею уже позволение съездить оттуда дней на 6 в Дрезден, и оттуда хотел бы без позволения заглянуть в Веймар и узреть лицом к лицу – Шиллера, Гете, Гердера, Коцебу и пр. Все это было так верно, как нельзя быть вернее; напившись кофею в Шелгофе <деревня близ Карлсбада. – А.3.> я уже беседовал, ходя по комнате с сими великими мужами, рассматривал физиономию бессмертного Певца Радости, автора „Дон Карлоса“ и „Разбойников“, заставлял его написать мне своей рукой на бумажке: „festen Mut in schweren Leiden“, торопился дать знать Гердеру, что я дворянин российской и что, весьма важное для него, как меня уверили, словцо Von есть нечто мне свойственное; шутил с Коцебу и бродил с ним по городу – смотрел и слушал в безмолвии не тайного советника Von Goethe, но автора Вертера и старался прочесть в глазах, на лице его все, что читал, все, что восхищало меня в его книгах – одним словом дымная, тесная комната в худом деревенском трактире была для меня вместилищем всего изящного. Я уже написал к вам несколько страниц обо всем этом в голове моей»[130]130
Истрин В. М. Русские путешественники по славянским землям. – Журнал Мин-ва народного просвещения. 1912. № 9. С. 84–85.
[Закрыть].
Но, подобно слишком многим планам Ан. Тургенева, поездке в Теплиц, Дрезден и Веймар тоже не суждено было осуществиться. Ему так и не удалось встретиться с писателями, создавшими страну, в которой он духовно жил всю свою юность и которой никогда не было на географической карте. Впрочем, в это же время его отношение к былым кумирам тоже утрачивает свою определенность.
Ю. М. Лотман пишет об известном разочаровании Тургенева в последний год жизни в Шиллере и вообще немецкой литературе[131]131
Лотман Ю. М. Андрей Сергеевич Кайсаров… С. 75–76. Ср. несколько иную точку зрения: Harder Н. В. Schiller in Russland… S. 63–69.
[Закрыть]. Действительно, его суждения этой поры достаточно противоречивы. «В моих литературных вкусах происходит какая-то революция. Все теперь в ферментации, и я не знаю, что хорошо и что дурно»[132]132
Жуковский и русская культура. С. 425.
[Закрыть], – писал сам Тургенев Жуковскому в мае 1803 года. Во всяком случае, его интересы смещаются с Шиллера на Шекспира и с Германии на Англию. В Вене он переводит «Макбета», а также книгу В. Архенгольца «England und Italien». «Читая и переводя Архенгольца, – рассказывает он родителям, – я признаюсь, что сделался пристрастен к англичанам. Если хоть половина правда, то их конституция самая превосходная и сан человека нигде так не почтен как в Англии <…> Как бы хотелось мне вблизи увидеть этот народ и, сколько от меня зависит, своими собственными глазами поверить, что о них писано pour et contra!»[133]133
РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 1238. Л. 39.
[Закрыть]
Но новому, английскому, увлечению Андрея Тургенева не суждено было получить дальнейшего развития. В июле 1803 г. он неожиданно умер от простуды, установив тем самым связь между романтическим типом прекраснодушного энтузиаста, «немецким» культом прекрасной души, верой в существование избранного круга высоких сердец, понимающих друг друга, поэтическим дарованием – и ранней смертью в расцвете сил, – связь, которая, как заметил Александр Веселовский, была канонизирована Пушкиным в его Ленском.
За немногочисленными исключениями литературные труды Тургенева долгое время оставались неизвестными, его дневники в полном объеме и сегодня недоступны читателям, многие переводы утеряны, возможно, безвозвратно. И все же именно деятельность Андрея Тургенева на долгие десятилетия задала основные параметры восприятия немецкой культуры на русской почве, по которым знакомилась с духовным богатством Германии образованная русская молодежь и формировался тип отечественного германофила. Не случайно именно из Дружеского литературного общества вышли два самых глубоких интерпретатора немецкой культуры в России первой трети XIX в. Речь идет, разумеется, о Жуковском и Александре Тургеневе.
Москва
Е. О. Ларионова
К истории раннего русского шиллеризма
В исследованиях, посвященных раннему периоду знакомства русской литературы с творчеством Шиллера, в числе других имен упоминается обычно и имя В. Т. Нарежного[134]134
См., например: Harder Н.-В. Schiller in Russland. Materialien zu einer Wirkungsgeschichte (1789–1814). Berlin-Zürich, 1969. S. 78–79; Lotman Ju. M. Neue Materialien über die Anfänge der Beschäftigung mit Schiller in der russischen Literatur. – Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst Moritz Arndt-Universität Greifswald. Gesellschaft-und spiachwissenschaftliche Reihe: Jahrgang VIII. 1958/59. № 5/6. S. 424–426, 428; Данилевский P. Ю. Шиллер и становление русского романтизма. – Ранние романтические веяния: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1972. С. 49–52; также: Бочкарев В. А. Русская историческая драматургия начала XIX века (1800–1815 гг.). Куйбышев, 1959. С. 80–105.
[Закрыть]. Родоначальник русского реального романа, прославившийся впоследствии на поприще сатирико-бытописательной прозы, Нарежный отдал дань Шиллеру несколькими ранними произведениями, написанными им еще в годы учебы в Московском университете, но произведения эти оставались практически вне поля зрения исследователей, за исключением, пожалуй, лишь изданной в 1804 г. прозаической трагедии «Димитрий Самозванец». Причем – как свидетельствует и «Димитрий Самозванец», в котором трудно выделить «„чистого“ Шиллера или влияние какого-нибудь одного из его произведений»[135]135
Данилевский Р. Ю. Шиллер и становление русского романтизма. С. 50.
[Закрыть], – в своем увлечении Шиллером Нарежный был далек от копирования или прямой подражательности. Историко-литературное влияние в каждом конкретном случае находит свой путь и свой единственный способ реализации. В этом смысле в творчестве раннего Нарежного перед нами еще один вариант «русского Шиллера», еще одна индивидуальная «адаптация» художественной системы немецкого писателя. Ее более внимательное рассмотрение представляется нам достаточно интересным не только как дополнительный материал к истории раннего русского шиллеризма, но и в русле общих наблюдений над развитием русской прозы на рубеже 1800-х годов.
Первым произведением, позволяющим говорить о воздействии Шиллера на начинающего писателя, стало небольшое прозаическое сочинение Нарежного «Мстящие евреи», появившееся в 1799 г. в «Иппокрене». Содержание рассказа, в нескольких словах, следующее. Еврей Иосия требует от сына страшного мщения за обиду, нанесенную ему христианином, – вырвать сердце из груди обидчика. Иезекиль во исполнение воли отца убивает старика-ремесленника, но покорен кротостью и красотой его дочери. Он уже готовится, оставив веру отцов, навсегда соединиться с ней, но гнев Иосии настигает их, и влюбленные гибнут под ударами кинжала у подножия алтаря. На фоне других материалов «Иппокрены», заполнявшейся в основном литературной продукцией студентов Московского университета и Благородного пансиона, сочинение Нарежного выделялось и своим странным сюжетом, и явно неумеренным нагромождением кровавых сцен, долженствовавших, по мысли автора, особенно потрясти воображение читателя. «Этот анекдот слышал я от одного старика, который – он уверял – был очевидном. Может быть, он многим покажется невероятным, по своей жестокости и зверству нравов, – что и в самом деле сомнительно…» – вынужден был признать сам автор в открывавшем текст объяснительном примечании[136]136
Иппокрена. 1799. Ч. II. С. 17. В требовании вырезать сердце христианина в «Мстящих евреях», возможно, своеобразно трансформировался мотив мести Шейлока из «Венецианского купца» Шекспира.
[Закрыть]. Следы чтения Шиллера видны прежде всего в искусственно эмоциональном, эмфатическом стиле с многочисленными проклятиями, поминанием ада и т. п.: «Это я скажу вам тогда, когда рука твоя обагрится его кровию и кровию его фамилии. Когда ты исторгнешь сердце его из его груди и дашь мне растерзать его, тогда, тогда скажу вам вину моего мщения»; «Сердце его затрепетало адским трепетом; в глазах его выступила кровь, щеки его побледнели, – и он, готовясь совершить убийство, страдал подобно первенцу Адамову, поразившему уже своего брата»; или (наступив на грудь умирающего сына): «<…>Не слышишь ли, не слышишь ли, как запекшаяся кровь хрипит в груди его? О это адская музыка, от которой вострепещет внутренность дьявола – и возвеселится сердце Иосии!» и др.[137]137
Там же. С. 20, 22, 55.
[Закрыть]
К моменту написания «Мстящих евреев» Нарежный был автором двух классицистских подражательных поэм «Освобожденная Москва» и «Брега Алты», нескольких стихотворений и прозаических басен, псевдоисторической повести «Рогвольд», чуть тронутой оссианизмом. Его новое сочинение наводило на мысли о захвативших автора новых литературных впечатлениях.
Линия «Мстящих евреев» была продолжена пьесой «День злодейства и мщения», с подзаголовком «драматический отрывок, выбранный из изустных преданий», напечатанной в «Иппокрене» годом позже[138]138
Иппокрена. 1800. 4.VII. С. 353–496. Без подписи. Авторство Нарежного удостоверяется свидетельствами в книге Н. И. Греча «Избранные места из русских сочинений и переводов в прозе» (СПб., 1812. С. 447) и в дневнике Андрея Тургенева, цитируемом ниже.
[Закрыть]. Помимо несомненного свидетельства роста литературного мастерства Нарежного «День злодейства и мщения» интересен теми же новыми литературными установками и следами новых влияний, покрываемых с некоторой мерой условности именем Шиллера Действие происходит в Польской Украине и разворачивается попеременно то в доме помещика Лещинского, то в замке Банита Зельского – злодея, держащего со своими приспешниками в страхе всю округу. Лещинский, вернувшись после продолжительной отлучки домой, узнает, что замок его был разорен, а дочь увезена и обесчещена Банитом. Он отправляется требовать мщения и получает обещание Банита жениться на Марии и признать рожденного ею сына. Внешнее раскаяние Банита, однако, скрывает коварные замыслы. Семья Лещинского оказывается заманенной в его замок и заточенной в подземные темницы. Их спасает лишь внезапное появление атамана Черномора, сына Лещинского, во главе отряда черноморских казаков, освобождающего узников и карающего злодея. Как и в «Мстящих евреях», некоторые сцены и сообщаемые по ходу действия подробности останавливают внимание читателя своей подчеркнутой, даже изощренной (и, конечно, совсем не сценической) жестокостью. Сюда, например, относится эпизод убийства Банитом своего младенца-сына. Застрелив его на глазах у Лещинского, Банит протягивает тому труп ребенка: «<…> Пленяет ли тебя вид сей?»; или рассказ о гроте в парке, куда ведет отверстие из подземелья и где злодей забавляет себя, слушая стенания пленных («<…> Здесь томятся целые сотни меня оскорбивших, здесь гниют они – живут, вечно умирая, и жить будут адскою жизнию!»)[139]139
Иппокрена. 1800. Ч. VII. С. 415.
[Закрыть]. Или, наконец, тщательное обсуждение наиболее мучительной казни, которую приведут в исполнение в заключительной сцене восставшие крестьяне, освобожденные из темниц пленники и казаки-черноморцы: «<…> Долее почувствует он муки, нежели в самом аде! – Так! Он будет томиться, будет стенать – и никто его не утешит; никогда не увидит он луча солнечного, никогда не будет дышать вольным воздухом. <…> Все готово! Садовник подкуплен. В скрытном месте сада выроет он могилу, смежную с тюрьмами, – туда мы заключим его. – В малое отверстие, проведенное из тюрьмы, будет он получать пищу и воздух. – Он будет жить и позавидует жизни пресмыкающейся ехидны»[140]140
Там же. С. 467–468.
[Закрыть]. Всячески подчеркивается аффектация в поведении и речах героев: «Он шел прямою дорогою тихо, – но лицо его было совершенно фиолетового цвета, глаза горели, губы почернели; – он встретил меня и так посмотрел, – что я едва не закричал»[141]141
Там же. С. 470.
[Закрыть]. Той же цели служат многочисленные ремарки типа «с улыбкою ярости», «перебивает с диким взором», «с бешенством на лице», «ноет от ярости» и т. п.
Как видно даже из приведенных цитат, «День злодейства и мщения» и «Мстящие евреи» выдержаны в одной стилистике, истоки которой лежали в напряженно эмоциональной речи шиллеровской драматургии. Думается, вполне правомерно и вообще ограничить здесь влияние Шиллера одной внешне-стилистической сферой. В произведениях Нарежного пока нет следов усвоения поэтической идеологии или попыток интерпретации социального аспекта шиллеровского творчества, а в шокирующих и своеобразно натуралистических сценах Шиллер не мог служить Нарежному непосредственным образцом.
У себя на родине, в Германии, художественные открытия штюрмеров и, соответственно, шиллеровской драматургии, даже не успев еще полностью реализовать свой эстетический потенциал, стали своего рода разменной монетой массовой литературы. Речь должна идти в первую очередь о так называемом «тривиальном» романе, расцвет которого пришелся на конец XVIII в. «Образцами служили Гетевский „Гёц“, Шиллеровские „Разбойники“ и „Духовидец“. На ярмарки привозились для продажи груды книг, в которых шла речь о рыцарях, разбойниках, убийствах и привидениях»[142]142
Гайм Р. Романтическая школа. М., 1891. С. 26.
[Закрыть]. Это была литература с установкой на увлекательное чтение, широко эксплуатировавшая внешние эффекты и игравшая на простейших эмоциях, в числе которых ужас занимал не последнее место. Она не чуждалась ни кровавых сцен, ни грубоватого натурализма. Поскольку после выхода на литературную сцену «бурных гениев» «публике стали более всего нравиться грубые подражания тем продуктам неподдельной кипучей страстности»[143]143
Там же. С. 19.
[Закрыть], «тривиальные» писатели усвоили и штюрмерский стиль, превратив его в деланную страстность и гипертрофированную эмоциональность. Перенос акцента с характера, с психологического рисунка переживания на внешнюю форму повышал роль фразеологии, и массовый роман запестрел восклицаниями и проклятиями, «адскими пропастями», «кипением геенны», призыванием дьяволов и проч.
«Мстящие евреи» и «День злодейства и мщения» Нарежного вполне органично укладываются в очерченные выше рамки массовой литературы немецкого образца. В России эту литературу знали, хотя переводили выборочно, – кажется, одну ее «разбойничью» отрасль, представленную Вульпиусом, автором знаменитого «Ринальдини», и его многочисленными подражателями. У нас нет, конечно, видимых оснований устанавливать жесткую связь между восприятием Нарежным Шиллера и его знакомством с продукцией немецкой «тривиальной» литературы[144]144
Некоторую формальную близость можно усмотреть в диалогической подаче речи героев в «Мстящих евреях» – прием, широко практиковавшийся «тривиальным» романом как средство раскрытия внутреннего мира говорящего, позволявший избежать требующего большей литературной искушенности авторского комментария и обнажавший генетическую связь с штюрмерской драматургией (см.: Реморова Н. Б. Жуковский – переводчик «тривиальной» повести «Das heilige Kleeblatt». – В ее кн.: Жуковский и немецкие просветители. Томск, 1989. С. 257). У Нарежного, впрочем, этот прием мог быть связан с его движением к драматической форме независимо от литературных впечатлений.
[Закрыть]. Все же связь, хотя бы чисто типологическая, здесь была, и от подчеркнуто жестоких сцен и «шиллерских» монологов русского автора ощутимо веет коммерческим интересом. Это станет очевиднее из некоторых дальнейших сопоставлений.
В последние годы XVIII в., т. е. во время учебы Нарежного, в Москве существовала среда, в которой увлечение Шиллером находило поддержку и сочувствие. Принадлежность к университет могла способствовать сближению Нарежного с такими, не изолированными друг от друга, но достаточно автономными, центрами русского шиллеризма, как кружки Н. Н. Сандунова и Андрея Тургенева. Общение Нарежного в студенческие годы с Сандуновым, драматургом, переводчиком «Разбойников», братом известного московского актера Силы Сандунова, и, соответственно, связь через него с университетским и пансионским театром можно предполагать с большой степенью вероятности: «Димитрий Самозванец» впервые игрался на сцене в 1809 г. именно в бенефис Сандуновых. Интереснее, впрочем, относящиеся к Нарежному свидетельства дневника Андрея Тургенева.
18 декабря 1799 г. Андрей Тургенев записывает в дневник:
«Вчера читал я Нареж<ного> „День мщения“. Какой вздор! Он не иное что, как бедный Шилерик; представил себе двух воришков и какого-то жидка, которые стучат себя в лоб, в грудь, божатся, ругаются, зарывают в земле, проклиная. Жалкая и никуда не годная пиеска. Никакого познания о сердце человеческом, но одно сильное желание странными и какими-то необыкновенными средствами возбудить ужас. Молитвы в конце Черномора приличны сумасшедшему. То что в Карле Мооре велико, ужасно, sublime (от положения), то тут смешно и уродливо, потому что нет тех побудительных причин, везде виден один автор, который запыхавшись гонится за Шиллером».[145]145
Рукописный отдел ИРЛИ. Ф. 309. № 271. Л. 33 об. – 34.
[Закрыть]
В этой дневниковой записи, где речь идет о «Дне злодейства и мщения», характерна прежде всего уверенность, с которой проведена зависимость пьесы Нарежного от Шиллера. Основанием для нее Андрею Тургеневу служит, разумеется, стилистическая близость, потому и сходство с Шиллером заканчивается на ней же. Участники младшего тургеневского кружка «по Шиллеру» вырабатывали свой личностный и нравственный идеал – «энтузиаста» и «чувствительного человека». (Здесь, в частности лежало их расхождение в понимании «чувствительности» с более мягким и медитативным вариантом авторов-сентименталистов.) Одним из центральных предметов наблюдения и размышления Тургенева и его друзей на этом пути становился герой шиллеровской драматургии. Именно его, психологически мотивировавшего всем своим душевным складом и внутренней борьбой эмоциональную напряженность штюрмерского стиля, Андрей Тургенев и не нашел у Нарежного. Без этого в глазах Тургенева вся пьеса превращалась в пустую «погоню за Шиллером», а основной целью автора оказывалось точно подмеченное стремление «возбудить ужас».
Андрей Тургенев и Нарежный могут рассматриваться как представители двух параллельных и практически противостоящих друг другу ветвей русского «шиллеризма». В тургеневском кружке внимание сосредоточено на штюрмерском герое как воплощении личностного комплекса, противостоявшего рационализму и скептицизму, предполагавшего силу и непосредственность страстей, искренность и полноту чувства, а также на сумме морально-философских представлений, которыми этот комплекс сформирован. Этот тип восприятия Шиллера явился ответом на литературно-мировоззренческие поиски нового литературного поколения России и был продиктован тем же общеевропейским «кризисом сентименталистского рационализма», который вызвал к жизни само движение «Бури и натиска»[146]146
Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». СПб., 1994. С. 27. О характере «шиллеризма» младшего тургеневского кружка см. подробнее там же, с. 20–36; также: Истрин В. М. Младший тургеневский кружок и Александр Иванович Тургенев. – Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. СПб., 1911. С. 77–86.
[Закрыть]. В юношеских произведениях Нарежного, напротив, воспроизводится интерпретация штюрмерства массовым немецким романом – беспощадная эксплуатация сюжетно-стилистических эффектов на фоне полного безразличия к какой бы то ни было их идейной подоплеке. Не случайно Шиллер совершенно не заинтересовал Нарежного-поэта.
Еще один интересный пример прямого столкновения отмеченных здесь тенденций можно видеть в более позднем переводе Жуковским, некогда ближайшим другом Андрея Тургенева и деятельным участником кружка, повести популярного автора «тривиальной» литературы Файта Вебера «Святой трилиственник». Для Жуковского оказываются неприемлемыми как раз все самые характерные особенности «тривиального» романа. Он стремится как бы «облагородить» его, последовательно очищая свой перевод от неровностей и напыщенности стиля, убирая многочисленные поминания «ада», «дьяволов» и пр., картины, способные оскорбить, по его мнению, вкус читателя (например, сцены с наемным убийцей и принесенной им отрубленной головой), и перемещая центр тяжести на создание эмоциональной атмосферы и показ внутреннего мира героев[147]147
См.: Реморова Н. Б. Жуковский – переводчик «тривиальной повести» «Das heilige Kleeblatt». С. 258–269.
[Закрыть].
Характерно в этой связи и свидетельство тургеневского дневника о споре с Нарежным по поводу окончания шиллеровских «Разбойников». Предметом разговора была сценическая переделка «Разбойников» берлинским драматургом Плюмике, в России приписывавшаяся самому Шиллеру. У Плюмике, в числе других перемен оригинального текста, в финальной сцене Швейцер убивал Карла Моора, чтобы избавить его от руки палача. Этот вариант «Разбойников» лег в основу русского перевода Н. Н. Сандунова[148]148
Подробнее см.: Данилевский Р. Ю. Шиллер и становление русского романтизма. С. 38–41.
[Закрыть]. «Перед обедом был я в ком<пании> у Мерз<лякова> и <зачеркнуто: спорил> говорил о „Разбойниках“ с Нарежным, – записывает Андрей Тургенев 12 ноября 1799 г. – Он спрашивал моего мнения, на что Шиллер в другом издании переменил конец, и утверждал, что в переводе Санд<унова> гораздо лучше, что он убит наконец Швейцером. Я думаю 1-е: что Шиллер верно имел свои хорошие причины на это и сказывал ему свое мнение, вот что я говорил ему»[149]149
Рукописный отдел ИРЛИ. Ф. 309. № 271. Л. 6.
[Закрыть]. Далее Тургенев делает попытку психологически обосновать поступок шиллеровского героя: «Фантазия Карла Моора была во все продолжение действия сильно натянута и имела сильное действие, наконец, в конце пиесы она дошла до высочайшей степени; надобно было всему ослабнуть и опуститься. К этому присоединились поразительные бедствия; энергии души его было должно непременно быть ими подавленной, и этой минутой воспользовался Шил<лер>, чтобы кончить пиесу. В таком немом, бездейственном, мертвом отчаянии мог он принять намерение умереть от руки палача. Но и другой конец справедлив. – Все заснуло в нем от утомления и отчаяния. Швейц<ер> мог опять пробудить его своими представлениями, мог возродить в нем прежнюю гордость и – вот другой конец пиесы; но в этом случае, может быть, душа зрителя утомилась бы от частых убийств. Автор хотел предохранить от сего, и кажется прав»[150]150
Там же. Л. 6 об.
[Закрыть]. Для Нарежного, несомненно, имела решающее значение сценическая эффектность заключительного убийства, и с этой точки зрения он не случайно отдавал предпочтение финалу Плюмике. Тем более, что, как показывает собственное творчество Нарежного, он не боялся «утомить» душу зрителя и читателя лишней кровавой сценой.
* * *
В первых своих «шиллерианских» произведениях Нарежный обошел вниманием ту сторону немецкого романа, которая была связана с таинственно-ужасным (unheimlich). Правда, в «Дне злодейства и мщения» появляется замок с томящимися в подземельях узниками, но в нем еще нет ни страшного, ни таинственного. Замок с его темницами, легендами, призраками входил в атрибутику «тривиального» романа, являясь в то же время, пожалуй, центральным мотивом «готической» прозы[151]151
См.: Garte П. Kunstform Scháuerroman. Eine morphologische Begriffbestimmung des Schauerromans in 18 Jahihundert von Walpoles «Castle of Otranto» bis Jean Pauls «Titan». Leipzig, 1935. S. 38–40, 41, 42, 96; Zacharias-Langhans G. Der unheimliche Roman um 1800. Diss. Bonn, 1968. S. 48 ff.
[Закрыть]. Этой области изящной словесности Нарежный отдал дань своей трагедией «Мертвый Замок», завершенной к марту 1801 г.[152]152
Дата проставлена на титуле. Рукопись с цензурным разрешением от 16 декабря 1801 г. хранится в Отделе письменных источников ГИМа (Ф. 342 (Барятинских). Оп. 2. № 1).
[Закрыть] Трагедия эта до сегодняшнего дня остается неопубликованной; текст ее практически не введен в научный обиход, а сведения о ней в исследовательской литературе скудны и лаконичны. Тем не менее указывалось на зависимость сюжета трагедии от шиллеровских «Разбойников», а образа центрального персонажа, маркиза Сатанелли, от немецкого «черного» романа[153]153
Данилевский Р. Ю. Шиллер и становление русского романтизма. С. 50; Lotman Ju. М. Neue Materialien… S. 425. Ср. определение А. Н. Егунова: «наивное следствие чтения Шиллера и готических романов» (Егунов А. Н. «Плоды уединения» Н. И. Гнедича. – Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры: XVIII век. Сб. 7. М.; Л., 1966. С. 315).
[Закрыть]. Не был назван, однако, ближайший источник, которым на этот раз Нарежному послужило одно из самых знаменитых «готических» произведений – «Удольфские тайны» Анны Радклиф.
Увлечение «готическим» романом, принявшее в России на какой-то период характер настоящей эпидемии, началось несколькими годами позднее, но охватило в значительной мере как раз среду, окружавшую Нарежного: едва ли не половина русских переводов «готических» романов издана в Москве и переведена вероятно, не без участия университетских студентов. О Нарежном в связи с этой широкой переводческой деятельностью нет сведений, но по его «Мертвому Замку» можно судить о раннем знакомстве и самостоятельном интересе к «готике»[154]154
Не владея английским языком, Нарежный должен был читать роман во французском переводе («Les Mystères d’Udolphe», par Anne Radcliffe, traduit de l’anglaise <…> Paris, an V [1797]). Русский перевод, изданный в Москве в 1802 г. под заглавием «Таинства удольфские», также сделан с французского.
[Закрыть].
Для своей пьесы Нарежный выбрал потенциально наиболее привлекательный в глазах широкого читателя (в то же время и наиболее характерный для готической прозы) эпизод романа Радклиф – приключения в Удольфском замке. Место действия пьесы – «замок древнего Юдольфа» на Аппенинских горах. К Радклиф восходят имена главных действующих лиц (Монтони, Эмилия) и общая исходная ситуация: Монтони (его второе имя у Нарежного – маркиз Сатинелли) приезжает с тайными замыслами в свой старый замок в окружении наемников-рейтар и сопровождаемый женой и ее племянницей-сиротой Эмилией. Далее, впрочем, по этой канве Нарежный разрабатывает совершенно самостоятельную интригу, заимствуя у Радклиф лишь некоторые второстепенные подробности (например, требование Монтони к жене оставить ему духовную на все ее поместья) и сюжетные мотивы. Общие контуры сюжета таковы. Эмилия – дочь графа Кордано, замок которого был уничтожен Монтони, а сам граф и его жена похищены. Графиня умерла в стенах Мертвого Замка, Кордано же до сих пор заточен в одном из подземелий, откуда под страхом проклятия завещает детям мщение. Кроме Эмилии у графа остался сын, который находится в замке под именем рыцаря Корабелло. Тайна объясняется. Тщетно Монтони призывает «бездны изобретательных духов», грозится «оспорить скипетр Светоносцев» и клянется «огнем Везувия», пылающим в его сердце[155]155
Мертвый замок. Л. 34 об., 8 об.
[Закрыть], упорствуя в исполнении своих преступных замыслов. Победе над злодеем помогает нападение на Мертвый Замок шайки знаменитого разбойника с Аппенинских гор. В финале пьесы мщение исполнено и граф Кордано освобожден[156]156
Рассказ о 15-летнем заточении в подземной тюрьме графа Кордано и сцена его свидания там с детьми отдаленно перекликаются еще с одним «готическим» романом – «Сицилианским романом» Радклиф (выходившем в России, вслед за французским переводом, под заглавием «Юлия, или Подземная темница Мадзини»), где героиня находит свою мать, которая считалась умершей, но 15 лет томилась в подземелье. В «Юлии» также очень подробно был разработан мотив таинственного замка (кстати, и имя одной из героинь там тоже Эмилия). Нарежный должен был читать французский перевод (Julia, ou les Souterrains du Château du Mazzini. Traduit de l’anglais <…> Paris, 1798), так как оба русских перевода вышли позднее, в 1802 и 1803 гг.
[Закрыть], причем заключительная сцена, написанная как бы в развитие аналогичной ей из «Дня злодейства и мщения», способна потрясти воображение читателя своей натуралистичной жестокостью: победившие благородные герои кладут злодея Монтони живым в гроб на разлагающийся труп его наперсника, объясняя, сколь мучительна будет его смерть.
«Мертвый Замок» следует признать одним из первых произведений оригинальной русской «готики». Помимо отдельных «готических» мотивов Нарежный почерпнул у Радклиф важнейшее – саму общую таинственную атмосферу «готического» романа. Ее он пытается передать в первую очередь, многократно указывая на таинствен ость и страшное прошлое Юдольфского замка – «замка ужаснейшего самого ада»: «Замок древнего Юдольфа! Кто проникнет страшные твои заклепы? Кто обнаружит ужас, основавший в тебе престол свой? Кто откроет свет надежды в сердце заключенного в тебе узника! Страх, ужас – вечные твои хозяева, и тайны твои сокровеннее судеб Предвечного; и кто из смертных откроет их, замок страшного Юдольфа?»; «Уже ты обветшало, здание веков прошедших. Целые три века было ты загадкою Европы и ужасом Италии. – Неужели при Сатинелли обнаружатся твои тайны и стены твои рушатся со мною? Кто из смертных имеет столько смелости, чтоб мог без ужаса коснуться оград твоих; и кто из демонов столько отважен, чтобы мог пройти глухие мраки полные трупов, пройти стены, обрызганные кровию?»[157]157
Мертвый Замок. Л. 6 об., 55, 69 об. – 70.
[Закрыть] Нарежный даже загадочно семантизирует имя замка, превращая Удольфо в «замок древнего Юдольфа», он вводит и пророчество («Мертвому Замку недолго жить на земле. Его постигнет участь Содома»), также нагнетающее таинственную атмосферу. Тому же эффекту служат эпизоды с голосом, который неожиданно вторит из толщи стены мыслям злодея, восходящие к «Удольфским тайнам» и, как и у Радклиф, в конце концов получающие вполне рациональное объяснение.
В целом Нарежный вполне успешно осваивает «технику тайны». С той только разницей, что в «готическом» романе тайна являлась основным сюжетообразующим стержнем, организовывала все романное повествование и объяснялась на последних страницах. У Нарежного же она теряет свою функциональность. Таинственное прошлое Юдольфского замка, на которое последовательно указывает автор, не играет роли в развитии сюжета и даже не получает в пьесе никакого разъяснения. Внутренние отношения и предыстория героев поначалу загадочно интригуют читателя, но раскрыты автором рано, уже в середине второго действия. Нагнетавшиеся ужас и таинственность с этого момента почти исчезают, и трагедия, следуя общей драматической схеме, неуклонно движется к предугадываемой читателем развязке.
В «Мертвом Замке» Нарежный остается верен штюрмерской стилистике, которая здесь еще отчетливее, чем в предшествующих произведениях. Связь трагедии с Шиллером видна и в выборе драматической формы, и в центральной фигуре злодея – Монтони-Сатинелли, вариации шиллеровского Франца Моора. Отдельные фрагменты выглядят попытками имитации общего строя и «содержательной стороны» рефлексивных монологов шиллеровских героев[158]158
Например: «<…> Кто осветит туманы вечности? И раздерет ужасную завесу судьбы своей! Ты, непонятный владыка непонятного мира! Скажи, уверь – на что беззаконие смешалося с добром в твоем творении? Слеза окропляет уста, готовые к улыбке, – и погребальный факел озаряет брачное ложе. Но кто постигнет цепь творения! Кто укажет строителю миров, чтобы он творил одно доброе, а зло искоренено было из круга творения? Кто постигнет, для чего среди благоуханных трав растет смертная цикута? И между мирными животными пресмыкается ядовитая ехидна? – А мы, слепые твари, мы смотрим и не видим! – Или не всякий день хищные птицы терзают слабых, а тигр упивается кровию лани! – За что же ропщем мы за пролитую кровь сочеловека? – За что? Смерть скрепляет узы жизни, а кровь питает сию грозную повелительницу всего живущего» (Л. 119 об. – 120).
[Закрыть]. И все же шиллеризм Нарежного и тут представляет собой не более как модную оболочку, в которую на этот раз облечены также входящие в читательскую моду готические мотивы. Причем и с тем, и с другим Нарежный поступает одинаково. Им движет стремление к внешним эффектам, и берет он «верхний пласт». Поэтому «готическая» тайна легко теряет под его пером свои сюжетные функции, а из шиллеровской стилистики уходит едва ли не главное – ее психологическая подоплека.
По тому же пути, что Нарежный, шел и Гнедич в своих ранних произведениях из сборника 1802 г. «Плоды уединения» (отрывок «Несчастная любовь», трагедия «Честолюбие и позднее раскаяние» и повесть «Мориц, или Жертва мщения») и романе «Дон-Коррадо де Геррера, или Дух мщения и варварства гишпанцев» (М., 1803)[159]159
См. их характеристику в указанной выше (прим. 20 /в файле – комментарий № 153 – прим. верст./) статье А. Н. Егунова; также: Lotman Ju. М. Neue Materialien… S. 424–425.
[Закрыть]. Не случайны поэтому частные переклички между «Доном-Коррадо» и «Днем злодейства и мщения» Нарежного. Кроме заключительной массовой сцены разоблачения злодея в его замке, ужас которой усиливается описанием грозы (впрочем, в обоих случаях возможно прямое влияние «Разбойников»), сюда относится, например, один общий персонаж – жид Вооз, управитель Дона-Коррадо, помощник во всех его преступлениях, который, когда мера злодействам Коррадо исполняется даже в его глазах, отворачивается от него и способствует его падению. В «Дне злодейства и мщения» жид Вооз – управитель и поверенный Банита Зельского и выступает в аналогичной сюжетной роли. Совпадение указывает если не на общий, пока не проясненный источник, то во всяком случае на внимательное чтение Гнедичем «драматического отрывка» Нарежного. Причем Гнедич значительно усиливает мрачные краски в описании Вооза.








