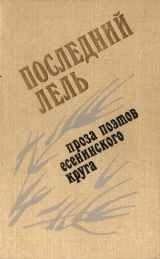
Текст книги "Последний Лель"
Автор книги: Сергей Есенин
Соавторы: Николай Клюев,Алексей Ганин,Сергей Клычков,Пимен Карпов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 36 страниц)
Князь тьмы
Как-то шумели ветлы. Прорывалось сквозь серебряные крылья жемчужных туч копьеносное солнце. Шла по горе алая Люда, с сизыми, как потухающий закат, русалочьими глазами, таившими роковые бездны. В грозовом солнце встретил ее Крутогоров. И сердце его ударилось больно, зловеще и тяжело, заслышав зовы бездн, их роковой и неотвратимый полон. Но из синих, огромных, русалочьих глаз глядела на него кровожадная, смертельная ненависть, и нескончаемая жуть, и страхота, и пытка…
Безнадежно опустив голову, молча прошел Крутогоров мимо Люды. На крутую, затерянную в диких горных цветах и ясенях, таинственную дорогу вышел. Но только больше уже ничего не видел вокруг себя, не слышал, не знал за пышными русыми косами, гибким, змеиным станом и сизыми русалочьими глазами, маячившими словно черно-багровые зарницы… И цветы при дороге – были все те же огненные, загадочные цветы: Люда.
Непонятное что-то поразило ее и роковое. И душу ее, ее огромные русалочьи глаза ненасытимая переполнила ненависть к миру. На нем срывала она эту ненависть, смеясь черным смехом, круша и убивая. Ходили слухи, что ею отравлялись ключеструи, колодцы и источники. И она же душила шелковым своим поясом всех, кого ни встречала наедине, хитростью, дьявольской улыбкой и ловкостью обезоруживая жертву. Но что удерживало ее губить Крутогорова?
В глазах ли ее – в синих безднах, хранивших ужас и тайну, яды мести смертной тому, кто полонил ее и вселил в нее ненависть, – не отстоялись? В сердце ли? Но только она зачем-то ждала и молчала. Не затем ли, чтоб внезапными огненными бурями сокрушить его?
А Крутогоров, кляня и благословляя любовь, мать ненависти и бурь, одиноко и недоступно жил в старой башне, на крутой горе.
Нога непричастного не ступала туда. Но тихими зорями, словно кровавый призрак, приходила на гору Люда. Глядела с высоты вдаль, за леса и реки. По чем-то неведомом томилась. И пропадала в лесу. И не знали, зачем она приходила на крутую гору. Знали только, что в глазах ее – проклятие и ужас.
В лесной расцвет бродил Крутогоров по белым медвяным травам, обнимавшим сердце свежим радостным шумом и певшим сладкую песню. В глубоком черемуховом молодняке встретились с ним хмельные, дикие лесные хороводы. А из хороводов, гордую приподняв голову, глядела непонятным, упорным, сизым взглядом русалочьих глаз Люда. Ждала. А может быть, смеялась и проклинала. Русые, пышные волосы ее тяжелыми вились, желтыми, цвета поздней ржи плетями вокруг головы и белой лебединой шеи. Ложились на точеные плечи литым золотом. Прикрытое короной их алое наклоненное лицо кровожадной улыбалось улыбкой. Как будто проклинало и мстило. А и грозно лукавило жутким, непонятным лукавством огромных, дьявольских, сизых глаз.
В древних диких полях, в степной землянке жил Крутогоров наедине с Богом.
И по вечерам, в спелый, желтый, сонно разливающийся океан ржи стройно-знойная приходила, гибкая Люда. Склонив голову, глядела в закатную огненную даль. Жуткие ловила предвечерние зовы. Вздыхала безнадежно-тяжко: Крутогоров.
Литое золото волос ее сливалось с кованым золотом заката и поздней ржи. Огромные же глаза все так же таили бездны, и ненависть, и тайну, и пытки…
За нею, кровожадной, недоступной и невозможной, издали следил Крутогоров. Но так и не узнал, зачем приходила она в закатную степь? О чем были ее думы, чем полно было сердце ее? Видел только, как маячил на закате алый ее сарафан да пылали неутолимым огнем синие ее бездны и кровавая улыбка…
В огненных муках любви, ненависти и проклятий шел Крутогоров, не помня, куда и зачем. А в сердце его цвели кровожадные цветы и пела, точно ураган, колдовская песня: Люда.
Проклял ее Крутогоров страшным, смертным проклятием. Ушел в пустыню. Но и в пустыне, в последний раз, приходила Люда. Пытала Крутогорова. Звала и вырывала из груди сердце, уходя недоступной и невозможной…
Только теперь догадался Крутогоров, отчего Люда, в последний раз встретившись, не опустила, как прежде, лицо, не отвела огромных сизых глаз – черно-багровых зарниц, – но долго, долго, недвижимо, в лютой ненависти поглядела на него и отвернулась. Она уходила, эта смертельная, заклятая любовь, навсегда…
Но тихо теперь в сердце, как в саду, где лишь изредка переплескивались с вечерним светом липы да плыл сладкой волной малиновый звон. Будто ходил кто-то невидимый и нежный, скликая на землю ангелов. А на земле лазоревые цвели цветы и, что перлы, переливались по клейким лепесткам росы. Малиновый звон манил за сизые дали узывчиво, с жемчужно-белыми сливаясь далекими туманами… Над стройной, белой сельской колокольней, овеянной пухлыми темными липами, белокрылые вились ангелы. Звонили в серебряные колокола.
А зачарованный звоном и зовами-снами, зовами ночи, перешептывался Крутогоров с цветами:
– Кто зовет меня?
Но цветы шелестели лепестками:
– Не знаем.
Смутно Крутогоров чувствовал:
– Это она…
И шел, цепляясь за распустившиеся мокрые розы, влекомый малиновым звоном, к синим жемчужным туманам. А в сердце его цвели черные змеиные цветы. Молчаливые бушевали, окованные демоны. И пел звездный ураган: Люда.
Крутогорова кто-то окликнул. В аллее звенел шпорами, пригинаясь, Гедеонов. Вострые, впалые, суженные глаза его в сумраке неуловимо кололись, как концы игл. Продолговатая голова качалась, как у змеи, приготовившейся к нападению. Его бил недуг.
– Я… тебя не узнал… – дымил он сигарой.
Плевал яростно на цветы. Скрипел зубами:
– Чер-рт… Не знаешь куда и деться от этой дряни!
Ноги его тряслись.
– Отовсюду прет эта гадость… Негде вздохнуть!
Цветные почки разрывались под теплой росой. Лил аромат. А ночные зори пылали голубыми пожарами. Но Гедеонова только мутило это. Ибо красотой зорь, звезд и мира наслаждались люди. Гедеонова же радовало только то, о чем не только прокаженные и рабы, но и сильные, подобные ему, Гедеонову, – не знали, не догадывались и чего не видели никогда.
Красота цветов, зорь, солнца хоть и не так остро, как одаренных священным огнем свыше, а трогала Гедеонова. Зажигала восторгом. Но тотчас же и подымала на огненных копьях зависти и ревности. Ибо не одному ему на свете была дана…
Зацветала ли голубая заря, вспыхивало ли светло-алое, победное солнце – Гедеонов, забыв про зависть, в сладком замирал восторге… Но смертельно жаль ему было, что не на одного его брызнули златотканые лучи солнца. Лучи эти вливали ему уже в сердце не наслаждение, а смертный яд. Проклинал он солнце… Закрывал глаза и в темноту бежал.
Кадил ли ароматом распустившийся, обрызганный росой мак, шумел ли протяжным шумом лес, баюкая сладкой музыкой, – также, забыв про зависть, трепетало сердце Гедеонова от нахлынувшей, словно сон, радости. Но пробуждалась зависть сатанинская и ревность всепопаляющая.
– Как проститутка, эта природа… – харкался Гедеонов. – Всем доступна… Но и проститутка рабу или прокаженному не отдается… А природа к этим-то и благоволит больше…
Солнце Гедеонов клял и хулил непрестанно. И никогда не показывался на яркий солнечный свет, чтобы не унизиться перед рабом, к кому солнце благоволит больше, чем к властителю мира.
– Вот если б надеть на земной шар этакое чехло – мечтал Гедеонов, – чтобы скрыть от людей солнце, звезды, облака, дожди, да устроить бы нечто вроде аренды-откупа на небо, солнце, звезды и дождь, – ну тогда бы другое дело!..
Тогда бы уж Гедеонов не проклинал мир, но благословлял бы. Под всемирным-то колпаком облюбовал бы лучшее на земле место, насадил бы сады красоты невиданной, с фонтанами, озерами, водопадами, обнес бы их высокой гранитной стеной, открыл бы солнцу и дождям да и жил бы один-одинешенек, наслаждался бы единственной в мире, никому не ведомой красотой сколько душе угодно.
А если б кому захотелось взглянуть на солнце животворящее – в темноте-то, без солнца и влаги, под колпаком долго не проживешь, – Гедеонов за дьявольскую пытку (без пыток ему и жизнь не в жизнь, и красота не в красоту) открыл бы над какой-нибудь ямой небо и солнце – любуйся, счастливец!
Но уж ни за какие пытки в мире никого не пустил бы к себе за гранитную ограду…
– Хорошее дело – колпак над землею и аренда-откуп на солнце!
Но опять обжигало Гедеонова бурым огнем зависти неутолимой и ревности. Ведь раньше-то люди наслаждались красотой мира – как же быть с теми? С них уже откупа не возьмешь. Да и никакие откупы не утушат всеопаляющей зависти к ним…
– Положим, – размышлял Гедеонов, – те, о ком говорят, будто они наслаждались жизнью, – только на самом деле мучились… Может быть, это все фантазии поэтов да историков…
Зато тех, кто живет и наслаждается красотой теперь, – Гедеонов подушил бы под колпаком, ой подушил бы!.. Уж отомстил бы за прежнее упоение красотой…
– А как же с будущим? – тревожился Гедеонов. – Ведь после меня проклятая чернь все-таки найдет путь к солнцу?! Попередушить ее загодя?.. Но как же без пыток быть?.. В смертный страшный час на пытке только и можно будет отвести душеньку…
– Эка! – утешал себя он. – С будущим можно будет покончить единым махом. Когда к тебе придет смерть – нажми этакую кнопку, чтоб от земного шара не осталось и следа и чтоб потом ничто уж не жило.
Но – грызло Гедеонова и сверлило винтом – чем отомстить той твари, что вот теперь, вот в этот миг упивается зорями огненными, душистыми цветами, звоном звезд и музыкой лесного шелеста и волн, испытывая от радости бытия, от священного огня, заложенного свыше, может быть, такое счастье, такой восторг, какого ни один властитель мира не испытывал и не испытал бы, даже если бы заставить солнце и звезды светить, а землю цвести и волнами петь – только для него одного.
Ибо тот царь, кто хоть и одет в рубище, хоть и задыхается в грязи и ярме, но глубже постигает красоты мира, а не тот, кто носит драгоценные одежды, побеждает миры и царствует над ними, но глух к красоте.
Не отомстить презренным! Не утолить зависти!
– Н-да… кое-что я про тебя слыхал, – покосился на Крутогорова Гедеонов, и голова его закачалась, как у змеи, приготовившейся к нападению, а правая кривая нога затряслась, гремя шпорой, – мне с тобой надо поговорить.
По берегу озера, запавшего в темную хвою гор, лазоревый всплывал туман. Над горами – деревушки, скиты, дальний Загорский монастырь, белый мраморный дворец Гедеонова, обнесенный острыми, как копья, тополями, и приземистая белая же каменная церковь в шуме яблоневого сада тонули и гасли в вечернем голубом сумраке, словно неведомые призраки или тайные стражи.
Когда-то скиты, моленные и кельи были Гедеоновым заколочены. А жившие в них пророки, подвижники, глашатаи Града и прозорливцы сосланы в Сибирь.
Когда-то все Знаменское и окрестные деревушки трепетали от одного имени Гедеонова. Теперь же мужики не боялись больше его. Ждали грозы.
Гедеонов, удалившись в город, копил месть и пытки проклятому мужичью. Только изредка приезжал летом из Петербурга в Знаменское с княгиней Турчанской, в молодости отбитой им у мужа, и ее дочерью, семнадцатилетней русокудрой девицей Тамарой.
Сад, мелькавшие под яблонями кресты, надмогильные камни, мраморные памятники и поросшие папоротником могилы оцепляла сбегавшая по крутосклону каменная ограда. Через сквозной проход меж могил широкой дорожкой сходил к озеру Крутогоров молча. Гедеонов, не отставая от него, трундил:
– Да… Наслышан, наслышан… Тут к тебе есть дело…
– В чем же оно? – повернул лицо Крутогоров.
– А вот узнаешь…
Перед мраморным могильным памятником с плачущим ангелом Гедеонов, упав вдруг ка колени, поднял голову кверху:
– Помяни, господи, болярина Владимира…
Встал. Грустно покачал головой:
– Дед мой. Душа-человек был…
Но, тихонько захохотав, ткнул сапогом в могилу остервенело. Медленно, со смаком выплюнул:
– Нравственность все наводил… Ну я ж его и навел. О боже, прости меня, окаянного! А его помяни, мать бы…
Вплотную подойдя к Крутогорову, Гедеонов тронул его за плечо:
– Не-ет… Это что-то… невероятное! Видел я красивых женщин… Но это что-то… невероятное!
– Людмила? – дрогнул Крутогоров.
– Ха-ха! Затрясло?.. – захохотал глухо Гедеонов, держа качающуюся, вытянутую голову на отлете. – Ну, Людмилка – это еще что… Вот Старик – да. Замучил Он людей! Заканал. И так-то молятся они Ему… И этак-то… Все Ему мало! Маклак! Жид! Плохо молятся? Так что ж это за Бог, коли молитв глупых требует! Хвали меня, дескать. Кулак.
За липой, качаемой темным ветром, вспыхнула вдруг свеча в церкви. Гедеонов вздрогнул. Подскочил, вихляя кривыми ногами, к кованой двери. Загремел замок. Свеча потухла.
– Церковь заперта?.. – удивленный, спрашивает Крутогоров. – А в церкви кто же ходит?
Гедеонов, вытянув вперед приплюснутую голову:
– А вот увидишь.
И вдруг, в приклепленную к двери икону Саваофа харкнув, заскрипел люто зубами:
– Я разве мучу? Вот кто мучит! Я разве…
– Га-ад, – тихо, как бы нехотя, бросил Крутогоров.
– Я? – подскочил Гедеонов. – Ого! Да ты, брат, смел… Но не бойсь, я тебя не убью. Да. Гад. А кто не гад? Ты меня ешь, я – тебя… Мужиков тесню я, то да се… А меня мужики милуют?..
Качал медленно головой. Колючими водил, жеглыми глазами, чуть видимыми в сумраке.
А сумрак прилегал к земле строже и гуще. Голубая ночь, притаившись, словно заговорщик, колдовала жемчужным колдовством. Протяжными пела шумами, травами и цветами. Светила алмазным ожерельем звезд и лазоревых зорь.
– Разве это – красота? – вздвигал плечами Гедеонов, харкаясь на цветы. – Да и вообще есть ли красота? Никакой такой красоты нет Это самообман так называемых… поэтов. Фантазии.
– Мир – красота, – прервал его Крутогоров. – Да от вас, гадов, красота скрыта. Вот вы и проклинаете мир!
– Скрыл еси от мудрых… – подкидывал Гедеонов, кладя сухощавые свои руки на плечи Крутогорову. – Это верно. Нам пользы подавай… Хороший обед, а не красоту… Красота мне – зарез. Некуда уйти мне от этого ножа души моей! – странной дрожал он дрожью. – А вы всю жизнь режете меня этим ножом!
Голос его, гнусавый и тонкий, глох, и все тело тряслось.
– Положим, все сильные ненавидят красоту… – утешал себя Гедеонов вполголоса. – Такие, как я; Иисус тоже ненавидел красоту…
Опустил голову. Махнул презрительно костлявой рукой:
– А все же – это только жидок средней руки. О господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, прости меня, окаянного!.. – сокрушенно вздохнул он. – Для меня жиды – звук пустой… Но из-за одного этого жидка я бы всех их поперерезал! Оставить целый мир в дураках – это… – осекся он, должно быть испугавшись Крутогорова. – Ну да, Иисус – бог… Но зачем он родился от жидовки?.. О матерь Божия, прости окаянного! У-ух и не-нави-жу ж я жидовку!.. У-у-х-х… Жиды переняли меня… И не-нави-жу ж!..
В саду захохотали сычи, вещие совы. Под обрывом ветлы, взрытые черным ветром, то ползли шевелящимися валами, а то, подняв свои дикие гривы, кидались на озеро, будто львы…
А пьянеющий дальше и больше от злобы Гедеонов, уже не сдерживаясь, сжимал трясущиеся кулаки:
– Кр-ро-вушка!.. Крровушка-матушка!.. Только она и спасает меня… Как напьюсь кровушки… солененькой… теплой, живой… липкой… Так душенька и отойдет… Не будь крровушки-матушки – можно было б с ума сойти!.. Каждый – и жид! И прокаженный! И раб! Каждый целит быть… Богом… Зарез! Зарез! Мать бы…
Гремел саблей. Харкал:
– Сволочи! А душонки-то – трусливые, сволочи. Спасибо, хоть кровушка-то не по плечу, сволочам… А то – хоть ложись да помирай…
Под церковью вдруг глухо что-то загрохотало. Дикие понеслись оттуда крики и топоты. В окнах замаячили смутные отсветы и огни… А свисты, хохоты неслись и неслись…
Гедеонов, прислушиваясь, захохотал и сам – долго и протяжно, острым тряся, загнутым клином бороды. Захохотали по ветлам и совы.
Из-за поднявшихся на дыбы черных куп, опрокинутых в озере, красная выглянула остророгая луна на ущербе. Свет ее, жуткий и неживой, упал на горбатый нос Гедеонова, на покатый его узкий лоб и рыжие волосы.
В красном свете ущербной луны хохотал Гедеонов безотрывно, чем дальше, тем громче, раскатистее. Плечи его колыхались от гнусного, ехидного, кровожадного хохота. Жуток был этот хохот и жесток, как ласка палача.
– Ей-богу, а ведь мы с тобой какие же преступники? – гнусил он. – Только сболтнешь другой раз лишнее. В церкви-то вон как запузыривают черти! Завидно, ей-богу…
– Все? – подступил вдруг к нему Крутогоров.
Гедеонов, насторожившись, дернул кривой, в звонкой шпоре ногой, вытянул вперед качающуюся голову:
– Нет, не все.
Притаились ветлы. Сразу как-то умолкли совы. Тишина перемешивалась с сумраком. Подкрадывалась к сердцу.
– Я русский человек, хоть мать моя и немка… – подбежав вдруг к Крутогорову, схватил его за руки Гедеонов. – Ведь я вот генерал… Жидка какого-нибудь я и близко не подпустил бы! А с тобою вот запанибрата… Потому что русский ты… Самородок, можно сказать! Хоть ты и хлыст… Так вот, я хотел сказать… Хорошо бы открыть бы… в церкви-то!.. радение, так сказать… Ты туда духинь своих приведешь… Хлыстовок-то… И эту… как ее… Людмилку… Собирать девчушек да кровушку из них, по капельке хоть, и пить… Ведь тебе-то, надеюсь, как самородку, по плечу кровушка-то? Это разным там сволочам не по плечу…
Протяжно и сладко вздохнул Гедеонов.
– Зна-ю, что ты и скажешь… Ну да что ж делать…
Но Крутогоров молчал.
А Гедеонов был сам не свой. Голова его дергалась то вправо, то влево. Руки тряслись.
– Что? Что? – маялся он. – Очень нужно! В каждом – огонь священный… Все поэты!.. Все вдохновенны!.. До последнего идиота… Думаете, одни вы чисты сердцем? Только вам открыта красота? Всем!.. Все тайновидцы и пророки! Нет нищих духом! Мы не нищие духом, а хранители духа… А вы торгаши духа!.. Думаешь, я не постигаю красоты мира?.. Да я молчу об этом! Я велик, а молчу, мать бы…
Вобрал голову в плечи. Отскочил от Крутогорова к паперти:
– А Людмилку я давно бы отбил у тебя, да ведь как я помирюсь, что она была твоя?..
Крутогоров, спускаясь вниз, от церкви к озеру, все так же молчал.
– Да. Уж, видно, весь я в тлене и смраде, – гулко гнусил ему вслед Гедеонов. – Растерзать меня надо… Так и быть. Приготовлюсь. Выпью чашу сию… А пока – польюсь кровушки… Солененькой… Горячей… Кр-ровуш-ка-матушка! Ах вы мои девчушечки голопузенькие!..
Отомкнул тяжелый, зловеще гремевший замок. Вошел в притвор, закрыв за собою дверь наглухо.
Из-под подземных сводов, не переставая, глухие неслись топоты, свисты, гики. Крутогоров молчал, опустив голову. Больно и тяжко билось озеро под обрывом. В саду черный ветер, взрыв глубокие вершины, поднимал шум и раздувал звезды…
Как-то так вышло, что незнакомка с лицом, завернутым в покрывало, в парке, подкараулив Гедеонова, с размаху пырнула его ножом в брюхо да и скрылась.
Гедеонов упал. От страха чуть не отдал богу душу. Но, окровавленный, все же приполз в дворец на коряченьках.
В доме гости, ахая и убиваясь, перевязали ему рану и уложили его в постель. С усиленно удрученными и старательно заплаканными лицами вздыхали горько, подперев щеки, подхалимы:
– Не пощадили, злодеи… Где же справедливость?.. На отца своего дерзнули!..
Отойдя же к двери, ворчали вполголоса:
– Жив остался, подлец… О чтоб его черти ободрали!..
А иные, чтоб отличиться, осторожно, шепотком, советовали на ухо Гедеонову немедля же взяться за розыски злодеев. Но Гедеонов молчал. Только сжимал кулаки да желтыми скрипел, гнилыми зубами.
Через неделю рана зажила. Как будто ничего и не было. Казалось, не за что было мстить да и некому. Но забрело Гедеонову в голову, что незнакомку подкупил Крутогоров с мужиками.
В подворье согнаны были черкесами селяки.
– Ага! Сволочи, мать бы… – крутился и брызгал слюной перед ними рассвирепевший помещик. – Заговор?.. Мятеж?.. Сотру в порошок! Законопачу! Загоню дальше солнца!.. Говорите, где эта шкуреха! Людмилка-то?.. Чтоб сейчас была мне представлена! Чтоб сейчас, мать бы… А не то – позакатаю! И… Крутогоров этот…
Но мужики, глядя в землю и откашливаясь, мяли в руках шапки понуро.
– Нешто мы знаем?..
Чтоб сейчас!.. Шкуреху, и Крутогорова этого самого… Ну! Марш! – командовал Гедеонов.
Вдруг из толпы мужиков юркая вынырнула, суглобая попадья с бледными щеками и синими кругами у глаз. Повела густыми, черными бровями, вскинутыми словно крылья. Топнула ногой, глядя исподлобья на Гедеонова:
– Это я была! Ну? Я буду и ответ держать.
– Варвара… – шарахнулись мужики. – О господи!.. Черт с младенцем… Связались жа!
Гедеонов, пряча глаза, остолбенелый, звенел шпорами. Мычал, мотаясь по подворью:
– М-м… И ножом, значит… М-меня?..
– И ножом, значит, – развела Варвара руками. – А то как же?..
– За что, мать бы… – гремел шашкой и ежился Гедеонов. – Ах ты, стерва!
– За то… – подступила Варвара к балкону, стуча себя в грудь. – Кровь мою кто пил?.. Ты?.. А в церкви под алтарем шабашит по ночам – кто?.. А невесты отчего сходят с ума?.. Кто их бесчестит?.. Ты?.. Ты-ы? – хрипела она. – Бери меня в острог! Ну! Бери! Вешай меня! Бей!
Гедеонов, ошеломленный, опрокинутый, крутясь и сжимая кулаки, шмыгнул за стеклянную дверь дворца. Тонкий долетал оттуда до толпы, гнусавый голос его:
– В гроб уйду, а не забуду стерве! Законопачу! Загоню дальше солнца, мать бы…
Мужики трясли бородами свирепо. Гулко, норовя, чтоб услышали гости и челядь, лаялись:
– Рвань… Костоглот, сукин сын!.. Кровопивец… А еще генералом прозывается…
И, окружив Варвару, пытали ее миром:
– Так, значит, шабашит?.. Под церковью-то?..
– Шабашит, милые… – крутила головой попадья зловеще и загадочно. – Шабашит, враг…
Но мужики знали и без нее, что шабашит.
Гедеонов – князь тьмы. Древние сбылись, седые пророчества. Мать Гедеонова – тайная дочь царевны и жида-нехристя. И зачат был ею сын ее от демона, летавшего по ночам и делившего с ней ложе черной, запретной любви.
Потому-то Гедеонов и колдовал на огне и мраке, справляя шабаши, то в монастырях, то на кладбищах…
В молодости Гедеонов каверзничал и шабашил на миру. Открыто покупал в Петербурге актерш, публичных девок, курсисток, молодых жен чиновников, бедных девочек. В полночь вез их на кладбище. И там, раздев донага, мучил на могильных плитах…
Монахов, сторожей и городовых приходилось подкупать.
– За деньги – все можно купить, – говаривал Гедеонов.
И дрожал, точно в лихорадке, заслышав звон золота…
Но надоедала любовь продажная. Да и жаль было денег. И Гедеонов местью, угрозами, звериной своей красотой брал великосветских красавиц. В любви ему везло, как дьяволу. Княгиня Турчанская из-за него бросила даже мужа.
А все же не забывал Гедеонов и девочек. Пил кровушку.
Дед его, прознав про какую-то чересчур уж жуткую каверзу с девочками, отрекся от него. Отреклась и мать.
Отобраны были у Гедеонова дедовские особняки, фабрики, имения, заводы. Мать оставила ему одно только Знаменское.
– Подковал меня старый черт, мать бы… – изливал душу Гедеонов единственному другу своему, Офросимову. – Без денег – какая это, к черту, жизнь?.. Ни тебе девчушек купить, ни тебе за границу поехать… Зарез!. Зарез.
Утешал его Офросимов. Но он, дрожа и крутясь, екотал люто:
– Де-нежки-и!.. Деньжу-шечки!.. Где теперь мне достать их?.. А уж и докажу ж я старому черту, коли достану денег… Докажу!..
Делать было нечего. Удалившись в Знаменское, жил во дворце Гедеонов один-одинешенек. Копил месть всем и всему. Ждал молча смерти деда и матери. Боясь отравы да убийства, не выходил из дворца. Изредка только в ясные ночи подымался на башню, откуда следил в телескоп за движеньем светил, делая какие-то вычисления. Ибо Гедеонов не чужд был науке. Книга его «Проблема мироздания» даже вызвала шум в ученом мире, как бахвалился сам помещик…
Как-то ранней осенью, когда исходившее последним светом солнце обливало сады, подобные золотой сказке, и вышитый серебром рек бархат чернозема, Офросимов, проездом за границу, завернул в Знаменское навестить друга, а то и взять его с собой попутешествовать в дальние края.
Обрадовался Гедеонов другу.
Но, узнав, что с Офросимовым деньги, странной задрожал дрожью:
– Ой, денежки! – тер он уже лихорадочно руки. – Жди того наследства, мать бы…
Не мог дышать ровно. Дождавшись вечера, потащил друга на прогулку.
За скрытыми чернокленом беседками, в саду, под непроходимыми рядами жасмина, вдруг, выхватив револьвер, выстрелил в упор в Офросимова.
Упал тот навзничь. Безнадежно раскинул руки. И умирающие, помутнелые глаза уставились на Гедеонова упорным взглядом… Непереносимо страшен был этот взгляд. Мир содрогнулся бы от него… Гедеонов же только отвернул острое, перекошенное лицо. И чтобы скорее прикончить друга, хляснул его дулом револьвера по темени. Серые мозги, перемешанные с кровью, брызнули по траве…
В саду вырыл Гедеонов тайком яму. Закопал труп друга. В спешке забыл даже взять деньги.
Перед рассветом уже, преследуемый странными голосами и призраками, вспомнил, что ведь деньги-то остались… Но откапывать труп было поздно. Впору было только заметать следы убийства…
Следы Гедеонов замел. Но его точило. Напрасно искал он, как бы избавить себя от пыток, странных голосов, привидений и вещих знаков кары…
Поставил часовню с неугасимой лампадой на могиле друга. В навьи проводы, тайком, закопал крест. Но не помогло. Умирающие, непостижно страшные глаза преследовали его и пытали лютой пыткой…
– Выстрою-ка церковь на крови… – надумал Гедеонов. – Говорят, помогает…
И закипела работа…
Из-под разобранной часовни каменщики нечаянно, закладывая фундамент, вырыли полусгнивший труп Офросимова, изъеденный червями и подземными гадами. В страхе разбежалась рабочие…
А Гедеонов, ощупав гнойный, зловоенный труп, достал из-под шелкового жилета толстый кожаный бумажник. Подсчитал деньги – десять тысяч. И, обрадовавшись, что на постройку церкви как раз хватит, зарыл труп там же. Каменщикам же строго-настрого заказал шалтать о трупе.
– Это – утопленник… – твердил он перепуганным рабочим. – В озере утонул… Ну, а как утопленников хоронить на кладбище запрещено – его тут и схоронили…
Каменщики подмагивали:
– Как же они под комплицу его засунули-то? Чудно что-то…
– Не поймут, дураки! – кипятился Гедеонов. – Часовня после была поставлена, мать бы его…
Выстроили церковь. Освятили.
Но не помогла и она Гедеонову. Призрак с жутким, непереносимым взглядом ходил за ним и пытал люто.
Прослышал Гедеонов про злыдотников, пророков зла. Переодевшись странником, пошел тайком к ним в лесные их кельи. Но злыдотники велели не залечивать язвы духа, а растравлять их.
– Не-ет, это не дело… – стискивал Гедеонов зубы, уходя от злыдоты. – Клин надо вышибать клином…
Тогда же злыдотники по доносу Гедеонова высланы были в Сибирь, а кельи их заколочены. Сам же Гедеонов уехал опять в Петербург шабашить по-старому, по-бывалому. Но теперь уже скрыто и тайно.
Было открыто «общество защиты детей от жестокого обращения». Гедеонов, собирая на улице приглянувшихся ему бездомных девочек и мальчиков, вез их к себе в дом… И там насиловал их. А после, строго-настрого запретив им говорить, где были и что с ними делали, отпускал.
– Клин надо вышибать клином! – скрежетал зубами Гедеонов, дрожа и сжимаясь.
Узнавший о его приезде дед-вельможа, боясь мести, сменил гнев на милость и пригласил внука к себе во дворец.
Но Гедеонов не очень-то шел к деду. Только раз как-то нечаянно залучил в особняк к нему с молчаливой, странной какой-то девочкой.
Старик-вельможа, больной и дряхлый, лежал уже в постели. Приход внука его очень обрадовал.
– П… По-целуемся… – шептал больной, подставляя Гедеонову посинелые, полумертвые губы. – Прощаю все… Прости и ты… Ради бога… – молил он внука.
Но тот, не глядя на старика, – выслал сиделку и затворил в спальню дверь.
– П… прр-щаю… – бормотал вельможа. – Про-сти-ии ты… А?..
– Ага… старый хрыч… – прошипел Гедеонов, задыхаясь.
Молча раздел перед глазами больного девочку донага. Завязал ей платком рот. Надрезал сосцы.
– Кр-ро-о-вушка! – хохотал Гедеонов, костлявыми стискивая, длинными пальцами хрупкое тельце глухо стонущей и бьющейся девочки. – Ой, кро-овушка-матушка!.. Ах, девчушечка ж ты моя голопузенькая!..
Впившись, как пиявка, в грудь девочки, горячо сосал из нее горько-соленую, обильно льющуюся густую кровь. Пил жадными глотками. Ныл:
– Кровушка… Кровушка…
Разбитый параличом старик, вперив остановившиеся, расширенные, побелевшие глаза в Гедеонова, непонятное что-то промычал. Шевельнул чуть заметно синими, непослушными губами да так и застыл…
Вытер Гедеонов залитые кровью губы. Подошел к деду. И зеленые острые глаза его налились сукровицей…
– Я-я т-тебе покажу, как нравственность наводить… – екнул он, трясясь и брызгая ядовитой слюной.
Схватил старика за горло внезапно и емко, как удав. Поднатужившись и грузно навалившись на него грудью, беспощадно, точно обвалившийся камень, придавил его, онемелого, синего, увидевшего свой конец, к стене…
Руки Гедеонова были крепки, как железо.
Сгорел старик. Тело его, посинелое и закостеневшее, скомканной валялось на постели, поломанной грудой под шелковым одеялом…
Гедеонов поднял с ковра нагую, окровавленную, тяжко и глухо стонавшую девочку. Одел ее, обессиленную, немую. Вышел с нею молчаливо и бесшумно из спальни через ряды раззолоченных комнат на улицу. И, усевшись в ожидавший его у подъезда закрытый бесшумный автомобиль, укатил глухими переулками в загородный вертеп…
Ночью у высокого цинкового, отделанного под золото гроба шла панихида. Гедеонов как ни в чем не бывало суетился уже у гроба, расставляя свечи. Хлопотал около вельмож, сослуживцев деда, приехавших отдать последний долг… Утешал убивающуюся мать свою – дочь вельможи.
Три дня и три ночи Гедеонов, при зажженных свечах, самолично читал у гроба деда Псалтырь… Только изредка чтение прерывалось чуть слышным, тонким хохотом, странным и глухим:
– Ха-а… ха… Клин надо вышибать… клином…
За защиту детей от жестокого обращения Гедеонову дали звание камергера.








