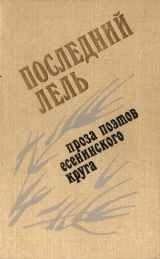
Текст книги "Последний Лель"
Автор книги: Сергей Есенин
Соавторы: Николай Клюев,Алексей Ганин,Сергей Клычков,Пимен Карпов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)
Будто цветной говорливый поток, идут загнетинские мимо чищенья Прохорова. Торопятся. Бабам надо засветло домой к коровам и ребятишкам, девкам и молодухам – за красной морошкой, а мужикам тоже надо.
– Восемь верст – дорога и лошади, – говаривал кто-нибудь из мужиков, подымаясь с привалу.
А до дому действительно восемь верст, да болотом, и болота загнетинским ни обойти, ни объехать, как девкам и молодухам не пройти мимо ягоды.
Жадность какая-то у загнетинских девок и молодух к ягодам, особенно на морошку. Уж чего бы морошка, крепкая, с «каменным» соком – иной старухе и не разжевать, а кто «хороший человек» – если попробовал, больше и в рот не возьмет, а кто не пробовал – пожалуй, и выплюнет. Странно. И чем объяснить такую любовь к морошке, неизвестно. Может, оттого, что собирать ее хорошо, а может, оттого, что она красива, особенно на корню. Когда ее много, большие бурые кочки кажутся красными островками в мертвых зыбунах и корягах. Глянешь нечаянно, и будто красный говор стоит по болоту…
– Веселая ягода… Вот и торопятся, и говорливей цветистый поток.
Но мужикам не до ягод.
Покамест идут по сухой дороге, приятно утомленные хозяйской работой, не наговорятся. Все у них ладно. Клеится слово к слову в узорную быль, и всякая сказка кажется как возможная и близкая явь.
Идут загнетинские, говорят разговоры, что и как, чтобы лучше, а заходят в болото – и цветной поток рассыпается, ломается о пни да кокоры. Все вразброд. И думы вразброд. Крюкают загнетинские, прыгают с кочки на пень, с пня на колоду.
Удивляются:
– Оказия… И откуда это взялось болотище.
– Да-а-а… Обходы да переходы.
– А в мертвый зыбун не полезешь.
– Што?
– Ничево…
– Путем дорожкой, говорю, – весело покрикивает дядя Иван каждому, с кем поравняется на болоте, и ему всегда отвечали:
– Милости просим, ежели так.
– Да люба дорожка.
– Хошь и не больно дорожка, – улыбнется Иван, – а ходить можно, други. Можно еще…
А ныне кто-то ляпнул по-матерному и прибавил:
– Тоже, кадило гороховое… Нашел дорожку…
– А все от себя… – добавляет Клюка.
– Правильно, – бормочет в бороду Прохор.
Болотная сырость охватывает загнетинских. Осыпают загнетинские матерщинами каждый пень, каждую кочку, где довелось им споткнуться, и шире расползаются по болоту. Кричат:
– Куда, направо али налево? Кто куда?
– Влево ягоды больше… валяй… влево.
– Ишь наворочена дороженька, – сердито буркнул Прохор и захлюпал… где попрямей. – Вот уж лешево кладбище – лешево.
– Да-а-а… Дурачье…
А дядя Иван обертывается, снимает картуз и несколько раз крестится на утопающую в синеве золоченую маковку. Кто-то ворчит:
– Ну, игуменья, вышагивай… вон люди-то.
– Не отстанешь…
– Молись, Иван, молись, может, не утонешь…
– Мы привышные… Не утонем…
И снова обходы, и снова ругань. Хлюпают мужики по болоту, лезут, где гуще сосны, чтоб суше, а сосны цепко хватают сучьями за полы, больно стегают упругими лапами руки и лица и, будто назло, бросают пригоршнями колючую хвою в лохматые бороды.
Сосны в болоте шершавые, низкорослые. Оттого и болото кажет глухим, низколобым. Издали видно, как пялятся из-за кочек бурые пни да коряги и дремлют залипшие белыми мхами «мертвые» зыбуны.
– Нет, братцы-товарищи, где это слыхано, чтоб на самом нужном месте и ни пути, ни дороги, – горячится Мишка Клюка.
– Дурачье, говорю, вот и загибай околесины, – кто-то стонет из-за коряги.
– А по-моему, вот што, Клюка, родивсе ты тоже от нашего дурака. Значит, как жил, так и живи… этак ту легше.
– Легче, так ложился бы в жижу, вот она, чего легче, да и подох бы, а вишь нет, тоже ищешь, где суше, а нет суши – и через грязь тяпаешь.
– Нет, братцы, – пора за ум, да по-новому… – пуще горячится Клюка, – а то все пропадем…
– Ну, ладно, што бог даст, то и будет.
– Не знаю, што бог даст, ежели будем так хлюпать…
– В обход.
– В обход так и в обход… все едино, везде грязи до пупа.
– А ты гляди, а то рожу своротишь, колокольня.
– Ничево.
– Нам тут вроде у себя на сарае, каждая колода исхожена…
– А погода, братцы, благодать… Ишь солнышко-то…
И шире, все шире расползаются по болоту. Глуше становятся голоса, и будто их проглотило болото. В болоте прохладно.
О преставлении света, о вшах, о ноющем зубе и прочем
Ближе в ночь огнетается отяжелевшее солнце. Белесым туманом вдали закурились мертвые зыбуны, и видно, как в самые зыбуны расползаются пестрые сарафаны, будто их манит куда рогатая сухорукая нежить. Тараторят.
Крепче запахло угаром от желтых кустов колючей душницы…
– Ой, и не говори, Авдеевна, – где-то в стороне за корягами заливается большеротая Чепиха, – а по всем приметам, милая, скоро преставление.
– И антихрист, сказывают, народился… – кто-то выплывает из баб, – хорошие люди сказывают.
– Ну ищте бы не народиться. Была я ономняся в городу, матушка ты моя Фекла Серафимовна, там, о-ой, и чево только нету.
Кто-то из мужиков рассказывает в другой стороне:
– Прихожу я, брац-ты мой, позапрошлом году к фершалу, зуб прихватило. Говорю: так и так, будь доброй, – говорит, ладно, устроим. Приходи завтре, сегодня паек получать надо и масло. Ну, масло так масло… Прихожу завтре.
– Народился… народился. Гляжу это я, Серафимовна, эстоль церквей, и все будто зря… Идет мимо живой человек и храму господнему ничево, хошь бы не взаправду перекрестился, нет, а живому человеку – ни здорово тебе, ни прощай. Срамотушка прямо…
– Ну, это, Авдеевна, пустое.
– Право слово.
– А ежели которые «блаородные», они никогда не здоровкаются… Вон у меня хозеин… у нас бывают хорошие люди,… а штоб здоровкаться, и заведенья этово нету.
– Да рази это дело, – слышится крепкий голос Митьки Клюки, – тут и отцы наши ходили – маялись, и деды ходили – не радовались, ходим и мы, всем миром загнетинским грязь топаем, и ничево не стыдно… Вишь, дожили, тово и смотри… либо по уши в грязь, либо глаза выворотит…
Болото, знакомое сызмалу, кажется глухим, незнакомым.
Глубже засасывает болотная грязь и без того уставшие ноги, и кажется всем, нет ему, проклятому, конца и нет им, загнетинским, отсюда исхода…
– Да разве кому стыдно, ежели бы мы и совсем сдохли… А?
– Пропадем…
А бабы обиднее и назойливее бродят в болотном тумане.
– И чево же это, Фекла Серафимовна, Анфирей-то смотрит…
– Беззаконие… чистое беззаконье…
– Уж и не говори. Была я, этта, после ранней до поздней у батюшки, у отца Корнелия, да за чайком разговорились, а чаек у батюшки хороший экой, с медом, и пирогов матушка наворотила, только из печи, горячие, гору… Ну, милая, и разговорились…
– Ну, братец мой, и зуб прямо глаза выворачивает. А он говорит: «Ты из Загнетина?» – «Да». – «Так проваливай. Ваши сбору не выполнили». – «Как так? Да мы и продналог, и мясо, и масло, и молоко, и все…» – «Это, – говорит, – нас не касается… Проваливай…» – «Уж будь, – говорю, – милостив, выхвати… Как я с зубом-то….. сам знаешь…» – «Проваливай, – говорит, – мелкая буржувазия, беспортошный», – да за шиворот. «Да ты, – говорю, – не грабай, сучий твой потрох», – а зуб у меня еще больше, да размахнусь, да кэ-эк брякну ему по зубам… да и на убег…
Путаются человеческие голоса по глухому болоту. Голоса и хлюпанье, шуршанье о сосны и эта вечная тишь глухонемого безлюдья вплетаются в белесый туман, и кажется на минуту, не люди идут и мучаются смехотворной и страшной жизнью, похожей на бред, а ожили кокоры и низколобые сосны, бродят кругом и мелют наобум все что попало, чего не было и не будет.
– Но это было, и больше не надо.
– Ты говоришь, дорогу?
– Да и настоящую, вот бы и не мотало…
– Гы, да где бы дорогу кидать, нас вон куда кинули… Иной гашник портошной не бросит под этакой дождь да под вьюги, а нас кинули.
– До Концберху кидали, да еще из пушек прихлопывали.
А сзади несется, откуда-то из-за сосен, исступленно и яро:
– Погоди, мать твоя расперемать, кривоглазый…
– Ничего, может, сам хуже будешь, чудашка, а петух твой тоже ходит…
– Да я тебе говорю по совести, ежели еще раз замечу, убью, так и знай.
– Чудашка ты, право. Да на привязи, што ли, курицу-то держать, чай, не лошадь…
– И привяжешь, все равно решу…
– Попробуй, сам долго ли наживешь.
– А вон в других-ту странах не так, – продолжает Клюка, – там чуть что застой, лужа, сечас дренаж – канава, значит, по-нашему. Вот она и дорога…
– Где это? В людях!
– Да вон хошь в Ермании.
– А ты слушай его, он не то намелет: в Ермании, завел – Ермания да Ермания; так Ермания тебе не Загнетино. Вон мы в Ерманию-то прибыли, и вши этой с нами в плен прибыло, хошь лопатой…
– Ну, братец ты мой, он свалился, а я убег, а, в час молвить, с тех пор и не баливал.
– Умора с этими зубами, а я так сам взял клещи да и выворотил. Ха-ха-ха… три раза принимался, а выворотил…
– Ну и дурак ты после этого, Шкиля.
– Ты умен, а про нас хватит. К тебе займовать не пойду.
– А все-таки дурак, смотри-ка ты, бабу-то чуть не убил. Ну, немного возжой бы постегал, а ты обухом… дурак. Право…
– И вшей, говорю, с нами прибыло в плен, хошь лопатой греби, а привели нас да в баню, а кунды-мунды в бочку.
– Ну?
– Вот тебе и ну… У нас этих вшей еще на сто царей хватило бы, а там единочасно… Вшу-то потом за деньги не купишь…
– Правильно. Инда рад вошке-то… Укусила бы, почесал, вроде как дома побыл, да нет…
– Ищо бы, чужая сторона – не тетка, не приласкает.
– Ну отчево бы ему не выхватить, ежели получил. Значит, тоже масла-то не понюхал… И заводы, знаем, ходят, вот товарищи-те, которые маломошные, тоже брюка на улицу, а пуп голый. Вот тебе и дешевые ситцы.
– А так и дранаж-то… Вон нужда-то всех, как меленку, треплет… Кончи покосы – жни, выжни – молоти, измолоти – да скорее хлеб зарабатывать.
– Вот тебе и дранаж, – вздувается Чепа, – у нас лопаты хорошей нету… дранаж.
– А нужды-то, говорю, она што туча грозная, охлобучилась. Свету не видно… вот дунет и свалит… все Загнетино с ног свалится, и унесет, как перья вороны трепаной – и следа не сыщешь…
– Ну, никто, как бог…
– Да и бога, говорят, нет… Унесло… тоже как перья…
– И привяжешь, тебе говорю.
– Да как же я привяжу курицу, чудашка?
– Привяжешь…
– Не буду…
– Не будешь? Ах ты, в гроб твою мать, на…
– О-с-о, прра-славн… У-у-у, – и кто-то глухо хлюпнул с разбегу в болотную жижу.
– Гы, так и надо скаредам, нищетрепам, – ухмыляется Чепа…
– Ну и разбойники… убьют ведь друг дружку…
И все на минуту смолкают.
Выше выросла болотная тишина, и глухо уставились в сумерки низколобые сосны.
Кто знает – тот знает: в загнетинском времени есть такая минута, когда застывает язык, и станет страшно за все: и за себя, и за мир, и за что-то еще, от чего подымаются волосы дыбом.
Это минута рождения нелепой и самой страшной загнетинской скуки, когда станет человеку вдруг темно, жутко и пусто. Только что по-детски смеявшийся человек сделается хуже, чем зверь, и нелепей, чем сам нелепейший идиот, когда хочется рвать ему свою последнюю рубаху в лепестки, изодрать до крови себя и других, вдребезги растоптать свою последнюю чашку, выщелкать стекла и орать в разбитую раму куда-то туда, а потом – либо сунуться в петлю, либо захлебнуться каким-нибудь зельем и воткнуться башкой к первой попавшейся подворотне.
Это минута бессознательных, глухонемых прорастаний, слепых и беспутных прозрений в глухонемые века, полные бреда и всяческой скверны и ужасов, в века, прошедшие над Загнетиным и везде…
Вот и сейчас кто-то тяпнул чем-то кого-то, а тот проорал.
– А бабы вон, тоже о переставлении света с громами и золочеными трубами мекают, – ехидно улыбается Чепа, – а умные люди говорят – не будет… Не стоит, говорят, трубы архангельские портить из-за одних мертвых, а живые больше набольше сперва: их не проймешь ни трубой, ни обухом, и не нужны они ни раю, ни аду, по этому случаю Страшного суда и не будет, а выйдет глупый черт в образе жабы, всех слопает, да и сам лопнет, и расчеты все; от мертвых вреда нет, пусть на здоровье…
– Да-а, притча…
– Вот оно… А все это от безделья… Болото в башках-то у всех, да от темноты, а темнота от глупой работы…
– А глупая работа отчево? Уж начал молоть – мели…
– А глупая работа – от бездорожья да от этаких Чеп. А штоб – вот дорогу-то настоящую бросить? Оно бы и прямо, и ноге легко, и глазу приятно, и дурь бы всякая в голове не разгуливала.
– Да подить-ко и с булеваром дорогу-то надо… А? – ехидничает Чепа.
– А зубы тут скалить неча… Тут самое важное, а ты зубы скалишь.
– А ты гляди про себя, рыло, – опять ухмыляется Чепа, и снова пучится болотным огнем Чепина борода, бормочет: – Вот оно… – а сам сгорбился, точно плешью разглядывает.
Дядю Прохора охватывает болотная грусть. Ему кажется – это от Чепиной плеши, и болото, и загнетинская глухая тоска, и нищие серые дни, и нищие, что толпами бродят по дорогам позагнетина. Это он накликал его, этого глупого черта.
И он пришел.
Вот он, большой и глупый как Алала, покамест загнетинские метали стоги за звонко аукали по чищеньям, ходил из края в край по болоту, раскачал зыбуны, вытоптал кочки и ямы, навыворачивал из-под земных глубин гнилые кокоры, коряги и всю, всю гнель вековую, болотную с целого света стаскал он, а глупой забаве сюда; на дорогу, загнетинским, нарочито, чтоб рассыпать цветистый поток, чтоб поглумиться над каждым загнетинским в одиночку.
Медленно расползается оглохшее время в ушах загнетинских обитателей, и никто не поручится теперь ни за себя, ни за друга, что вот, за малейший пустяк, он не тяпнет по затылку кого-то, кто ближе, косой или выгнившим пнем, и не свалит. У всех одна и та же ноша: нелепая обида и безвыходная скука, скука пней и коряг и низколобого шершавого сосняка.
– Может, и впрямь переставление света, – спрашивает кого-то Прохор. Вот он накуралесил, рассыпая цветистый поток, прикинулся жабой и тут же, где-нибудь тут сидит под корягой и смотрит, как мучаются загнетинские.
А загнетинские идут, будто и не идут, и никто не знает, кто поглумился над ними…
– Разве это ноша, – думает дядя Прохор, – косы, да грабли, да жестяная точилка? Ноша? Нет, это он да Чепа превратили в стопудовую ношу жестяную точилку…
И дяде Прохору захотелось тяпнуть, именно тяпнуть по Чепиной плеши косой…
– Раздробить, и все бы сделалось ясно…
Крепко схватилась Прохорова рука за косьевище… А жаба? – проносится мутным туманом под картузом у Прохора: ее никто не найдет под корягами, и все будет так, и будет тоскливей…
– Экая, право, досада…
Он испуганно и подозрительно заозирался кругом на коряги, и неожиданно ярко плеснулась ему в глаза морошка и будто над чем красно и весело засмеялась.
– Веселая ягода… – думает Прохор, – значит, ничево и не будет. Ежели переставленье, зачем эстолько морошки… И Агафийка где-то собирает морошку…
И мертвая скука упала, рассыпалась. И упала с косьевища ослабевшая рука.
– Так как же нам, братцы, быть-то… а? – снова спрашивает кого-то Прохор.
Но глухая минута еще не прошла… Все молчат, облипшие древними суеверьями хлопают, звякают жестяными точилками и грузно вытаскивают, издерганные корягами и обсосанные жижей, отяжелевшие ноги.
Только Миша Клюка, он много ходил по свету, он бодро шагает и не боится болота, да мальчишки… Шмыгают мальчишки перед ногами у мужиков, ягоды у баб из-под рук обивают; им что? – их не утомила еще ни болотная жижа, ни белые мхи, ни коряги; им что? – им бы пересвистеть друг друга – и ладно.
Глухая минута прошла
– Да как же нам быть-то? – снова спрашивает Прохор.
А кто-то из мальчишек забрался на кочку и пронзительно свистнул Прохору в ухо…
– Вот как…
– Свистулешники, оглушили… – обрывает мальчишек Прохор. – Гу-у, – и снова заперекатывали говоры тут и там.
– Ну и чудашка ты, право, – раздается за соснами. – Долго ли бы убить… Не свались я в зыбун, убил бы, а за што?..
– А вот не попадайся под руку, и штоб курицы твоей тоже не было, понял? – отвечает другой. И голоса у обоих – как будто двадцать лет не видались два друга, а вот сошлись и беседуют…
– Никто, как Бог; хуже, говорю, бывало, Прохор…
– Нет, братцы-товарищи. Бог тут ни при чем. Он у всех разный.
– Боги, говорю, у всех разные, – продолжает Клюка, и голос его, как нож, врезается в болотную глухомань… – А я говорю – живому жить надо.
Вот Александро Прохорович как-то сказывал, говорит: поговорку «никто, как Бог» надо бросить, а надо говорить: никто, как сам человек. И верно. Рази люди с неба добро натаскали? Нет. Дадена земля человеку – ее и люби. И делай как те удобней, да чтоб твоя удоба сотне каторгой не была. Вот. Вон, люди целы болота высушивают, моря отпехивают. А говори: не Бог, а все мы, от малолетних до набольших. Свистулешники. Где бы обсудить да за дело, мы от дела да за свистульки, да сотни годов и играем, а чья свистулька не вышла – в зубы… Вот и получилось: дороге верста, а мы на этой дороге десятую версту в околесины загибаем…
– Да кабы все порядошные, да все по порядку, о чем бы и речь.
– Да из-за чего ломаться? – пучится Чепа. – Сам говоришь, пустяшина, и резун, и двадцать пудов… а тут ему подавай дорогу и машины.
– Так я и говорю: пустяшина она – с Чепиной плешью, а ежели на умных – тыщи пудов…
– Правильно, – поддерживают те, кто помоложе.
– А ты гляди под ноги-то, колокольня, а то рыло своротишь. Тыщи…
– И сворочу… Вот считай. Ежели сто десятин да по триста пудов, што тут?.. Эй вы, долой свистульки, ну-ко… – командует Мишка Клюка школьникам.
И мальчишки, как воробьи в конопле, засовались меж сосен, ищут, чтоб толще сосна и глаже кора. А те, что разбитнее, давно уже сами высчитывают…
Царапают косариками на шершавой коре умножение, притихли, забегут вперед и опять…
– Где им, разе их чему учат, безбожников, – огрызается Чепа. – Им бы собачиться да обутку портить…
– Ничево…
– А по-моему, что ни делай, а у Бога силой не вырвешь…
– Нет, вырвешь. На наше почтенье вырвешь…
А мальчишки перебегают от сосны к сосне и звонко кричат:
– Тридцать!
– Триста!
– Три тысячи!
– Тридцать тысяч!
И звонко врезаются детские голоса в болотную глушь.
Людям свое и болоту свое. И по-новому насторожилось болото. Тысячи лет дремало оно под лягушечий квак. Стонами кулика, да плачем пугливой пичуги, да хохотом гулкого филина пугивало оно запоздалых прохожих; красной морошкой да журавикой заманивало богомолку и болтливую ягодницу в мертвый зыбун, где от века маячит туман и бластится сухорукая нежить…
Под шумы сосен дремало оно, глухими ветрами рыдало в осенние сумерки, и было оно господином, могучим, как смерть, на тысячи людских поколей, в синих просторах загнетинских вотчин.
Дремало оно и дурманило… А тут – таково от века не было. Не новые ли колдуны, безбородые, появились, – вот они царапают тайные знаки на шершавой коре и по-новому заклинают болото…
– Три тысячи, тридцать тысяч…
– Вот тридцать тысяч. Значит, на двадцать хозяев – по полторы тыщи на нос. Вот вам и Бог и пустяшина. Да, по-моему, с дураками и Богу не весело… Дураку тридцать пудов, а умному тысяча пятьсот.
– Не знаю, – неуверенно ухмыляется Чепа, – бирывал я и клеверу, а выросли поди-тко три клеверинки, а больше какая-то стерва колючая.
– С Богом-то оно и лутше.
– А трава у тебя не лутше…
– А дай-ко бы по-настоящему свет-то да машины, оно бы во сто раз и скорее, и пользы в тысячу раз больше. Вот, вместо тридцати пудов заяшника, накосил бы в одном заболотье тысячу пятьсот пудов, да в лугах у дому, да в полях, значит, где одна корова, было бы двадцать; да што и другое прибавилось бы, да этак по всей вотчине…
– А и верно, братцы, жисть-то, она, што ни день, конем заиграла бы…
– Тут и голопупые не ходили бы; да при таком деле, чем тратиться на глупой работе, все гуляючи сделал бы, и около дому порядок завел бы каждый – и садик, и пчельник, и все… И книгу полезную, разумную почитал бы, на все время хватило бы…
– И не трепало бы этак, как меленку, верно…
– А все от чево? и вот и нищета и темнота от глупой работы да от бездорожья. Одуреет человек на негодной шабуре, ну и блазнит ему всякое по эким дорогам.
– Долго ли бы дорогу?.. Песок вон, сосняк – рядом, вози да вали, руби да откладывай, а канаву руками выкидаешь, не то што…
– Верно, братцы, долго ли бы… для себя же… А польза видимая.
– А по бокам канавы, кусты да березник, вот тебе, Чепа, и булевар…
– Не выйдет… Потому, скажем, мы согласны, Чернихины – нет, а Говорухины и придут, да делать не станут…
– Вот тут-то мы и свистулешники. Язык есть, голова есть, руки – быков убивать можно, и простору у нас не измеришь, а толку, говорится, нет. Вот, примерно, дорога… надо? – надо. Придут нам дорогу делать, скажем, архангелы? – нет. И ни француз, ни немец, ни англичанин не придут, а придут – и остальную спортят… Значит, што? а вот што: чуть што – дело, сечас собранье, на то и свобода добыта кровью.
– Да што толку? одному – то, другому – то.
– Правильно, тут и ясно будет, кому чево надо, а по-моему, нет ни одной животины, чтобы худова хотела… А договорились, скажем: быть дороге… сейчас постановление, а постановили, значит – закон…
– Законы, Миша, без Бога до совести не помогут, Миша, нет.
– Нет, помогут. Што Бог? Ты молись пню, а я коноплю, а каши с маслом всякому надо, значит, и добывай кашу свою разумной работой, разумный труд – вот совесть… А с дураком и резоны короткие – запрягайся с нами и на работу, а не хошь – вот тебе: вьюг, асток и запад, долой, а с нами тебе не дорога… На умное и полезное дело за шиворот дурака тащить надо, а будет время – и дураку слюбится… Нет, Иван, не Бог тут надо, молитвой дороги не сделать, молитвой и поля не засеять, а дураку да лодырю-живодеру оправданье, – тут надо организация.
– Как? – переспрашивает Иван.
– Орр-гани-и-за-ция.
– Веселое слово… Только едва ли.
– Чево: едва ли?
– Правильно, – поддакивает Прохор, и то, что гнело в груди у Прохора, как стог прошлогоднего сена, вспыхнуло и загорелось. И закорчились в груди у Прохора древние страхи и бреды болотные, сгорая в веселом пожаре…








