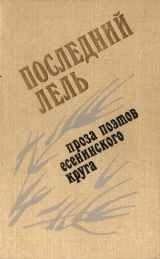
Текст книги "Последний Лель"
Автор книги: Сергей Есенин
Соавторы: Николай Клюев,Алексей Ганин,Сергей Клычков,Пимен Карпов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 36 страниц)
За темной хвоей что-то вдруг зашумело. Глухие раздались дикие хохоты. Улюлюкая, гогоча, свистя, из-за ельника высыпала черная орава, это были рабочие с гедеоновской фабрики.
– Крушить?.. – подскочил к Феофану шустрый какой-то подхалюза. – Нас крушить?.. Ах вы сукины сыны! Да мы вас так сокрушим, что…
Но хороводы стояли невозмутимы. Тогда черняки пристали к старому угрюмому злыдотнику, вычитывавшему что-то при свете свечи из кожаной, залитой воском книги:
– Здоров, борода!
– Здоров, шайка воров!.. – окрысился старик.
– Пардон… – заломил было картуз подхалюза.
Но гневным злыдотник заглушил его клекотом:
– Сам ты пардон! Жулик!.. Мы Духа ждем… А вам што тут надоть?..
– Д-у-х!.. Ха-ха-ха! – закатился подхалюза. – Смердяки вы, эх! Скоты!.. Не вылезть вам из навоза во веки веков… Вот вам и Бог…
– Бог – радость!.. Красота!.. – зашумели мужики. – Слышишь шум сосен?.. Звон звезд?.. Шепот земли?.. Это все – Бог!.. А живоглоты полонили Бога… Ты не ими ль подослан? – подступали мужики к фабричному. – А?..
– Фю-ить!.. – свистнул тот. – С больной головы да на здоровую? Ну и пушкари! Ну и смердяки!.. Ррабы… Подождите, мы вам зададим!.. Да здравствует свобода! – рявкнул вдруг, подкинув картуз вверх, подхалюза. – Доллой Бога!..
– Да-ллой!.. – подхватила орава фабричных. – Заходи мужичье проклятое бить!.. Буржуев этих!.. Да здравствует рабочее движение… Да здравствует свобода!.. Долой тиранов – богов!..
Молчавший дотоле Крутогоров, вмешавшись в ораву фабричных, поднял гневный свой голос:
– Вы – предатели свободы… Поймите, меднолобые! Свобода – Бог. Как цветы к солнцу, стремимся мы к Свободе – Вечности – Богу… Но вы в Него не верите… А в медяки – верите?.. Опомнитесь!.. Потому-то, что мы в тлене, нас и полонили двуногие… Вперед же к Свободе – к Вечности!.. Ведь нам по пути с вами?!
– Не-ту Бога!.. – гаркнули фабричные. – Дал-лой!.. Какая там, к черту, вечность?..
Сладкие, вливающие в сердце бессмертие, раздались вдруг в листве шумы и шелесты. Над вершинами легкие послышались взмахи белоснежных крыл. Вековые ясени, гордыми купами над рощей и озером высившиеся неколебимо, как стражи, – победным залились многоголосым шумом – гимном… Над жертвенником из цветов светлые затрепетали, светя жемчужными венцами, видения. И ярко озарилась сумрачная роща голубо-алым светом…
А с сладкошумных, качающихся вершин, на белые хороводы мужиков и на ораву фабричных белые посыпались, розовые, голубые, лазоревые и алые цветы. Падали жемчужины благоуханных ландышей, рубины темно-алых душистых роз, распустившихся под теплой росой, словно сердца под молодой любовью, перлы белых лилий, бирюза сирени…
– Ого! – подскочил какой-то вахлач, хватаясь за ворот: – Розы-то откуда это?.. Щекочет… Целая охапка, ого! И незабудки… И сирень!.. Да пахучая… Да что это такой, а?..
– Лилии!.. Анютины глазки!.. – заликовали рабочие. – Ай да мужики! Лови! Лови!..
Цветы сыпались водопадом. А обрадованные рабочие метались под березами, то ловя падающие пучки цветов на лету, то подбирая их на траве.
– Да постой!.. Ландыши!.. Черт, ей-богу, я рехнулся! – блекотал вахлач. – Колокольчики!.. Голубые!.. А свет – кар-раул! – что это?.. Мы – голубые!.. Гляньте! Гляньте!.. Видения!.. В венцах!..
Под ясенем молча, нахлобучив картуз, стоял подхалюза. Бормотал, спеша заглушить в сердце страх:
– Гм… Наука объясняет это очень просто… Подымается смерч… Кх… Над цветником, скажем… Вырвет цветы… Унесет… Гм… А когда утихнет, ну, цветы и падают… Что ж тут такого?.. А свет – это лектричество…
Но рабочие, опьяненные внезапно нахлынувшей радостью, смеялись над ним:
– Эх ты, лектричество!.. Молчи лучше, Ошарин!.. Не твоего, брат, ума дело…
И пили ароматы полной грудью, осыпанные дождем сирени, лилий, роз, ландышей, голубых, розовых, желтых колокольчиков. И, с девичьими сомкнувшись хороводами, целовались страстно…
А над жертвенником цветов – о радость без меры, без предела! – вострепетал Дух. Белоснежные раскрыл крылья, облив рощу светом, незаходящим ярко. И постигли пророки непостижимое на земле.
В храм цветов трепетных вводил Крутогоров восхищенных дев, жен, пророков-хлеборобов. И, глядя в сердце причащаемого, в сердце, красоты преисполненное, радости, огня и Града, светлый возвышал свой замирный голос:
– Бери огонь жизни!.. Гори, как свеча!.. Цвети, как роза!.. Уж этого у тебя никто не отымет… Отдайся земле! Будь солнцем своего мира!..
А березы пели, ликуя, сладимую песню. Ясени прислушивались к зовам ночи – зовам земли. Клонили долу свои венцы. Посылали шумливой листвой молитву свету.
Только что-то темное, колдовское таили в себе черные старые дубы. Как будто жуткую тайну знали и собирались рассказать ее.
Но ярко горели светы и лампады. Ярко цветы цвели, И трепетал над жертвенником Дух. И странные лились неслышимые голоса небес…
За хороводами, под волнами молодых берез, тонкие сомкнув закостенелые в огненном выгибе руки, стоял Феофан. Молчал, недвижимый.
Но, видно, зажгла его уже красота. В душе его ароматы, росы, светы, шумы и шелесты цветов, видно, разлили уже огонь жизни…
Затрясся Феофан, увидев что-то непостижимое… Изо рта его кровавая захлехотала пена… А раскрытые до последнего предела глаза, разбрасывающие смертоносные молнии, новым засветились, небывалым от века огнем. Разгоралась душа и бушевала, как кровавая звезда в ночи. В свете ночи увидел Феофан живого, истекающего кровью Распятого – Того, Кто нес и несет тяготу за зло мира…
А может быть, не несет?.. Кто знает… Но если и несет, то почему же Распятый, а не Сущий?.. Почему Сущий отдал на пропятие Сына, а не Себя?..
Опалил Дух душу Феофана вечностью – солнцем Града. Положил на челе его роковой знак.
Над ярким грозовым лесом кружились и кадили светом сонмы белоснежных крыл, бросая непостижный огонь в бездны. С вершин, качаемых белым ветром, падали дождем свежие лепестки.
В голубом огне мужики, обрадованные рабочие, за грозно-исступленным Крутогоровым и окровавленным, опаленным Феофаном, тонких подхватывая, упругих, пламенных дев и духинь, целовали их в груди, в уста кроваво. Носились огненным вихрем… И победные падали клики их, словно всепожирающие языки огня:
– Ох, живот!.. Земля!.. Огонь!.. Ой, утешь!.. Срази!.. Попади!.. Гори, сердце!.. Гори, душа!.. Ох, цвети!.. Радость – Радованье!.. Благодать!..
В сердцах людей открывались непостижные бездны без предела, древний, доначальный хаос и надмирный огонь, попаляющий цветы и солнца…
О хаос!.. О надмирный огонь сердец! О ночь, бездонная и страшная ночь, не затемненная светом звезд и солнц!.. О бездны без предела! О горный свет!
За бездонными пропастями пребываешь ты, о огонь надмирный. И воистину ужасно – думать о тебе. Ибо ты – то, чему нет постижения, но отчего помрачается ум, слепнет зрение и глохнет слух…
Бесчисленные звезды солнца – это одинокие костры в провале-пустыне. Настанет час, и надмирный огонь до последнего луча выпьет свет из них. И бездны поглотят холодные тела солнц… Ибо нет предела жажде надмирного огня, как нет предела холоду и всеистребляемости бездны.
О, зачем свет горний не жаждет тела, а только духа?! О, зачем огонь надмирный не попаляет холодные, черные бездны, а только – светы и солнца?!..
Но благословенны сердца – цветы надмирного огня и Вечности!.. Благословенны ночи – зори черного света и земли!..
С вечери причастники Пламени, осыпанные цветами и вещим отмеченные знаком, огненной грозой двинулись к озеру в лесную моленную Поликарпа.
В дороге чернец и подхалюза, отделившись от громады, юркнули незаметно в темную хвою – следить за ушедшими в горы пламенниками.
Но злыдота, спохватившись вдруг, догнала Вячеслава.
– Пушша глазу берегли мы Маррею… – наступая на него, свирепо хрипел Козьма-скопец. – А ты сховал яе?..
А худая какая-то, костлявая, с горящими глазами старуха, вцепившись крючками-пальцами в грудь чернеца, шамкая, грызла его:
– Ты шманил Марею!.. Ничый! Джуши тваей дагляжушь!..
– Я ничего… я так, – заюлил Вячеслав, хватаясь за рыжую косичку. – Не лайся, старушка ты Божия… Дух живет где хощет…
– Где Мария?.. – подступил к нему Феофан, жуткий, угрозный. – Не скажешь – уйдешь отсюда…
Неожиданно вынырнувший откуда-то поп Михайло, подскочив к Вячеславу, зашептал ему что-то на ухо торопливо, приседая и поглядывая то на злыдоту, то на Феофана. Как будто собирался открыть нечто да боялся, поймут ли.
Но Вячеслав, узким ощупав, ницым взглядом суетливого, белобрысого попа и прислушавшись чутко к жуткому, многоговорящему молчанию Феофана, смекнул, в чем дело.
– Слыхали… ать?.. – заблеял он как-то изнутри, увиваясь вокруг злыдоты: – Голова-то сам перешел в Пламень теперь… Потому – знак увидел…
– Брешешь, бесстыжая твоя харя!.. – забушевала злыдота. – Рра-зор-вем!..
– Я ничего… я так… – съежился чернец.
Поднялась злыдота на дыбушки. Загудела. Ничего не разобрать. Только видно, как Феофана облепила гудящая саранча. Мужики, бабы, старики рвут на нем подрясник. Трясут его с оскаленными скрежещущими зубами и налившимися кровью глазами. Заклинают и грозят. А Феофан угрозно жутким отвечает многоговорящим молчанием.
– А-а-а! – беснуется злыдота. – Дык ето, стало-ть, усе – правда?.. Ты – изменник? В Пламень перешел? Увидел знак и впрямь?!..
Но молчит Феофан. Недвижным глядит в бездну ночи отверженным взором, вея на мир страшными грозами опаленной своей души.
Злыдота, сломленная, обезоруженная и разбитая, медленно и понуро отходит от своего владыки.
И только пытает издали его истошно, глухо:
– Значит, видел?..
Глухо же Феофан гремит:
– Окаянные! А вы разве не видели?..
Злыдоту охватывает жуть… Козьма-скопец в смятении и ужасе, вихляя кривыми вывороченными ногами, бежит по дороге к озеру. За ним – другие. Костлявая горбатая старуха, скрючившись, догоняет чернеца. Разрывает ему подрясник. Шамкает хрипло:
– Души догляжушь! Никому не поверю, покеда шамане увижу жнак!.. Нехай видют жнак уже либо нихто!..
Прорычала на чернеца свирепо. Высохшим кулаком на него замахнулась. Но не достала и шлепнулась наземь.
У озера громада разбрелась по лесным тропам.
Козьма-скопец, отойдя от злыдоты, понуро плетшейся в горы, долгим окинул ее невидным взглядом. Гаркнул свирепо:
– А у ялышек?.. За составом, скыть?..
Но никто не шел в темный ельник. Жуткое что-то носилось про этот ельник.
Козьма пошел один.
С чадной, тлеющей тускло головешкой ползал Козьма-скопец на четвереньках под темным сплошным навесом хвои. Копал какие-то коренья. Собирал травы. А за ним следил Вячеслав тайком, из-за еловых лап.
Только что вырвал Козьма ночной серый папоротник, как чернец, подскочив внезапно, зашипел:
– Брось, шкопец проклятый… скорей брось, а то…
– Што?.. – поднял желтое свое печеное лицо Козьма на багровый свет головни. – Чяготу приймашь? Што ль?.. Ну, хучь ты со мною… А то, скыть, гады!.. Яду им, а не составу!..
– Брось цвет Тьмяного! – колотился Вячеслав, хватаясь за грудь и крутя головой шибко. – Через него – я Тьмяного узнал!.. Понимаешь?.. Бро-сь!.. А то убью!.. – взмахнул он ножом.
Козьма молчал, дикими воззрившись на чернеца осовелыми глазами. Но вдруг, распахнув куцынку, подставил Вячеславу грудь:
– Шты-рха-й!.. Божья печать на мне… я, скыть, духом живу… А духа не вбьешь!.. Што-о?.. Ну, штырхай!.. – напирал он на чернеца.
Полоснул тот ножом по горлу Козьму. Кровь хлынула из черной раны огненной струей. Залила грудь Козьмы, белую его дерюжную рубаху.
Но устоял на ногах Козьма.
– А-а, шкопец проклятый! – ревел Вячеслав. – Тебе Марию? Я тебе укажу Марию такую, што ты и ноги вытянешь!.. Я тебя проучу, как топить меня… Говори, обещаешь отравить Крутогорова?.. Ать?.. Обещаешь?..
– Што? – скалил зубы Козьма-скопец. – Хучь переруби мене напополам – не трону Крутогорова… А скорей тибе сызьяню…
– Храбер ты, брат… – прогнусил чернец. – Ну да недаром я караулил тебя…
С размаху пырнул концом в пузо Козьме-скопцу. А тот, шатаясь, достал из-за пазухи пук свежей какой-то травы. Выжав из нее сок, залил рану. Кровь утихла.
Оторопел Вячеслав. Не впервой ему приходилось работать ножом. Козьму он хватил со всей руки. А и с ног не сбил.
– Не вбьешь, грю… Потому – сустав… – хрипел Козьма. – Жисть – дли чагаты нужна… Хвахвана знашь?.. Вжо две тыщи лет живет. А усе зли чагаты… Бают, за смертью, тожет чагата – над… Дык рази вад сустаить супротив мук от духа что, скыть?.. А Крутогорова за што ты хочешь труить? – пытал он.
– Я ничего… Я так… – лебезил уже следопыт, сжимаясь. – Составцу бы мне… Дяденька?.. Ать?
– Што шь, зволь… – засунул за пазуху Козьма руки. – Бох хучь и выдумал смерть, штоб збавлять людей ат чагаты, а сибе ат стыду – дык рази мы не сумеем смерть победить!.. Загартуем усе составом… Нихто не будет вмирать вжо… Денно й нощно будут печь Бога-то – чагатою… Ну, Бох и сдацца!..
– Ать? – отскочил Вячеслав, увидев в руках Козьмы какие-то белые лезвия. – Што это?..
– Ложись, грю! – сердито гукнул Козьма. – Сперва большую царскую печать прими… А там чагату примешь… Ну и суставу, скыть, дам ат смерти…
– Ага! Знаю, какую печать… Нет, дяденька… Я еще к девчонкам похожу… Люблю, што ж!.. Дух живет где хощет…
Захохотал лихо, свистнул и трепанул Вячеслав, залихватски подхватывая полы:
Поставлю д’я келью
Под елью!
Стану д’я в той келье спасаться…
Кривому-слепому поклоняться!..
Штоб меня девки любили…
Молоды д’ молодки хвалили!..
– Тьфу! Псюган!.. Песся мяса!.. – харкнул ему в свиные глаза Козьма-скопец.
И, выбравшись из-под хвои, глубоким липовым логом зашагал в Поликарпову моленную, что над озером.
А Вячеслав заросшими перепутанными тропами двинулся через парк в непролазные надозерные заросли, где облавой рыскала за жуткой, смятенной Людой гедеоновская челядь.
Шел чернец крадучись и озираясь. А когда, мимо старой проходя запущенной беседки, услышал вдруг шепоты и шорохи, – прилег к земле грудью. Замер.
В цепком кизиле, выдержав стойку, согнувшись, подполз к беседке. Заглянул в щель. Сердце его сладко и тревожно затохало. У двери стояли, склонив головы и отвернув в темноте друг от друга лица, Гедеонов и Тамара.
Тамара, задыхаясь, говорила глухо и больно:
– Я же твоя дочь… Или мне лгали, что я дочь твоя?..
– Ты… любишь? – пытал ее Гедеонов, гнусавым своим голосом забираясь ей в сердце. – Говори! Хлыста-то этого?..
– Я пропала! Пропала!.. – ломала руки Тамара.
– Как же мне не сойти после этого с ума? – злобно крутил головой Гедеонов. – Я хотел только через тебя… добиться одной цели… А вышло, что цели не достиг… А ты втюрилась… И в кого же?.. В хлыста! Черт ли в нем…
Стонала Тамара с плачем, безнадежной болью в голосе:
– Ведь ты ж отец мой? Или ты не отец мой?..
А Гедеонов, близко-близко подведши узкие свои щелки к заплаканным глазам Тамары, гнусил в темноте горячо, страстно, прерывисто:
– Ты – моя дочь… это верно!.. Ну так что ж?.. Уж если кому пользоваться тобою, Тамара, так мне… твоему отцу… моя дочь, а делить ложе с нею будет другой!.. Какой абсурд! Да и своя кровь – горячей!..
За кизилом, притаив дух, то прикладывая ладони к ушам, то выпячивая длинную козюличью шею, ерзал Вячеслав, грудью по траве, мокрый от росы; мутным глядел, блудливым глазом. Слушал, причмокивая:
– И-их, вон оно что!.. Дух живет где хощет… И-их, а ведь он повалит ее сейчас…
И ждал, потирая блудливо руки, дрожа, что же будет дальше?
Но на крутосклоне, откуда лились огни дворца, рассыпались вдруг визгливые крики и смех: толпа девиц спускалась по аллее вниз. Быстро выскочив из беседки, с досады сломав хлыст, пошел Гедеонов, пригинаясь, навстречу толпе.
А Вячеслав, затрусившись, боясь, как бы его не увидели, пополз на брюхе в кизилову гущерь. Выждав же, пока ушла Тамара, встал. Перелез через ограду. Вытер изгрязненный подрясник и махнул в колдовской надозерный бор.
В бору мужики, рабочие, девы, духини, собравшись, гадали на венках.
Завидев Вячеслава, буйная и гадливая злыдота шквалом на него кинулась. Захлестнула его. В жуткую погрузила волну.
– Следопыт! Следопыт!.. – шарахались девушки. – Неспроста он тут…
– Ах ты ранджега чертова, лярва!.. – напустилась на чернеца злыдота. – На хитриши бьешь? Рассорить нас хочешь? Брешешь, хрида приблудная, стерва, за голову свово мы в огонь пойдем! А тебя проучим, курвель, домушник, разорвем!.. Аде Марья? Рразорве-м, коли так…
– Я ничего… – бормотал Вячеслав, пугливо озираясь. – Ей Бог ж, всю зиму Марию гоняли стражники, потому как без пачпорта она… Может, и смерзла где…
Лебезил и, разглядывая исподтишка духинь, дрожал больной дрожью: в хороводе, гибкая, извивалась вещая Люда. Здесь ли челядь? Поможет ли она следопыту схватить ту, за которой годы слежено?
– Маррею нам! – ревела злыдота. – Не уйдешь, оглоед чертов…
– Бросьте! Ну его к черту… – вмешались рабочие. – Охота связываться? Сходитесь в хороводы… Зачинайте песни!
– А и то!
Девушки взялись за руки. В плавном поплыли шевелящемся плясе, приударили в ладоши:
– Ой, тушь! Ой, ну! Ой, девки, люли! И молодки, люли! А как старые чертовки – да вперед загули!
Грозно как-то и зловеще выгибалась Люда – строгая, молчаливая и неприступная. В ночных недвижных русалочьих глазах ее держались ужас и тайна.
Но хоть и скрывала Люда что-то от мира и даже от себя, – следопыт знал, отчего была она молчалива и ходила с ужасом в недвижных бездонных глазах.
– Ага… Притихла… – втягивал он в плечи острую свою рожу. – Погоди… не то еще будет… это еще цветки…
Качалось под вздохами ветра и пенилось лунное озеро. Молодые серебристые ивы, вскидывая косы-ветви, точно девушки на заре, вздыхали радостно и протяжно. Над волнами плыл нырявший в облаках месяц, сыпля белое золото.
Хороводы, выглянув из-под шелома сосен, хлынули шалым прибоем к волнам. Лунный огонь ударил в хохочущие лица девушек. У волн духини завивали венки.
Мужики и рабочие, ввалившись в качавшиеся на волнах лодки, пустились по рябому серебро-лунному озеру. Раздольную грянули песню, старую:
За рекою огонь горит,
А все чернобылье.
Ой ладо, ой ладо,
Ой ладотеньки,
А все чернобылье…
Звонкие и хрупкие девушки, дрогнув, подхватили с берега:
Да куют тамо кузнечики,
А все молодые.
Ой ладо, ой ладо.
Ой ладотеньки,
А все молодые…
Гадали на тельниках. У березы, купающей гибкую свою верхушку в волнах, на устланном коврами цветов откосе, духини и девушки, короткие расстегнув кофточки и обнажив молодые, крепкие, белеющие как мрамор груди, снимали и вплетали в ветви тельники. Клали перед ними по поклону. Поцеловавшись, обменивались тельниками. И, сбросив с себя одежды, упругие, радостные, сцепившись за руки, смеясь и крича, дикой кидались ватагой в бурливые волны.
Горе девушке, потерявшей в волнах обмененный тельник!
Над жутко-темными, с серебряной чешуей волнами, изломленная, бушевала и вскидывала гибкими руками Люда. В неизбывной тревоге маялась и никла гордой, увитой тяжелыми золотыми жгутами, головой… А в сердце ее черные вихри крутились, грозя и паля, зловещие зовы, мольбы и проклятия: Крутогоров.
– А-ах! – тошновала она и билась о волны и грозила: – Дайте мне его!.. Я разорву его!.. Крутогорова… А-ах, да раздушу ж я его, проклятого…
Вячеслав, присев за ивняком, не сводил раскосых глаз с ее круглых, как гранаты, огненно-белых, с розовыми сосцами грудей, стройных ног и точеного живота. Но не шевелился, часто дрожа холодной больной дрожью: Люда, сеявшая вокруг себя ужас и пытки, страшна была ему, как смерть.
В Купалову ночь в ветхой лесной моленной шабашили лесовики.
Косая плетневая хибарка набита была битком. Красносмертники, злыдота, бродяги, бобыли, побирайлы, ехи, кликуши, блудницы и ведьмы носились и лютовали, словно черти. Под бревенчатым шершавым потолком сплошной стоял гул.
В красном куту, взобравшись на лавку, гнусил, словно безносая прогнившая потаскушка, измотавшийся сиплый Вячеслав:
– Смерть живоглоту! Ать?.. А и насолил же я ему! – хихикал он гнусно. – Гедеонову-то!.. Как же! Проведал это я… какая-то девчонка взята им была… на ночь… Смекнул я, что спасти можно девчонку… Тишочком да таечком – к лакеям… Те бай-дужи… А я возьми да и выведи ее из дворца-то… Што ж вы думаете? Узнал, пес!.. Убить меня теперь собирается… Понимашь?..
Тонкий гнусавый голос его дребезжал и кололся в безудержном плясе и гуке. Какой-то грузный обормот, развалившись на скамье, тыкал себя в пузо и грохотал:
Ажанили, ажанили,
Ай, на бабе, на Нениле!..
– Эй! Бесстыжая харя! – гукали на следопыта злыдотники. – Замолчи!.. А то – разнесем! Знаем мы, как ты спасал девчонку…
Дрожала моленная от гула и топота. Неистовые пляски живота в гудящий сливались огненный клубок.
В блудливое, дрожавшее больной дрожью тело Вячеслава огнем вливалась похоть. Одурманивала его. Над ним бело-розовая извивалась, вишнегубая Неонила, дыша на него горячо и часто.
Но только что Вячеслав, осмелев, схватил ее, как на него гуртом наскочила злыдота.
– Шкада проклятый! – царапались бабы. – И тут шкадить?..
Вячеслав, отбиваясь от баб, крутился и юлил около Неонилы. Подмигивал ей:
– Ну как твой лесовик? Берегись, девка, Андрон точит на тебя ножик…
Неонила молчала. Но, вскинув васильковые, открытые свои глаза, лихо тряхнула золотыми кудряшками:
– Кого хочу, того люблю. Андрон мне не указ. Гуляй знай!
– Сердце мое! Хо-хо! – лихачом подвернувшись, подхватывал ее на руки вихревой, гривастый лесовик. – Обожми! Хо!
Шевелил серыми, нависшими над черными глазницами, как лес, бровями. Пурговую вскидывал, лохматую гриву, носясь с Неонилою в круговом плясе…
Тряслась хибарка. Перед окнами суровым и темным шумом шумели старые, побитые грозами березы. За ними медленно, словно нехотя, в темноте ворчал дальний гром. В лесу росла и надвигалась гроза.
В тесной толпе, смешавшись с зипунами и кожухами, от страха пригнув голову, юлил Вячеслав юлой. Подслушивал мужиков да мотал себе на ус.
– Ну, што нам с тобой делать? – стискивали его мужики. – Говори, змеево ты семя…
– Какой энто змей? – фыркал Вячеслав, крутясь волчком и за белесыми ресницами пряча ницые глаза. – Я – за вас же… А вы не соображаете этого?
– Каккой ента змей!.. – кривлялись мужики. – Бытто не знает, што… Гедевонов – от змея?..
– Как так? – прыгал чернец.
– А так. Матка евонная подкинута была старому барину. А как выросла – с змеем спуталась… От змея и родила Гедевонова-то… Ведь он твой батька? Бытто не знает!..
Кружились духини. В окна, вперемешку, били протяжные колдовские шумы берез, острый кровавый свет молнии и гул отдаленного грома. Находила гроза.
Засокотал дух.
С ревом и свистом громада понеслась вкруг стола. А на столе, вдруг вскочив, выпрямилась во весь рост тонкая стройная девушка, с головы до ног завернутая в белые покрывала, страстно облегавшие молодое вздрагивающее тело…
Увидев чистую, пали лесовики перед ней ниц в жутком, внезапно наступившем молчании.
Поцеловал стопу ее Поликарп. И покрывала упали вдруг с ее плеч, как жемчужная пена…
Вспыхнула чистая заревом наготы своей и бездонного, изнутри светящегося взгляда. Над беснующейся, гудящей громадой затрепетала с благословляющими белыми нежными руками и черными кольцами волос, скатывающимися по розовой тугой груди. Знойное девичье тело ослепляло, как молния. Било в глаза нестерпимым огнем…
Радостное что-то и жуткое запела громада. И, крепко и тесно сомкнувшись, огненным понеслась вокруг девушки колесом…
В свирепом реве и визге духини и ехи сбрасывали с себя одежды. В плясе кидались на кормчих. И, сжигая их огнем страстей, обвивались горячими потными руками и ногами. Гикали исступленно. Кроваво целовались, впивались острыми зубами в щеки и губы мужиков…
Перед девушкой зажглись вдруг свечи. Огненное тело закровавилось. Озарилось все до последней тени. Даже те, что, забившись в далекий угол, не разглядели сперва девушки хорошо за сумраком, – теперь увидели ее всю, ярко освещенную, и узнали.
Ахнул Козьма: Мария!
Знать, недаром устрял за Козьмою и пролез на корабль Поликарпа следопыт. Псу нужна Мария. Не сдобровать ей теперь. Утащит ее следопыт к живоглоту. Пронюхает же, дьяволово отродье?! Надо спасать Марию. А то осквернят, живоглоты.
Но только что Козьма, пробившись к столу, протянул навстречу Марии руки, как лесовики, схватив его за шиворот, отбросили к порогу. Со зла и боли разбил Козьма ямошником окно, впился кому-то зубами в ягодицы, опрокинул на себя скамью…
Воздев перед Марией руки, величаво и жутко громада загудела:
– Ра-аду-й-ся… де-во Марие… Радуйся, чи-и-ст-ая…
Потушили свечи. Оставили только лампаду. Трепетно подняв руки, опустила их над громадой Мария.
Подошел к столу, дрожа, ощупью, Поликарп. Шершавыми скользнул пальцами по атласистому телу девушки.
Приник к ногам ее страстными, обнесенными вьюгой седых волос, огненными губами.
За Поликарпом пошла и громада, припадая к ногам Марии страстно. И когда подошли последние – погас огонь.
В темноте разразились нечеловеческие рычанья. Толпа заметалась люто, закрутилась по моленной, заслоняя окна, чуть маячившие в стенах. Ехи и духини падали уже наземь, визжа и крича безумно-диким криком.
Ударила молния, страшным алым огнем облив все так же стройно, веще и неподвижно, как изваянье, стоявшую на столе Марию.
В хлынувшей за молнией темноте ухнул гром, точно земля провалилась в тартарары. А над ударом взвеялись черным крылом вопли лесного сладострастия, огня и мук.
Очумелый Вячеслав, прыгая по горячим потным телам, нащупал в темноте стол. Волосатыми обхватил, холодными руками ноги Марии, скуля тонко и нудно кошачьим своим голосом:
– Уходи, Мария! Вишь, какой тут ад?.. Уходи! Ать?..
Но, дрогнув, вскрикнула Мария хрупко:
– А мне ад-то и люб!
Как-то больно и надорванно прохрипел Козьма, услышав голос Марии и голос следопыта. Через горы тел ринувшись, загремел кулаками по столу и завопил благим матом:
– А внимись, дух! Следопыт, скыть, Мар-рею уносит!
Но сокотал дух. Не унимались лесовики, духини и ехи.
Не утихал шабаш, а все больше разрастался. Даже гром не покрывал беспрерывного жуткого рева и воя, свиста, регота, скрежета и хохота…
И вдруг раскаты грома и гул толпы покрыл высокий, радостный и вдохновенный клич Марии. Но не клич Града и света, а клич тяготы, гибели…
Обхватил ее Козьма поперек. И она страстно, до боли, знойными обвилась вокруг него руками и ногами. В жуткой жажде страдания забилась кроваво… Вот когда только суждено ей принять тяготу!
Но вдруг страшнее прежнего ахнула, ударила лютая молния, превратив все в сплошное солнце. Увидела Мария, кто ее держит. Узнала Козьму-скопца, ненавистника плоти и гибели – смерти… Больно и глухо отшатнулась:
– Пусти-и! Погибели хочу… Затем и пришла сюда!..
Протяжный и всесокрушающий ухнул удар. Расколол землю надвое. Оглушил и без того обеспамятевшую Марию…
Козьма, завернув ее в полы зипуна, выскочил с нею из хибарки. И, не глядя на ревучий дождь, шалые колдовские скрипы и удары грозы, в жуткую понес темь старого, мятущегося леса…
Дождь гудел в ветвях, словно ураган. Бил в мужика и извивавшуюся в его руках обнаженную, трепетную девушку грозным водопадом.






