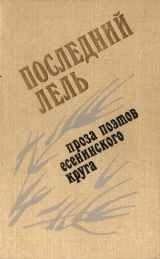
Текст книги "Последний Лель"
Автор книги: Сергей Есенин
Соавторы: Николай Клюев,Алексей Ганин,Сергей Клычков,Пимен Карпов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
Обращенный мир
Боженята
За окном ветреная листопадная ночь.
То ли гремят под вагоном колеса, то ли ветер, согнавши опавшие листья к дороге, крутит и вертит их и загибает в листвяные колеса и катит за колесом колесо по дороге, наполняя осеннюю темь шипом, гуком и приглушенным звоном.
И Зайчику жутко, что сейчас нет около него никого, и хорошо, что никто не увидит и не узнает, как больно ему и как ему сейчас тяжело.
Уселся Зайчик половчее на лавку, по телу мурашки ползут, свесил он ноги, и показалось ему, что сапогом он за что-то задел и в чем-то запутался шпорой.
Нагнулся Зайчик, руку вниз протянул и со шпоры отдел – не поймешь в темноте – то ли хвост, то ли клин от люстриновой юбки. Похолодела с испуга сначала рука, а потом показалось занятно, кто это под лавку, где Зайчику казалось, что нет никого, забился и так присмирел, что ни разу не чихнет от подлавочной пыли и не шелохнется, чтоб на другой бок перелечь…
Потащил Зайчик за полу или подол, казалось, тащил его долго, а ему все не видно конца.
Пощупал Зайчик на руку и к окну поднес, чтоб на звездном свету разглядеть, – видно, поповский люстрин, и по всему тоже видно, что это не юбка, а ряса…
«Дьякон, – подумал Зайчик, – никто, кроме него, сюда не забьется».
– Дьякон! – Зайчик шепнул и крепко дернул за рясу.
В ответ кто-то чуть-чуть шевельнулся.
– Разве не вы это здесь, отец дьякон? – громче Зайчик сказал.
– Нет, это… я!
– Ну, так и есть, дьякон с Николы-на-Ходче!..
– А вы… это кто?..
– Я, – говорит Зайчик, хотелось ему соврать, да самому страшновато, – я – то… я Зайцев, Миколай Митрич, чертухинский зауряд…
– Эвона, – радостно вскрикнул дьякон под лавкой, – гора, значит, с горой!
Зайчик от этого вскрикнул, выпустил полу, а дьякон зашевелился, застучал затылком под лавкой, рукой заскребся по полу, как мышь под сусеком, и скоро села рядом с Зайчиком большая оглобля, головы на четыре Зайчика выше, на верхушке широкая шляпа, под шляпой висит борода, которая даже и в темени кажется рыжей, и на ноге большенный, как окоренок, сапог…
– Гора, значит, с горой, – дьякон гудит, запахнувши рясные полы, – в Питер, значит, все же решили…
– Пожалуй… а вы, отец дьякон… как попали сюда?
– Кондуктор упрятал, сказал, что этот вагон будет в составе.
– В составе?..
– Да, питерский поезд… Я ведь вам говорил, что вместе поедем?!
– Да. Я компании рад, – хмуро Зайчик ему отвечает…
– Ну, господин охвицер, много я здесь под лавкой продумал: решил, что об этом таком даже и думать больше не стоит.
– О чем?
– Да все о том же: есть бог или нет и почему я в бога не верю…
– Да это вы, отец дьякон, больше все спьяна…
– Пьян, да умен, знаешь… почему дьякон водосвятный крест пропил на самую Пасху?.. Что он, жулик какой или вор?.. Что он, не мог бы пропить свою рясу… Почему именно крест – первый вопрос?..
– Почему?.. – улыбаясь, Зайчик спросил.
– Да оченно просто: потому что он больше не нужен… а ряса… у меня старые рясы супруга режет на юбки…
– Выходит, все в пользу…
– Да нет, в соответствии… Бога-то нет?..
– Мелешь ты мелево, дьякон: бога нет, что же тогда остается?
– Эна, о чем ты грустишь; остаться есть кое-чему – мир забит, как трехклассный вагон на большом перегоне… Рассуди: Петр Еремеич что говорил?.. бог-де от земли отвернулся, сел на облачную колесницу и, значит, поминай как звали… Тю-тю…
– Бог забыл о земле…
– Так… остался, значит, во-первых, черт?..
– Черт!
– Черт! Только рога он подтесал терпугом у кузнеца Поликарпа, оделся в спинжак и гаврилки… Служит… пользу приносит… и получает чины!
– Мели, отец дьякон!
– Нет, не мелю: черт иногда даже не брезгует дьяконским чином…
Зайчик взглянул на оглоблю, волосы у него зашевелились и сами зачесались назад, а у дьякона шляпа будто немного поднялась на воздух, и на минуту над рыжею гривой мелькнули два развилкой расставленных пальца просунутой как-то сзади тощей руки… Пальцы были похожи как дважды два на рога или рожки.
– Только и это не важно, – дьякон, близко нагнувшись, шепнул Зайчику в самое ухо.
– Как же это не важно – ведь черт?..
– Просто, понятно: без бога черту нечего делать… это он со скуки идет в пристава или земские, а то в дьякона или попы… соборный наш протопоп… чертушок!..
Дьякон подвинулся ближе. Зайчик отсел.
– Разве ты это не знаешь?
– В первый раз слышать…
– А отчего у него тогда впереди высокий зачес?.. Не иначе… потому только и можно узнать: на копытах – щиблеты, хвост подвязан на брюхо, а рожки – в зачес!
– Полно тебе, отец дьякон: у протопопа крест на груди весит три фунта…
– Да это не крест, а подкова… ты думаешь, все как бывало: все по старинке живешь… бабка на кринку покстит, положит крест-накрест лучинки, и в молоке бесенок купаться не будет, креста лучинного побоится… теперь, брат, все пошло по-другому… бог ведь не видит… он отвернулся… а человек, где крест ни положит, там для черта и щель.
– Стыдно, дьякон!..
– Ничуть даже: за что купил, за то и продаю!.. Жизнь, брат… ох, она умнее нас с тобою раз в десять!..
Зайчик хотел было сложить крестное знамение, да дьякон его за руку схватил:
– Подожди-ка… ты к баптистам сходи… они те про крест растолкуют!..
– Не пойду я никуда, – Зайчик ему говорит, – ты, отец дьякон, лучше прилег бы да немного проспался: перехлебнул!
– А ты меня много поил?
– Тебя, отец дьякон, споить – надо скупить весь самогон во всем Чагодуе…
– И то, брат, не хватит!..
Дьякон залился в козлиную бороду мелким дробным смешком, сложивши на животике руки и смотря Зайчику прямо в глаза…
«Что он мне мерещится снова? – думает Зайчик. – Тогда надо крест положить… отчего он мне не дал?»
– Да крестись, крестись, если хочешь: вижу, что и меня принял за черта! Нет, брат, у меня рога отросли совсем от инакой причины.
– По семейной?.. – тихо Зайчик спросил.
– Должно быть, – дьякон вздохнул, – да черт с ней, великая важность… Ты вот что скажи: мы о чем говорили?.. У меня память девушкина стала!
– Говорили… говорили… мы, дьякон…
– Так?..
…о черте…
– Это не суть важно… важно вот что: ты, да я, да мы с тобой… да весь род человечий.
– А как же иначе?..
– Вот в том-то и дело, что род сей должен был бы… того…
– Исчезнуть?
– Да. Испариться… На наше счастье, ты говори, остались еще боженята!
– Это, дьякон, что такое?..
– Самое главное: с чего свинья сыта бывает… крошки после обеда…
– Крошки?..
– Ну да… не в точности, а что-то вроде… вроде Володи… понимаешь: бог создавал землю, как на пиру сидел, – пир, хмель отошел, бог от стола отвернулся, и на столе остались одни только крошки…
– Боженята?
– Ну да, китайцы, малайцы, болгары, татары… всякому даден свой божененок… и заметь: у всякого свой поп и свой дьякон…
– Пожалуй, это и верно.
– А как же, нету в мире единого бога… вот тут-то дьякон и прав – пьян, да умен…
– У меня, дьякон, от твоих разговоров болит голова и… под сердцем мутит…
– Недаром, значит, меня мужики прозвали гусаром?
– Пожалуй, и так, что недаром.
– Невежа ты, братец, а еще охвицер!
– Я-то… такой же офицер, как ты дьякон!
Дьякон голову назад запрокинул и так смехом залился, что сундук вот сейчас бултыхнет, и колеса на человечьем языке затараторили: «Так… так… такы… такы…»
– Все одинаково скверно: нету бога, нету человека!
Дьякон поднял кверху указательный палец, весь просветлел, с бороды красное полымя так и бьет по углам, а в углах сидят какие-то люди, не слушают их, не думают ни о чем и, положивши головы на кулаки, спят праведным сном без видений.
– Человек… бог… вот когда это стало смешно: у человека гордости мало, у бога ж еще меньше… терпенья!
– Дьякон… дьякон… ведь сказано: долготерпелив!..
– Не подфальшуем… бог отвернулся… черт стал мещанин… остались одни бесенята да одни человечки – волки да овечки!
– Дьякон… дьякон…
– К царю!
Дьякон снял с живота отрепанный пояс, захлестнул его на вентилятор, а на кончик билет привязал и пятерку:
– Видишь, кондуктор будет идти, увидит и скажет: они, то есть, значит, мы, господа, подшофе, стукнет по глотке и не будет до самого Питера нас беспокоить…
– Умно!
– Не подфальшуем… Ложись, заячий хвост, и говори, что все слава богу!
Дьякон плюхнул на лавку, Зайчик рядом с ним лег, дьякон крепко обнял его, и Зайчику кажется, что нет у него сейчас большего друга, как дьякон с Николы-на-Ходче.
– Спи, Зайчик миленький, спи!
Чувствует Зайчик, что спит… так спит, что его никто не разбудит… за ногу дерни, с лавки стащи – ничто не поможет: дьякон крепко его обнимает, ряса у дьякона теплая, рука словно клещи, буди не буди – не подняться!
* * *
Дьякон, скажи ты мне ради всего, отчего мне хочется плакать?
– Спи! Зайчик миленький, маленький, спи и говори, что все слава богу!
– Все – слава богу!
– Слава!..
Сундук так и бросает из стороны в сторону, колеса под ним тарахтят, говорят на языке человечьем: «Так-так, так-так, рас-такы такы-таку твою-так…»
Оборотень
Вагон действительно оказался в составе; должно быть, задолго еще до полночи большой паровоз, так испугавший колыгинскую свинью свистом и паром, перевел потихоньку весь состав сперва на чагодуйский вокзал, постоял немного на станции, пофукал, попыхтел, нетерпеливо дожидаясь кого-то, потом вдруг свистнул заливисто черной трубой, сдернулся с места и покатил…
Тогда-то, знать, как показалось Зайчику, и заговорили колеса на человечьем языке, и в этом спешном говоре чугунных колес и услыхал тогда Зайчик нарочито придуманное человеком для очистки совести согласие со всем и на все, о чем и на что никогда и нигде не сыщешь ответа.
«Так-так-так, иначе быть и не может!..» – всю ночь не переставая говорили колеса, а Зайчик внимательно слушал и безмятежно, казалось ему, спал под дьяконской рясой…
Поезд был, должно быть, специального назначения, первые часа три или четыре шел, ни на одной станции не постояв ни минуты, словно вел этот поезд не машинист, а сам дьявол и ехал в этом поезде человек, куда-то спешащий и за эту поспешность продавший машинисту, то есть рогатому бесу, ни за грош свою христианскую душу…
Только после двух или трех больших перегонов паровоз подкатил на какой-то маленькой станции к столбу водокачки, повернул от него рукав к себе в брюхо и долго и жадно глотал холодную воду…
Все это Зайчик хорошо слышал и больше чувствовал каким-то в особицу даденным ему чувством, о котором, правда, ученые люди не знают, но это не значит еще, что его не может быть иль не бывает…
Напился воды паровоз, попыхтел около пакгауза, где развалены были в беспорядке патроны и гильзы от мелких орудий – должно быть, был неподалеку патронный завод, – побегали возле колес машинист с большими рогами и кочегар, у которого хоть рогов было не видно, но зато так он был весь черен и на лице было столько размазано масляной сажи, что при свете горящей пакли на небольшой палке у него в руке он без труда мог сойти за полчерта; потом подошел к ним человек в интендантской шинели, дал им обоим по сторублевке, машинист и кочегар очень заторопились, потерли, помазали, слазили под паровоз, где главный пупок, за которым и надо следить да следить, чтобы вся его паровозная утроба – винты, трубки да разные гайки – не сдвинулась с места, потому что под этим пупком, как и у человека, у него кишки и брюховина; постучали машинист и кочегар в разных местах в паровоз, как доктор стучит в нас молоточком, узнавая наше здоровье, потом вспрыгнули в паровозное брюхо, дернул машинист за медную ручку, паровоз нехотя крикнул, пар повалил на оба бока, и опять – тра-та-так-так – заговорили колеса…
Так Зайчик все чувствовал, видел и слышал в полусне, ему не хотелось подымать голову, чтобы лучше все разглядеть и лучше услышать, ему хорошо было под ватной теплой рясой. У дьякона, несмотря на его худобу, было больше тепла, чем у печки, а что делалось вокруг него, он видел и так: видел, как нервно на остановках ходил высокий, как редко люди бывают высоки, чиновник в новой серой шинели с погонами Союза Городов или Главного Интендантства… подошел высокий человек на одной остановке к паровозу вприпрыжку, почти на самом свету сунулся в тендер, что-то шепнул машинисту в самое ухо, а тот прикрыл шапкой рога и руки к нему протянул и растопырил!
Человек в интендантской шинели сунул опять сторублевку, машинист шапку приподнял и мотнул только рогами…
* * *
…Зайчик поднялся, только когда кто-то его за ногу начал долго и больно тянуть, не говоря при этом ни слова.
Раскрыл он глаза, смотрит: стоит перед ним этот высокий в серой шинели и так уперся в него, словно разглядеть никак не может, тоже спросонья…
– Вы изволите здесь, господин офицер, как очутиться? – спрашивает его высокий в серой шинели.
– Я? – Зайчик поднялся на лавке, посмотрел – рядом дьякона нет, и даже нет никакого знака, что в вагоне еще кто-нибудь был, кроме него и этого интенданта. – Я?.. Очень просто! Я в Чагодуе залез в этот вагон отоспаться и рад, что поспал и действительно очень нехудо… а вы, простите, будете кто, если посмею спросить?..
– Очень приятно… очень даже приятно… а почему вы, так сказать, очутились… в таком, можно сказать, положении?..
– Я? – Зайчик кругом оглянулся и покраснел. – Я, знаете, в отпуске, в Чагодуе с приятелем встретился…
– А… это… эт-то бывает!
– А вы, простите, кто изволите быть?..
– Э… мелкая сошка: интендантская крыса – заурядчинуша Пантюхин!.. Поезд, видите ли, свой разыскал… угнали его, видите ли, в этот ваш Чагодуй по ошибке, как говорят… чуть, знаете ли, под суд не пошел… тоже у меня, знаете-понимаете, вышло по нетрезвому делу!..
– Скажите!..
– Такой беспорядок! Такой беспорядок, господин зауряд!..
– Да… да… а не то што вы здесь со мною… лежали?..
– Что вы, у меня свой целый вагон! Ваш вагон прицеплен совсем по ошибке, должно быть, в спехах: очень уж я распушил весь ваш Чагодуй, перепугались!.. Начальник станции на колени вставал!
– Должно быть, вы их подтянули?!
– Еще бы, такое нахальство: целый поезд с казенным и ценным казенным имуществом, в этом поезде – сукно, полотно, обмундированье!.. Еще бы немного – и кто-то здорово руки нагрел…
– Подлецы!..
– Еще какие и сколько!.. Впрочем, господин зауряд, вам куда?.. Дальше-то вам куда надо?..
– Мне?.. На позицию!..
– Через Питер?..
– Так точно!..
– Счастливо, значит, вы попали проспаться в этот вагон!..
– Что? – Зайчик вскочил и к окошку прильнул.
За окнами высоко стояло солнце, по бокам в глазах сливались рельсы в одну беспрерывную сетку, а по рельсам туда и сюда весело сновали паровозы, шипя и посвистывая изредка тонким свистком.
– Что, разве мы едем в другом направленье?..
– Да нет, нет, в самый раз… Только я сейчас вагон ваш отцеплю… он мне не нужен, потому что ка кой мне черт сдались пустые вагоны… Вам придется того, или ко мне пересесть… или… ведь… я дальше… вернее всего, не поеду…
– Как не поедете, господин интендант?..
– Очень просто: мне дальше не нужно!..
– Где же мы, значит, простите, сейчас, в настоящее время?..
– В Питере, милый мой, в Питере… Только, изволите видеть, не на пассажирском, знаете, а на товарном…
– В Питере?..
– Да… да… в Питере… Вам же в Питер и нужно?..
– Да, мне в Питер и нужно… Только вы-то что же это… как бы сказать?..
Видно, что после бредовой ночи Зайчик с трудом ворочал мозгами, поминутно хватаясь за лоб и глаза, как бы не веря еще чему-то или чего-то не понимая: чиновник как чиновник, лицо серее сукна, только бельмы будто рыжие, и этот… страшенный рост!
– Вам бы немного… того… полечиться… от разных навязчивых штук… – говорит он Зайчику, заложившему руки в карманы.
– Вы думаете-е?
– Твердо уверен… Впрочем, господин зауряд, давайте-ка вылезать…
– Что… уж приехали?..
– Так точно-с, Питер!..
Зайчик встал, потянулся и сказал интенданту:
– Спасибо вам, большое спасибо!..
Вылезайте, вылезайте, мил друг, вылезайте… Из одного «спасиба» теперь шубу не шьют… Хе… Хе…
Зайчик пожал крепко интендантскую руку, виновато улыбнулся и пошел, немного шатаясь и протирая глаза.
– Так, говорите вы, подлецы?!
– Так точно, так точно, подлецов теперь сколько хочешь!.. Да… Да… сколько хочешь… Вылезайте, мой друг, вылезайте… Желаю вам на войне, так сказать, всяких успехов… всяких успехов!..
– Благодарю вас, господин интендант…
– Побольше, так сказать, немцев убить, а самому целым остаться… Же-ла-ю… Хе… хе…
Поезд в это время сердито забормотал тормозами, зашипели на рельсах колеса, и Зайчик спрыгнул с подножки.
Туда-сюда посмотрел: большой коридор из красных товарных вагонов, запрудивших все железнодорожные пути, словно лед Дубну в половодье, не видно ни неба – висит оно дымное только над прогалом между вагонов, как грязное тряпье развешано, – ни людей, ни деревьев, на сердце от этой пустыни стало у Зайчика снова темно и в глазах потемнело.
– Желаю, господин офицер, желаю… побольше немцев… немцев убить… хе… хо… нюшки… хе… хе…
Схватился Зайчик за сердце и смотрит; под вагонами опять засеменили колеса, а на приступке стоит дьякон с Николы-на-Ходче и машет ему полой, как черным крылом полуночник.
Зайчик снял фуражку и тоже ему помахал…
Выдуманные люди
Город, город!
Под тобой и земля не похожа на землю…
Убил, утрамбовал ее сатана чугунным копытом, укатал железной спиной, катаясь по ней, как катается лошадь по лугу в мыти…
Оттого выросли на ней каменные корабли, оттого она и вытянула в небо несгибающиеся ни в грозу, ни в бурю красные пальцы окраин – высокие, выше всяких церквей и соборов, красные фабричные трубы…
Оттого-то сложили каменные корабли свои железные паруса, красные, зеленые, серебристо-белые крыши, и они теперь, когда льет на них прозрачная осень стынь и лазурь, похожи издали на бесконечное море висящих в воздухе сложенных крыл, как складывают их перелетные птицы, чтобы опуститься на землю…
Не взмахнуть этим крыльям с земли!
Не подняться с земли этим птицам!
Оттого-то и прыгает по этой земле человек как резиновый мяч, брошенный детской шаловливой рукой, вечно спешит он, не зная покоя, не ведает тишины, уединенья не зная даже в ночи, когда распускается синим цветком под высокой луной потаенная жизнь сновиденья, потому что закроет человек усталые очи, а камни грохочут и ночью и улица булыжной трубой сотрясает его ненадежное ложе; потому-то и спит городской человек, грезя и бредя во сне недоделанным делом, то ли молот держа в усталых руках, то ли холодный рычаг от бездушной машины, то ли кошель с тайной, при свете дня на дне невидимой дырой…
А коль забредет сюда в улицы, изогнувшие в каком-то тайном недуге свои выложенные булыжником спины, ненароком зайдет зеленый странник – какое-нибудь деревце, так и стоит возле подъезда или где-нибудь в стороне, как отрепанный нищий, покрытый уличной пылью, протянувши бессильную руку в дырявых заплатках полуомертвелых листов для подаянья, но пройдет много народу, да и не пройдут, а пробегут и проскачут, каждый по неотложному делу или безделью, – пройдет много за день мимо народу, и никто его не заметит… и копейки никто не подаст…
Разве только в глубину зеленых, в пыли потонувших очей, спрятанных где-то глубоко-глубоко в зеленых глазницах, посмотрит ему, печально понуривши голову на стоянке, извозчичий конь, пока его хозяин, седока поджидая, сидит, как барин, в пролетке, на спинку сиденья откинув кудрявый мужицкий пробор, и грезит оставленным домом, хозяйством, и спорит в полузабытьи со сварливым соседом из-за лишнего лаптя надельной травы… посмотрит конь в зеленые очи, голову ниже уронит и тоже заснет, вспоминая во сне неизвестно о чем-то далеком, зеленом, душистом, лежащем теперь перед глазами, как бесконечный зелено-пушистый ковер…
Думал так Зайчик, шагая с окраины в город… и спотыкался о камни.
* * *
Из улицы в улицу, по площадям и переулкам – везде столько народу, столько разбросано лиц перед глазами, столько в глаза устремлено чужих и по-чужому уставленных глаз, то ненавидящих без всякой причины, то испытующих: кто ты такой? – оставляющих след за собой, который висит как паутина, то заранее любящих, только таких из тысячи встретишь разве одни.
Глаза утопают в этом роскошестве глаз.
От множества глаз в глазах у тебя поплывут золотые круги, в голове зашумит и затуманит, как будто поплывут глаза по бесконечному морю глазной синевы, сероты с янтарным отливом, вороненой стали зрачков – жгучей и вместе холодной, как раскрытая бездна, – черных мужских ненавидящих, женских к себе в глубину узывающих глаз…
Хорошо, хорошо плыть в беспечной ладье без весла и кормила всему верящих, все любящих глаз по этому бесконечному морю, в котором никогда не бывает покоя!
Все сливается в ропот, земля ходит под ногами, как под рыбацкой лодкой ходит волна…
В такие дни в пригороде у заставной дороги, по которой ездят одни мужики по утрам на базар из ближней деревни на дрянных лошаденках в телегах, похожих на гроб, в которых лежат бараньи туши с перерезанным горлом, с головами, свесившимися с боков, чтобы чертить искаженной губой по ободу колеса и дразнить голодных собак и людей в рабочих слободках, – в такие дни черный встает сатана и вертит всем городом из-за заставы, как шарманщик вертит шарманку!..
* * *
Идет Зайчик по улице, кишащей, как тропа в муравейник, разбежался глазами и в черной думе наступает встречным на ноги…
Взбаламучена улица, люди снуют и спешат, у одних лица печальны и строги, эти тихо идут, сами у них подгибаются ноги, словно их кто по коленям хлестнул, у других… а впрочем, такие лица у всех: они сами на себя теперь не похожи.
Спешат люди – мужчины и женщины, тянут насильно за руки за собой ребятишек, чертящих башмачком о панель.
Спешат молодые и старые, автомобили и лошади – все смешалось в одну набитую туго толпу…
Только изредка пройдет не спеша, щурясь в золотое пенсне иль монокль, какой-нибудь столичный щеголь, питерский франт, которого с Невского нипочем не прогонишь дубиной…
– Да… все же счастливчики есть… – сказал Зайчик вслух, рассуждая с собой, встретив румяного юношу, одетого модно, с иглы: машет он презрительно тросточкой, заложил руки в карман и идет походкой молодого ленивого льва…
– Есть… фон-бароны!..
– А вы?.. Вы разве так уж несчастны?..
Зайчика кто-то тронул за руку, за ним шла, очевидно, давно уж какая-то женщина, одетая в серый английский костюм очень дорогого сукна, в густой вуалетке, – показалась она Зайчику столь же молодой, сколь и красивой…
– Простите меня, сударыня… извините меня… я, кажется, вас немного толкнул…
– Да… наступили на ногу… чуть-чуть… меня очень занимает: о каких счастливцах вы говорили?..
Женщина смотрит на Зайчика просто и прямо, под вуалеткой насмешливая улыбка, в которой все же больше любопытства и доброты…
– Я очень не люблю несчастных людей, хотя счастливой себя назвать не могу…
Зайчик чуть приостановился и как-то невольно протянул женщине руку, женщина быстро схватила ее и подцепила под локоток.
– Как давно знакомые, пошли они дальше, неловко натыкаясь друг на дружку в людской толчее.
– Да я тоже, пожалуй… О счастье своем я думаю часто… реже – о счастье других!
– Разве?.. Думать о счастье – уже наполовину быть несчастливым!..
– Это, пожалуй, и правда…
– Нет… нет… я глупость сказала: несчастным я вас не считаю!
– Я очень счастлив на… несчастье!
– Тоже ведь счастье?.. А счастливым быть нужно… и важно! Я не люблю несчастных людей, да их никто ведь не любит! Однако… давайте о чем-нибудь повеселее!
Женщина крепко прижала его руку к себе и весело засмеялась.
Зайчик смотрит в прыгающие глаза и сам себе начинает не верить: под вуалеткой знакомые дорогие черты, солнце ли так освещало лицо женщины, идущей с Зайчиком рядом, при каждом повороте головы выдавая все большее сходство, призрачен ли свет вообще в этом меркотном городе, да еще осенью, когда все предметы, строения, деревья и люди, кажется, светят насквозь, – только не может Зайчик оторваться и не смотреть на чудесную игру осеннего солнца: пусть оно шутит с ним, лицо женщины все больше и больше становится похожей, нежней и прекрасней.
Да и было ли все это удивительным в том положении, в котором очутился Зайчик, вчера лишь еще только потеряв Клашу, как ему показалось, уже навсегда…
Трудно привыкнуть к сердечной потере, словно вот был на руке дареный на долгую память перстень, в перстне камень самой чистой воды… и вот теперь как равнодушно смотреть на пустое гнездышко в дареном кольце?..
Долго потом будешь под ноги смотреть, где бы ни шел и о чем бы ни думал, и каждый простой стекляшок, валяющийся в панельной грязи, потянет к себе наклониться, поднять, поднести на ладони близко к глазам – такова уж сила любви в человеке и равная ей горечь утраты.
Зайчик шел, молчал, упорно под ноги смотря, женщина тоже молчала…
– Вы… вы… о чем думаете? – тихо спросила она.
– Я думаю?.. Думаю вот о чем: как вас зовут… и какое у вас может быть имя?..
– Да вы бы спросили, чего же тут думать?!.
– Да, мне бы хотелось бы знать…
– Нет, я не скажу: у меня глупое имя… я сама себя зову по-другому…
– Мне хотелось бы знать, как вас зовут…
– Как окрестили?.. На что это вам нужно?.. Так точно?..
– Нет, вы, ради бога, со мной не шутите… мне нужно всерьез…
– Вы, должно быть, за меня загадали?.. Скажите, правда ведь?.. Да?.. По-моему, вы сейчас шли и гадали… судьбу…
– Это, может, и верно… как понимать…
– Ну, вот видите!.. У меня был такой один штабс-капитан… знакомый: идет по улице и тумбы считает, загадает вот так от угла до угла, сколько их будет. Как ошибется – значит, убьют!..
Женщина заглядывает Зайчику в лицо и смеется…
– Долго он так гадал? – улыбаясь ей, спрашивает Зайчик.
– Нет, скоро убили… Хотя тумбы говорили иначе…
– Меня не убьют… и на тумбах я не гадаю… Мне цыганка гадала на картах…
– Цыганка?.. Ах, интересно… а… где?..
– В лесу…
Женщина нагнулась вперед, заглянула ему в глаза с тревожным любопытством и опять улыбнулась.
Зайчик подумал:
«Как Клаша… только жаль: конечно, это не Клаша!..»
– А знаете, – говорит нараспев женщина, – вы сами немного похожи… на… на лесного Леля… вы очень… очень красивый… Расскажите мне про цыганку!..
– Цыганка мне говорила, что я утону…
– И вы верите этому вздору?..
– Это не вздор! Утонуть можно двояко!
– Чудной вы… легко же вас обмануть…
– Зачем? Я вам ничего худого не сделал…
– Нет… нет… милый… напротив… Вы знаете, зачем я пошла вслед за вами?.. Я встретила вас и вернулась…
– А зачем?
– Я немного рисую.
Женщина остановилась у подъезда очень высокого дома, у стеклянных с медными ручками до самого полу дверей стоял швейцар в синей ливрее, с усами, как лисьи хвосты, с бровью, упавшей совсем на глаза.
– Зайдите ко мне… на минуту?..
– Я… не знаю…
– Дороги?.. – ухмыльнулась женщина.
– Нет, ваше имя не знаю…
– Хорошо!..
Женщина сняла быстро с глаз вуалетку, и из-под шляпы выбился снежный, серебряный локон, еле заметно вьющийся струйкой на плечи.
– Вы седая?..
– Нет, поседела!.. Хотите знать теперь, как старуху зовут?..
– Хочу, – говорит Зайчик с дрожью, – очень хочу…
– У меня очень кухарочье имя… Меня зовут…
– Клаша! – Зайчик радостно вскрикнул…
– Клаша… да, милый, Клаша… Так гораздо лучше звучит…
Женщина подцепила опять его под руку, они было прошли уж мимо усача в синей ливрее, почтительно нахмурившего бровь, но у самой дверки подъемника Зайчик уставился воспаленными глазами на усача и сказал тихо женщине, – прыгали у ней в глазах огоньки!
– Странный у вас швейцар!.. По-моему, он ненастоящий!..
Женщина хихикнула и заправила под шляпу выбившуюся прядь.
– По-моему, он… выдуманный!
– Нет-нет, милый, он… из Рязанской губернии! – сказала строго женщина. – А впрочем, может быть, вы и правы – теперь ведь очень много ненастоящих людей!..
Зайчик взглянул в упор на лукаво-смеющееся лицо женщины и вдруг дернулся с места, выскочил на подъезд и во весь дух побежал на другую сторону улицы, держась за фуражку…
* * *
В уличной сутолоке, в безумной гоньбе извозчиков, лихачей, автомобилей, трамваев Зайчик легко мог попасть под колесо, но он, хотя и находился в полубреду, близком к тому, какой бывал у него некогда в детстве в лунатные ночи, потому-то, должно быть, был достаточно легок и увертлив, чтобы не поломать себе обо что-нибудь шею…
Пробежал он так три или четыре квартала и остановился на изогнутом через грязную реку мосту.
Глядит он… словно впервые их видит… глядит на бронзовых, лосных, будто окаченных ливнем коней: вздыбились они на граните, вот так и хочут, кажется Зайчику, подмять его под себя чугунным копытом.
«Творится со мной что-то неладное, – думает сам про себя Зайчик, – а впрочем… теперь на все наплевать… главное – как ведь похожа!.. Видится, значит!»
Зайчик оперся на мостовые перила и загляделся в грязную воду.
«Если буду тонуть, то хорошо бы все же в чистой воде, – думает Зайчик… – а впрочем, да… она ведь это, наверно, намекала на водку: в ковшике, говорит, молодой хозяин, утонешь! В кумке!..»
Уперся Зайчик в одну точку на воде и повис на перилах…
По воде бегут не спеша масляные кружки, ветерок чуть охватит жирную поверхность едва уследимой рябью, течет, как в сказке, мертвая вода в гранитных берегах и со дна не кажет лица: ни плотица серебряной чешуей не блеснет, играя с подругой на солнце, ни букаражка не пустит пузырь, ни тинки у берега никакой не видать, а вода тянет к себе, шепчет еле различимым в грохоте шепотком, и мост вздрагивает, когда пронесется по нему грузовик, будто хочет сбросить Зайчика в воду…
«Господи!» – Зайчик припал к перилам и закрылся рукой…
– Лелик!.. Коленька!.. Как и откуда? – услыхал вдруг Зайчик над ухом радостный голос. – Ты что это тут?
Зайчик нехотя обернулся, перед ним стоял веселый, вечно смеющийся, длинноволосый приятель, которому всегда удивлялся Иван Палыч, заглядывая в Зайчиков портсигар с приятелевым потретом на крышке, когда тот угощал его папиросой, тянул к нему руки и уже целовал его губы и щеки.
– Здравствуй, здравствуй!.. Какой молодчина!
Смотрит Зайчик, что приятель самый что ни на есть настоящий, пришел в себя и тоже бросился к нему и стал его целовать…
– Дорогой мой, я очень спешу… проводи меня на Рижский вокзал.
– Спешишь?.. Да что же ты как пень торчал на мосту?
– Я, видишь ли, заблудился… и очень устал…
– Переутомился… да это, брат, все… а вид у тебя хоть куда!.. Казенный хлеб, видно, в пользу!
– Здоровый?! Скажи, ничего?..
– Говорю, хоть куда – боевой!.. Только глаза… А ну покажи, вчера перебрал!..
– Да нет, я пью аккуратно… Так ты проводишь меня?..
– Вот еще, Лелик!.. Конечно… Извозчик! Извозчик!.. На Рижский…
Тпрукнул усатый лихач, Зайчик с приятелем вспрыгнули на подножку пролетки и покатили.
– Я, милый, заблудился, словно в темном лесу!..
– Ну-ну, рассказывай как?
– Да никак надоело!..
– Пишешь?..
– Куда тут!..
– Это от лени, ты больно ленив!..
– Полно, милый… Не хочется сейчас об этом и говорить… Вот что, скоро будет конец?..






