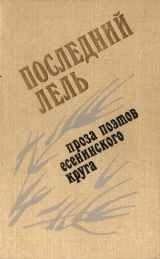
Текст книги "Последний Лель"
Автор книги: Сергей Есенин
Соавторы: Николай Клюев,Алексей Ганин,Сергей Клычков,Пимен Карпов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 36 страниц)
* * *
Не небольшом повороте опушки Зайчик вдруг услыхал, что кто-то кроме него тоже по лесу идет, но только другою тропинкой.
Ходят по этой тропинке девки и бабы за первозазимошной клюквой на Светлые Мхи.
Зайчик присел на пенек у тропы и стал дожидаться: в лесу – не на улице в городе, все интересно, кто идет, кто прошел, – ждешь человека, издалека учуя шаги, ан выйдет тебе на дорогу навстречу такой, как Антютик, – не зверь он, не человек, не мужик и не баба, а вместе как будто и то и другое.
К тому же Зайчик, услышавши шорох в лесу на куманичной тропе и вспомнив рассказ поутру Феклы Спиридоновны про Пелагею и нашего дьякона отца Афанасия, сперва немного струхнул, а потом охрабрел, заслышав в вечернем шорохе леса унылую, тихую песню. От этой песенки у Зайчика сразу пошли круги пред глазами, а в сердце полилось тепло.
Зайчик не раз мне говорил, что он сам эту песню с тоски да скуки придумал, а запеваха Марфушка ее переняла у него; может быть, Зайчик сам ее где-нибудь, шатаясь по белому свету, услышал, запомнил и в нашу округу пустил – почем знать, да и знать нам не очень уж нужно:
Я ли да у мамоньки, как в ночи луна,
Как луна высокая и всего одна?
Я ли лен не выпряла, не доткала стан?
Я ль дружка упрятала от тебя в чулан?
Спрятала, растрогала, довела до слез —
Много слез у мамоньки, а у ночки звезд.
Дочка ты у тятеньки, как в ночи луна,
Ночка чернокосая и всегда одна!
Ты и лен-то выпряла, и доткала стан,
И дружка не прятала от меня в чулан:
Твой дружок с позиции нам письмо привез —
Много слез у мамоньки, а у ночки звезд!..
Зайчик смотрит на Марфушку сквозь ветки и сучья, пригнувшись к земле: идет она теперь вдали по дороге в село, и у ней за спиной большая севальня, полная первым морозом тронутой клюквы и яркой, как бусы, брусницы.
Марфушка эта – рябая, кособокая девка с большими ногами, шили ей сапоги на одну колодку с отцом, к тому же лицо у Марфушки было такое, как будто вчера за него задела телега и все налево его своротила.
От Марфушки как от чумы бегали парни, хотя она и не липла, хорошо разглядев свой вековушный шесток. Одна была украса у этой Марфушки: звонкий и нежный – поищи по округе другого, не сыщешь – девичий голос.
Не заслушаться им, не загрустить от него было нельзя никому…
Хотел было Зайчик Марфушку окликнуть, клюквы попросить и сказать ей, что больно она поет хорошо, но раздумал – не хотел бедную девку конфузить; идет она, согнувшись старухой, казакин весь в отрепье и перехвачен толстой веревкой, а на ногах, завернутых в тряпки, – коты…
К тому же и в самом деле в семье у них было неладно: отец с полгода тому, поехавши в отпуск, домой не приехал, куда подевался, неизвестно, как в воду пошел, пропал человек: ни слуху ни духу.
Зайчик поднялся с пенька и к заветной ели пошел по тропинке.
«В песне, – думает он, – черноокая, в жизни – кособокая…»
И кажется ему, что и сам-то он похож на эту Марфушку: за него тоже задела телега, и Зайчик проходит в человечьем лесу, на одно ухо, лишь слыша и видя на один только глаз – но так он больше видит и слышит.
* * *
На крутом повороте ели и сосны уходят в густую чащу, и на опушке толкаются, упираясь сучьями в пышные бедра и груди друг другу, лесные вековухи – голенастые липы, шумихи-березы, ивы плакучие вдовы и с знойным румянцем на щёках солдатки-осины. В ветвях, то грустно опущенных с самой вершины, то заломленных в безысходной тоске и отчаянье кверху над головой, глубока-глубока синева.
И не поймешь: ветки ли это уплыли, оторвавшись от сучьев, как от причала, в бездонную синь, и там в глубине листву отряхают, иль синева на ветви упала, не удержавшись в выси непостижной на листопадном ветру.
По лесу идет шум и затаенный звон, как будто в чаще густой и далекой стоит невидимо для глаз лесная обитель, где сейчас отходит лесная вечерня, и старые колокола, висящие на суку у столетней сосны, чуть колыхнул ветерок…
И старцы на паперть выходят, и посох в руке их ведет беседу с подсохшей землею, стуча об нее острием, и староверский люстрин на поддевках у них шумит на ходу, как осенние листья.
Скоро будет густая елка.
Зайчик к ней подоспеет еще до последней зари – заря висит осенью долго потому, что солнце с неба падает вкось и не сразу в землю уходит, а катится, как колесо, по хребтине, где край у земли, а за краем небесная пустошь и голубой луг с золотыми цветами: в полночь цветы срываются с веток на тихом запредельном ветру и падают сверху на землю, чертя над землей золотую дугу.
И странно Зайчику, что сердце так беспокойно. Прыгает сердце в груди, как белка по игольным сучьям, завидевши в наземных ветках воронье гнездо – охотничью шапку. Предчувствует сердце само лихую минуту, в эту минуту оно вздрогнет и обольется кровью сверху донизу.
И сердце вздрогнуло…
* * *
Зайчик хотел сперва закричать и бежать назад на дорогу: невдалеке, в стороне от опушки, под низкорослым кустом лежал человек.
От неожиданности или испуга Зайчик не мог разобрать, мужик это лежит или баба, но потом, когда в глазах прояснилось, он робко увидел открытую грудь в разорванной кофте и юбку в причудливых клочьях, взбитую возле белевших колен, словно черная-черная пена.
Стал Зайчик вглядываться и опасливо подходить, но лицо было закрыто растрепанной по сторонам косой и меткой, положившей на лоб румяную, как на огне раскаленную, кисть.
– Пелагея! – невольно вскрикнул Зайчик, откинувши косу.
Но никто ему не ответил.
То ли по лесу еще торопливей листья падали с деревьев, шурша, то ли дышала высокая грудь Пелагеи во сне – не поймешь; вдали прокатился его отголосок: «Пелагея!» – и замер в барсучьей чаще.
– Пелагея, – шепчет Зайчик, будто не хочет уже разбудить, понявши, что впрямь, может, ночью сегодня дьякон отец Афанасий встретил ее на дороге в чертухинской роще, но только совсем по-иному все было, ничем как рассказывал дьякон.
* * *
На Пелагеиной шее, которую в ин-времена держала она словно лебедь на озере, – синим кольцом завилась змея. Мертвая петля эту змею повязала на белую кожу и в давешней тряске сперва разошлась, а потом совсем при падении скинулась с шеи. Остался только кровавый подтек, как змея, – след от петли, да во рту был прикушен немного язык, и в пушистых ямках у чуть посиневших губ застыла смертная пенка.
А так Пелагея лежала словно живая.
Глаза были закрыты; брови пушились, как две сережки с плакучей березы, и золотились ресницы в еще не угасшем свете зари. И только на белых коленях, у ляжки, зияла припухшими складками рваная рана, и в ране с янтарной кровью смешалась колесная мазь – дьякон отец Афанасий, когда выправлял телегу с Гнедухой, задел Пелагею, должно быть, скрененною осью и острой чекой от оси оставил о ночной встрече с чертухинской божьей матерью глубокую мету и след.
Прикрыл Зайчик колени и вздутый живот разорванной юбкой, повернул Пелагею лицом на зарю, а руки так и оставил под головой: так больше на то походило, что спит Пелагея под горькой калиной на пожелтевшей осенней траве, а вот отдохнет немного – и встанет сама, и вернется домой, и сядет чинно под окна, чтоб видели люди живот и промеж себя говорили:
– Пелагея родит…
Чтоб думали все про себя, что Пелагея вернулась на землю, сошла с голубого крыльца, пришла к родному дому и хочет быть матерью не в бесплотном сне и уединенной молитве, а перед людьми, наяву…
На лице Пелагеи покой и страданье, свет неизбывный и неизбывная скорбь.
Зайчик на землю припал и заплакал.
Плакал он долго навзрыд, крепко прижавшись к земле головой и кусая землю зубами, чтоб кто-нибудь, проходя но дороге, не услыхал и не набрел на него с Пелагеей.
Вспомнил Зайчик ее с венцом на голове, наподобие того нимба, которым сияют с тяжелых окладов в молельне снятые, в голубом сарафане с парчовой полосой на груди и по подолу, с бубенчиками по вороту и на рукавах – в одеянии Матери Ангельской Рати.
И как тут не плакать, как не сронить слезу в глубокую реку, где свет – как песчаное дно, но тьма и туман над рекою; как не плакать, живя в такой серой, туманной, печальной сторонке! О, где ты, пресветлый Иордан, в который смотрятся избы под тайной полуночной звездой!
Теперь Пелагея на изумрудном дне лежит, недолго она прожила на его берегу, так и не раскрыв, не разгадав чудесного сна о матери божьей, сошедшей на землю по семи ступеням смертных грехов и смертных соблазнов, чтоб принять муки рожденья в плоти, но бесплотного сына.
Безумный иконописец
Зайчик стал собирать охапками листья. Листья шуршали в руках, топорщились сухие ветки под ними крючками, мешая побольше захватить. Забросал Зайчик ими всю Пелагею, не видно ни черной юбочной пены, ни белых колен, на лицо же ветром снова качнуло калину, и на него упала красная кисть, закрывши сережки бровей и золотистые пряди волос около скорбного лба, теперь посеревшие, будто тоже выцвели к осени вместе с травой на лугу…
Теперь так похожи эти тонкие кольчики и завитушки под веткой калины на кудреватые струйки, плывущие с трубки, которую Прохор, может, в то же самое время курил в блиндаже, любуясь Пелагеей, висящей на сырой стене блиндажа:
– Загляденье мое… Пелагеюшка!..
Не знал Прохор и мог ли за тысячу верст угадать, что сейчас лежит Пелагея Прокофьевна на опушке чертухинской рощи в золотом осеннем покрове, более пышном, цветистом и ярком, чем тот, которым попы покрывают мертвеца, пронося его по селу на кладбище, – приняла Пелагея причастье из чаши бездонной и скорбной…
Была только в груди у него лихая ломота в том месте, где сердце лежит…
Такая ломота раньше бывала только в покосное время в руках.
Думал Прохор Акимыч, что это с того так и ломит, что нет тяжелее работы, как лежать дни и ночи на нарах и не видеть конца ни этим нарам ни дням…
– С этой работы и есть нет охоты, – говорит Прохор Акимыч, выискивая возле коптилки рубашку и белея брюхом, как березовый пень.
– Да, братец, кто кусает локти, а кто чистит ногти, – из угла ему басит Иван Палыч…
– У нас вошь о вошь, у них грош о грош, – отвечает Пенкин.
– У кого грош, тот и гож, – подъелдакивает Сенька.
– Слушай-ка, пенка с горшка, толщиной два вершка, небось наш Стратилат теперь чертухинским бабам письма читает?
– Достает лапкой, что не покрыть шапкой, – сохальничал Сенька, по обычаю пьяный.
Иван Палыч так и заекал кадыком от удовольствия.
– Гляди, как бы твой Стратилат сам не залег с Пелагеей, он ведь только тихоня: чужое не тронет – свое не отдаст!
Весь блиндаж нахмурился, словно была у всех одна бровь и под бровью один глаз и у каждого рта одна и та же щелка-морщинка, в которую видно всего человека насквозь.
– Ты, Иван Палыч, – отвечает ему Прохор, не то печалясь, не то смеясь, – ты в бога-то веришь, видно, как и не я же: только у елки, из-за которой тебя ни богу, ни немцу не видно… А Миколай Митрич человек правильный…
– Эх, Пенка, на наших бабах теперь небось пастухи стадо пасут, – намекает ему Иван Палыч на историю с Игнаткой, о которой у нас в роте совсем незадолго узнали из слухов, которые бог весть какими путями докатились до нас: должно быть, приносит их с ветром!
Прохор же, к большому удивлению всех нас, не огрызнулся, а сел в темный угол, только часто хватался рукою за грудь, словно и впрямь, как подшутил над ним Иван Палыч, боялся кошелек потерять.
– Ты, брат, держи кошелек-то покрепче, а то сам из-за пазухи выпрыгнет, – издевался Иван Палыч…
Знал Прохор Акимыч, про какой кошель говорит злой кадык, водя своими мыльными пузырями по его голой спине, по которой так и пролегли вшивые тропки-накуски, но Иван Палыч и не ведает, какое в этом кошельке у Пенкина сейчас богатство лежит и как он и в самом деле боится его потерять: не прошла даром сыромятная молитва, и ныне Прохорова люлька уже не будет пуста!
Странно, что Игнатке Прохор не уделил никакого внимания в мыслях, когда получил от Поликарпа письмо: он верил в свою Пелагею, как в гору!
– Неужели? – Прохор шептал по ночам и тайком под шинелью крестился.
Он рисовал себе в уме Пелагею с большим животом, тугим и упругим, и в тысячный раз решал в темном мозгу одну и ту же задачу: неужли ж… неужели?
* * *
Вспомнил и Зайчик сейчас Прохора Пенкина, сунулся за обшлаг у шинели и вытащил с самого дна письмо в четвертушку, смятое, со стертым адресом, – едва рассмотрел: – село Чертухино, Пелагее Прокофьевне Пенкиной.
Все письма матери Зайчик отдал поутру, а это, должно быть, забилось в дороге на самое дно и осталось в его рукаве… Да все равно было поздно. Пелагея теперь стоит на самой последней ступеньке голубого крыльца, оттуда ей видно всю землю, а ее не видать никому…
Зайчик конверт разорвал и стал читать письмо к Пелагее…
Сперва шли поклоны, поклоны тому, поклоны другому и даже тому, кому и совсем посылать их не нужно: на позиции всякого вспомнишь, и хочется всем из окопа рукой в письме помахать, потом шли успехи в делах и хозяйстве, по дому и полю, а также здоровье, которое больше богатства и прежде всего.
«Береги, – Прохор писал Пелагее, – береги, Пелагея, здоровье, в работе спину не очень труди – как заломит, сядь отдохни, работа от рук не уйдет… К тому же прослышали мы, писал мне о том Поликарп, что ты ходишь с грузом и скоро будешь родить. Не думаю я ни про что, что мне плетет со зла Поликарп, всему, что ни скажешь, поверю, а чего не доскажешь – узнаю потом по глазам… Приеду, наверно, в Покров на побывку, тогда и кума выберем, а ежели что, может, и правда…»
Трудно было дальше письмо разобрать, в этом месте оно все истерлось, и только внизу под карандашною мутью стояло:
«Прохор Акимов, муж ваш по плоти и духу»…
* * *
Смотрит Зайчик на это письмо, и сейчас у него перед глазами стоит наш окопный блиндаж как живой. По нарам, свесивши ноги, сидят чертухинские мужики в шинелях внакидку, в углу у самого входа винтовки свалены в кучу, как хлам, в оконце, только руку просунуть, льется вечерняя муть из двинского болота, и лица у всех восковые.
Видит Зайчик солдат как живых.
Похожи они сейчас в воспоминании его на икону Всех Святых, только у каждого есть что-то в лице, что искажает задуманный образ и заставляет глаза отвести от него…
Словно писал Всех Святых безумный иконописец, в середине работы заменивший пособье в работе – пост и молитву – пьянством и диким разгулом.
Смотрит с этой пьяной иконы на Зайчика насмешливый Прохоров взгляд, улыбка, словно колючка с чертовой тещи, висит в его бороде, а глаза затаили и спрятали свет, которым ночью только горят кошачьи зрачки.
А что у него теперь на уме, никому хорошо не известно, только губы очерчены горькой чертой, завязаны около нее узелочки морщин, как на память, чтоб не забыть чего-то до смерти, да по лбу наискосок хитро изогнулась морщина…
На какой же иконе не найдешь глубоко проведенных морщин?
Только там они прямы, как борозда после старого пахаря, который кладет борозду к борозде, как страницу к странице, а на блиндажной иконе они у всех покосились, скривились, сошлись и смешались, потому что, видно, писал ее разгульник живописец не для того, чтоб на стену, пропахшую ладаном, в тихом притворе повесить, а для того, чтоб на столб, крашенный в черную краску, прибить в знак, что в этом месте широкой дороги царит разбой и убийство.
Ходу прибавь, пешеход! Ямщик, подхлестни лошадей!
Берегись!
Берегись!
Берегись!
Глава четвертаяРябинная цыганка
Ягодный букварь
К вечеру, когда Марфушка вернулась с клюквой из лесу, по Чертухину ходили самые черные слухи…
На Марфушку смотрели, дивились, что девка жива и что баба с веревкой у ней не отняла лукошко с брусницей и клюквой, как это случилось с чагодуйским овсом нашего дьякона, избежавшего чудом петли. Марфушка, ушедши по ягоды с утра, не знала всех этих историй и сама немало дивилась страшным рассказам, но приврать еще ничего не успела, должно быть, со страху и говорила на выгоне бабам и девкам, что никого не видала – тихо, дескать, в лесу, как в церкви, на ключ запертой.
Солдатки решили, что Марфушку уже так, по сиротству, не тронула баба.
Одни говорили, что баба эта похожа на Пелагею, а другие напротив.
– Пелагея не баба – картина, а у этой нос большой и кривой, и похожа она как две капли воды на последнюю нашу колдунью Ульяну, которую тому назад лет пятнадцать в лесу рыскучие волки загрызли, а она все это время сидела в волчьей утробе и вот теперь в войну объявилась и верховодит в лесу…
В лесу у нее, в непролазной чаще, есть тайный ход в самую землю, возле барсучьей норы, завален сучьем он, малиной высокой и частой оброс, будешь нарочно искать – не найдешь.
Этим-то ходом с Ульяной-лешихой Пелагея в землю ушла, чтоб родить не на глазах у людей, как добрые люди, а тайно.
Ульяна туда же стащила чагодуйский овес, чтоб из овса делать ребеночку соску, – Пелагея родит, плод оставит лешихе, а сама вернется и будет в Чертухине жить и Прохора ждать как ни в чем не бывало…
Да тут еще к вечеру, когда потемнело совсем, пошли еще новые слухи, что вместе с ней и Зайчик ушел, набредши случайно, гуляя по лесу, на эту барсучью нору; будет Зайчик теперь Пелагеина сына качать, ходить за ним и баюкать, потому что так Зайчик решил: лучше приблудыша киликать, чужого ребенка пестовать в руках, чем винтовку, – душе от того больше приволья!..
Пошло тут одно к одному: Пелагея, дьякон, чагодуйский овес, Зайчик, который отказался чай пить идти к дяде Прокопу и чай пить домой не пришел, хотя за ним Пелагушка несколько раз, уткнувшись в передник лицом, моталась к отцу Никанору, но Зайчик оттуда давно уже ушел, а куда – сама попадья разводила руками…
Все это спуталось, набилось в мозги, как мякина в сенную плетуху, и никто не знал хорошо, как все и по какому порядку случилось…
* * *
Митрий Семеныч сидел на крыльце до самых сумерек и смотрел на след от сыновних сапог:
«Нет, видно, Андрей Емельяныч правду говорил, что книга потеряна в темном лесу… а кто искать пойдет, не найдет и назад не вернется…»
Чуяло старое сердце беду…
Погасла заря, разливши по полю холодную кровь, по улице ветер сгонял желтые листья, подметал их под заборы, а на небо покатился за крайней избой над самым прогоном круглый поднос с нарисованной рожей, немного скривленной набок… месяц – не желтый, не красный, а словно из прокаленной, кованой меди.
«Видно, в сам деле убег», – подумал еще раз Митрий Семеныч…
Фекла Спиридоновна с глазами, словно упавшими в черную яму, с краснотой под бровями и с пухлым мешком у ресниц, возилась на кухне, переставляя ухваты и клюшки без дела с места на место, как часовых в перепутанной смене, а рядом пухтел самовар – пузатый король – и трубил в длинную трубу, надев ее себе на корону…
– К горю, Митрий Семеныч, – говорит Фекла Спиридоновна, – целый час глотает уголья, как вату, воет и никак не может поспеть…
– Не каркай, само постучит у окошка… давай сапог, я ему брюхо продую…
Фекла Спиридоновна достала из-под шестка голенище, сняла корону и раструбом надела сапожный бурак на самоварную глотку; из-под ног королевских посыпались искры, сердито треща, завилась зола, король вздохнул облегченно, уселся еще тверже на двух кирпичах, и скоро забил из него под матицу пар и на пол вода побежала…
Сели второй раз за стол вечерять, дули долго на блюдца и, не глядя друг на друга, молчали…
После девятой чашки Митрий Семеныч щелкнул по медному брюху и сказал, не обернувшись к жене:
– Долей, может, скоро Миколай подойдет…
– Ох, отец, чтой-то он нонче словно в свисток задувает… – косится Фекла Спиридоновна королю на короткие ноги…
– Убежал, вот и свистит, – Митрий Семеныч ей отвечает, строго глядя тоже на эти ноги…
– Кто убежал?.. Куда убежал?..
– Кто убежал: самовар!.. Кому же у нас еще убежать: скотина вся на дворе…
– Ох, как бы, отец, беды не стряслось: найдут!.. Намеднись искали этих дезиков, нашли, говорят, на болоте и тут же всех вспороли корьем…
– Да будет тебе. Миколай небось ходит по лесу, сосны считает… Придет, не впервые!
А сам глядит, как медный король скроил ему рожу, забивши бороду в рот, брови раздвинув и будто высунув желтый – на медном – язык.
* * *
…А Зайчик и верно лежал в эту пору под густою елкой на мху, накрывшись серой шинелью, и думал давнишнюю думу.
Идет старец из пустыни, черноризец, слезно плачет.
А навстречу ему сам господь бог:
– И о чем ты, старец старый, плачешь,
И о чем ты, старый старец, воздыхаешь?..
– Как же мне-то, старому, не плакать,
Как же старцу мне не воздыхать:
Уронил я ключ от церкви в сине море,
Золотую книгу потерял во темном лесу…
Да, видно, золотая книга в лесу.
Читают ее теперь пушистые зайцы, неразумные дети, у кочки умявши траву, листают их лапки золотые страницы, мелькают пред ними заглавные буквы, заставки с хитрым и тайным рисунком, и встает перед открытой нежно-звериной душой скрытый за строками смысл… величавый, как мир пред зарею, и пугливый пред людским глазом, как пугливо только заяц перед хитрой лисицей, учуявшей на полуночной росе воздушный заячий след…
А может, книгу давно размыли дожди, страницы оборвали ветра-непогоды, и страницы легли цветной луговиной на лесные поляны, а буквы рассыпались в мох, – на мху теперь для чертухинских девок и баб заглавные буквы в красную краску растут куманикой и клюквой, строчки повисли на пьяничные и черничные ветки, а точки-знаки, где вещей кончается смысл, ткнулись в колючие иглы можжевелевой гущи, и ест их одна только вещая птица: глухарь!
Ходят бабы и девки по ягоды в лес и по складам читают великую книгу: ягодой пичкают малых ребят, посластиться дают старикам, и старики каждый год и не знают, что проходят, вместе с внучатами, премудрого мира букварь…
* * *
Потому-то и мудр простой человек, и речь его проста и цветиста!
Под заветной елью
Потерял Зайчик черту, где начинается сон, а явь и виденье из-под ног уплывают, как песок на крутом берегу.
Протекают сны в этих крутых берегах, как прозрачные воды реки, не знающей дна: стоят в ней города и селенья и те же люди и звери живут, которых мы видим и днем перед глазами, только соткано это все из лунной кудели, нежно, воздушно и, должно быть, правдивей, чем наяву…
Мудр и правдив человек, когда спит…
Широко раскрываются очи, когда слипаются веки и тело тонет на дно.
Только где эта память, чтоб видеть, что видим во сне: человек ее давно потерял, променяв на науку и опыт замечтав улететь на луну – прародительницу тайны и снов… Потому-то можно человеку почесть себя за счастливца и можно его за счастливца принять, если он помнит при пробужденьи, с кем и где пролетела последняя ночь.
Потому-то мужик и привык ложиться, как потемнеет, чтоб с первым лучом идти на работу, а барин, который стал умнее себя, в эту пору зевает и зря только жгет керосин…
Из этой барской зевоты родилась наука, скука ума, камень над гробом незрячей души; плавает в этой науке человеческий разум, как слепой котенок в ведре…
Придет в свой час строгий хозяин, начнет разметать духовную пустошь, увидит ведерко, и вот тогда-то котенок и полетит на луну!..
* * *
Не может Зайчик понять, что он: спит или не спит, видится это иль видит он сам и не может не видеть того, что стоит перед глазами:
– Хочешь, молодой хозяин, погадаю, а хочешь, на гитаре сыграю…
Стоит перед ним цыганка под густой елкой, тонок стан у этой цыганки, как тонок он у рябины, тянущей Зайчику зрелую гроздь…
Одета цыганка в цветистую юбку и кофту, и в юбке и кофте, в цветах и разводах по яркому ситцу как будто сразу две пышут зари: заря перед ночью, когда вечер погас и золотую голову уронил на колени, когда вдруг под синим покровом будто вырастет мак и тут же завянет, и только от лепестков по земле прольется слабый тайник – полусвет… и рядом тут же в другой полосе или сборке горит и пылает другая заря, – заря, когда ночь – цыганка сама – еще не ушла, но у ней уже подогнулись колени, и с плеч, ее катятся звезды за полупрозрачный шелк на груди, и она хмурит на них черную бровь, гадая по ним о судьбе, на земле еще бродят, скрываясь перед утром, пугливые тени, обращаясь в тени кустов и деревьев, а по лесу идет невидимка – предутренний свет!
Кажется Зайчику, что и рябинная ветка похожа на тонкую загорелую руку, а ягодная красная кисть, зажатая в руку, – на колоду причудливых, раскрытых веером карт, по которым гадают цыганки судьбу…
Смотрит Зайчик на привиденье, не успевшее скрыться пред утром, не страшно нисколько ему, что еще не обернулось оно в прозрачную тень от рябины, и потому тихо сказал:
– Садись, погадай…
Ворожея под елью прошла полукругом, на бесшумном ходу сливая в складках две затаённых зари, откинувши черную косу с синею лентой за спину, и под косой в розовой мочке полыхнулся на миг золотой амулет – монета из дальней страны, куда укатил от Аксиньи Петр Еремеич.
Зайчик увидал за спиной у цыганки гитару, под гитарой – солдатский соломенный мат и потому не удержался и, улыбаясь, спросил:
– Гадалка, откуда мат у тебя?..
– Оставили дезики… На нем хорошо полежать, когда заночуешь в лесу… Ты что же это, молодой хозяин, лежишь на боку?..
Цыганка смотрит на Зайчика нежно, как мать, и Зайчик чувствует холод под боком, на лице колкую изморозь и дрожь от зазимка.
– Возьми, – говорит, наклонившись, цыганка ему, – постели…
Зайчик взял соломенный мат, подостлал его под себя и почувствовал сразу такое тепло, как будто лежит он в отцовской избе на лежанке, которую Пелагушка топила, мешая в ней сковородней, когда он гулять выходил…
– Цыганка-гадалка, садись, погадай…
Цыганка кивнула ему головой, мелькнул под черной косой амулет, зазвенели на шее цветные стекляшки-монисты, и запела гитара, повиснув на сохлом суку…
Какая чудесная песня вьется в игольных ветках, будто старая ель каждой иголкой запела, вспомнив далекое, потонувшее теперь за облаками, забытое время, когда деревья, травы и камни, как люди, говорили и пели и мир был полон цветистых звуков, шепотов, вздохов, шорохов и затаенных смешков, в которых былинка больше тайну его понимала, чем теперь человек…
Цыганка села на корточки рядом, с юбочных зорь побежал холодок, а из черных-иссиня глаз покатилась звезда за звездой, как только в раннюю осень бывает…
Цыганка сунула загорелую руку за кофту и достала гадальные карты, она стасовала их, положила наверх червонную даму, а подниз короля и веером их разложила по мху…
Смотрит Зайчик на карты, каждый король даму из такой же масти под ручку ведет, каждая дама держит в руках белый платочек, и каждый король саблей чертит по земле, как петух перед курицей серебряным бравым крылом.
Смотрит Зайчик, что короли все эти похожи лицом как две капли на нас, солдат из двенадцатой роты, только вместо фуражек – какие-то с длинными перьями шляпы, на ногах чулки и баретки с бантами и самых разных цветов, и с плеч до земли упадают плащи из такого сукна, в цветную полоску, в зеленый горошек, в котором разве ходят одни барчуки…
Дивуется Зайчик на эту картину, а цыганка тоже глядит и смеется…
– Понимаешь?.. – спрашивает цыганка.
– Нет, цыганка-гадалка, – говорит Зайчик, – не понимаю пока… Это что же мне выходит: на балу, что ли, танцевать?..
– А на гитаре ты умеешь играть? – спрашивает цыганка…
– Нет, – отвечает Зайчик, – умел когда-то, когда к отцу Никанору ходил часто в гости, а теперь позабыл, как и в руки берут…
– Напрасно, молодой хозяин, – отвечает цыганка, – девицы очень любят гитару, играют они с вашим братом хитрые штуки…
– Ты это, цыганка, про Клашу со мной?.. – спрашивает ее Зайчик…
– Нет, – цыганка отвечает, – с Клашей сыграл ты сам хитрую штуку…
– Не великая хитрость: любить!
– Любовь как стрела, молодой хозяин… как стрела: пота и жив человек, покуль она в сердце торчит, – вынешь: смерть!
У Зайчика прыгнуло сердце, как белка на сук, и он схватился за грудь, а цыганка взяла его руку и от груди отвела:
– Ты не видишь здесь тайного смысла, протри лучше глаза, погляди хорошенько.
– Я вижу, что короли и дамы танцуют…
– Ты, молодой хозяин, смотришь на масть, – цыганка ему говорит и водит по картам рукою, – ты смотришь на масть, а надо на крап больше глядеть…
Зайчик протер глаза рукавом, приподнялся на локоть, приложил другую руку к глазам и смотрит, сощуривши глаз…
– Не щурься, – учит цыганка, – гляди, как кот на сметану…
– Гляжу, – тихо Зайчик ей отвечает…
– Видишь, – спрашивает цыганка, – по крапу льется вода и все короли в воде тонут?..
– Вижу, – говорит Зайчик…
– Видишь, – спрашивает цыганка, – одну руку дамы держат у сердца, а в другой белым платочком глаза утирают?..
– Вижу, – говорит Зайчик…
– Ну вот, – улыбается цыганка, – значит, ты видишь сейчас свое счастье…
– Ты, цыганка-гадалка, – говорит Зайчик обиженно, – мне плохо гадаешь: все время тебя отгадывать надо…
– Это, – улыбается Зайчику цыганка, – ты, должно быть, спросонок своего счастья не разглядел… счастливый счастья не видит! Только нищий хорошо видит суму, хотя у него и нет глаз на затылке!
– Нет, – говорит Зайчик, – видно, я без счастья родился – вижу только, как короли в воде тонут, а дамы в белые платочки плачут…
Цыганка опять взяла Зайчика за руку, смотрит на него, словно разглядывает – счастливый он или несчастный, а из глаз так и падают звезды за кофту, где дышит высокая смуглая грудь и от дыханья идет холодок и истома, какие плывут поутру, когда еще не занялась заря…
– Скажи, молодой хозяин, – спрашивает его цыганка, – что человеку всего дороже?
Зайчик посмотрел опять на карты, как короли тонут да дамы плачут в платочки, вспомнил, как дезиков порют и как не хочется всем умирать неизвестно за что, смекнул и цыганке твердо ответил:
– Жизнь!
– Ну вот, – говорит цыганка и карты рукою смешала, – догадался: тебе бы надо плавать вместе с другими, а ты вон под елью лежишь да у цыганки пытаешь судьбу…
– Вот как? – удивился Зайчик.
– Бойся, молодой хозяин, – поднялась цыганка и сунула карты за кофту, – бойся всякой воды, горькой и соленой, простой и сычёной, пуще огня: огонь тебя не тронет, а в воде, если не пожалеет судьба, и в ковшике, и в кумке, молодой хозяин, утонешь…
Сняла цыганка гитару, свернула соломенный мат, перекинула их за плечо и, отряхнувши с пылающей юбки еловые иглы и мох, сказала:
– Прощай!
Последняя тройка
Кудай-то, в сам деле, Петр Еремеич девался…
Кто говорит, что Аксинья Егоровна в позадопрошлом году его сама удавила на лестовке в темном чулане по злости и с камнем в мешке сунула в крещенскую прорубь в Дубну, кто – по-другому: будто Петр Еремеич еще много за-раньше, весною, на Волгу повез седока и там с седоком, с тройкой последних коней и последней кибиткой посередине реки угодил в полынью и теперь на залихватской тройке катает водяного царя Вологню в перегоне от Кимры до самой Твери, а оттуда, нипочто сгоняв лошадей, значит, обратно: тешится старый мокрыга, катается с горя да скуки, – по Волге пошли пароходы, жестяные баржи с черною кровью, в рот и глаза ему гадют, спать не дают, а вода несет равнодушно и пароходное это дерьмо и по речному донцу катит песок золотой, – ну, старый мокрыжник и рад был Петру Еремеичу и подрядил его на круглое лето: у Кимры часто перевозчики в воде слышат бубенцы…






