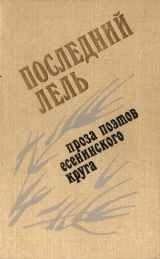
Текст книги "Последний Лель"
Автор книги: Сергей Есенин
Соавторы: Николай Клюев,Алексей Ганин,Сергей Клычков,Пимен Карпов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
Видя, с какой неуемной ретивостью новые властители отторгают от народа многовековую культуру, Клюев пророчески предупреждал: «Направляя жало пулемета на жар-птицу, объявляя ее подлежащей уничтожению, следует призадуматься над отысканием пути к созданию такого искусства, которое могло бы утолить художественный голод дремучей, черносошной России… А пока жар-птица трепещет и бьется смертно, обливаясь самоцветной кровью под стальным глазом пулемета».
Эти пророческие слова начали сбываться почти через десятилетие после того, как были произнесены. И еще впереди была публикация романов Сергея Клычкова – «последнего леля» русской литературы. Сергей Есенин в «Ключах Марии» назвал Клычкова «истинно прекрасным народным поэтом», который «первый увидел, что земля поехала», и который «видит, что эта предзорняя конница увозит ее к новым берегам… что березки, сидящие в телеге земли, прощаются с нашей старой орбитой, старым воздухом и старыми тучами».
И герой романа Клычкова «Сахарный немец» (в сокращенном варианте роман был опубликован под заглавием «Последний Лель») зауряд-прапорщик Зайчик видит вещий сон в горнице, под синим светом лампады, что «плывет, плывет отцовская изба, как диковинный корабль, в далекое и блаженное царство, где люди живут и не знают, а самое главное, знать им не надо: что жизнь и что смерть».
«Живот и смерть» – так должно было называться задуманное Сергеем Клычковым девятикнижие, первой частью которой и был роман «Сахарный немец». Действие в нем происходит в период империалистической войны четырнадцатого года, участником которой был сам поэт. Его герой пытается найти отдохновение, душевный лад и гармонию в единении с родной ему природной стихией, от которой он внутренне еще не отделен до конца. Мир крови и насилия чужд нежной душе зауряда, и если бродят в его неприкаянной голове мысли о смерти, то о той, «коли в головах у тебя и в ногах теплятся тихо путеводные свечи, а у дома, плечом прислонившись к крыльцу, терпеливо дожидается сосновая крышка…». Только разве кому удавалось с такой легкостью и покоем отдать Богу душу в период военного лихолетья или в жестокие годы непрекращающейся гражданской войны, когда писал свой роман Сергей Клычков, зная, что стал он волею судьбы современником той эпохи, когда жизнь человеческая ценится дешевле полушки? Все время, «кажется, с самого неба занесен несчастный чугунный колун, под которым сама земля дрожит и расступается, разлетаясь пылью и прахом».
Не находит Зайчик успокоения и в родном Чертухине. Сладкие грезы окутывают его разум, мечтается ему о блаженной разголубой стране, где струится живая вода, а молятся мужики в лесу на мшисто узорном подрушнике, и нет над ними власти никакой, ни налогов, ни поборов… Но нет проезда, прохода в эту страну обетованную. А здесь, в родном Чертухине все давно вкривь и вкось пошло. Надвинулся на родной с детства мир окаянный город, ад бесчеловечной чистоганной цивилизации, город, под которым «и земля не похожа на землю. Убил, утрамбовал ее сатана чугунным копытом, укатал железно спиной, катаясь по ней, как катается лошадь по лугу в мыти…».
Что может преодолеть разлад в душе мужика, предотвратить его падение и безвременную погибель? Затеряна навечно в глухих лесах чудодейственная книга Златые Уста, и наука не в помощь, ибо не ведает о ней народ, чей разум плавает, как «котенок в ведре». Здесь отчетливо слышится перекличка Сергея Клычкова с Николаем Клюевым, пророчествовавшим русскому человеку: «Ты слеп на правый глаз свой!» Обезображивается природа, теряют свое лицо люди, вынужденные лишать друг друга жизни. Зайчик убивает немецкого солдата и долго не может опомниться после совершенного убийства. «Кровь человечья липче и слаще, чем мед… прекрасна она, и страшна, и страшлива, и… по пятам за ее страхом ходит убийство», – думал так Зайчик, закрывая рукою глаза (кажется, вот-вот) перед самым штыком…» И мнится ему после случившегося убитый немец, ласково вещающий: «Не бойся, Русь, не бойся, у меня ружье не заправское, и пуля не пуля, а леденец сладкий, сахарный, только слаще леденца человечья кровь…»
Не ходи ты, Лель, воевать!
Ты не целься в лоб,
Уж ты в грудь не цель…
Эту песню своей родины вспоминал Зайчик… Лель – славянский бог любви, и если уж он поднял руку на человека – конец этому миру, конец любви, конец гармонии… Зайчика неотвязно преследует образ крови, сладкой как сахар. Для него, выходца из старообрядческой среды, сахар – грех, великий соблазн. И кровь становится соблазном в дни всеобщего одичания и озверения.
Пожалуй, лишь поэты – «новокрестьяне», с их пантеистическим мироощущением и глубоким пониманием самоценности человеческой жизни, всем своим творчеством сознательно противостояли в годы революции и гражданской войны апологии убийства, находившей себе оправдание в необходимости классовой борьбы. Немногие из них отдали дань этому массовому поветрию и тут же словно оборвали себя, предчувствуя, куда может завести эта апология. Ведь пролитая кровь соблазняет, как сахар, и второй раз ее куда легче пролить, чем в первый, а когда гибнут миллионы людей, что за дело до единой человеческой жизни!.. Они в своих стихотворениях, поэмах, романах и публицистических статьях до конца отстаивали гуманистические ценности, завещанные им древнерусской и русской классической литературой. Естественно, они пошли против течения, и это противостояние неминуемо должно было разрешиться трагедией. Почти никто из них не дожил до сравнительно спокойных дней.
Впервые поэты – «новокрестьяне» объединились в единое течение перед второй русской революцией. Пик их творческого слияния пришелся на 1916–1917 годы. Еще в 1918 году самым близким человеком и поэтом для Сергея Есенина оставался Сергей Клычков, с которым они вместе думали об основании поэтической школы «аггелизма», манифестом которой, собственно говоря, и явился есенинский трактат «Ключи Марии». С Клюевым его разделили мировоззренческие установки, разошелся он с Пименом Карповым и Петром Орешиным. После кратковременного сближения с имажинистами, в которых Есенин думал обрести новых друзей и сотоварищей, он уже в 1922 году писал Р. Иванову-Разумнику: «Уж очень мы все рассыпались, хочется опять немного потесней «в семью едину», потому что мне, например, до чертиков надоело возиться с моей пустозвонной братией… [6]6
Есенин С. Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 1980. Т. 6. С. 113.
[Закрыть].». Он с благодарностью вспоминал предреволюционные годы, тесное содружество братьев по духу и творческим устремлениям. «Крестьянская» группа, прекратила свое существование, каждый из поэтов вышел на самостоятельную большую дорогу, и теперь Есенин думал об объединении самоценных творческих миров, которые соприкасались в главном: в отношении к революции, к судьбам крестьянства, к глубинному смыслу человеческого бытия. Особенно эта тяга проявилась у него после заграничного путешествия.
Он мечтал об издании журнала «Россияне», который бы объединил прежних собратьев. Этим планам не удалось осуществиться, и возрождение творческих связей с прежними друзьями проявилось лишь в устроении совместных поэтических вечеров, в частности вечера «русского стиля», на котором выступали Сергей Есенин, Николай Клюев и Алексей Ганин. Есенин восстанавливает прежние отношения с Сергеем Клычковым, Петром Орешиным, часто встречается с ними. Во время этих встреч поэты вели жгучие, больные разговоры о судьбе русской нации и русского искусства в сложное, тяжелое время, когда все отчетливей стала проявлять себя тенденция денационализации культуры, идущая сверху, в частности от Л. Д. Троцкого, не единожды пытавшегося приманить к себе Есенина, обещая ему средства на устроение журнала, очевидно рассчитывая на знаменитого русского поэта как на будущего проводника своей политики. Есенин слишком хорошо понял эту игру и неоднократно публично высказывал все, что думал по поводу нездоровой обстановки в культурной жизни России начала 20-х годов. Возмездие последовало жестокое – начиная от клеветы в печати, репрессивных мер и вплоть до трагической гибели поэта 28 декабря 1925 года.
Поэты понимали, что недолго им осталось быть вместе, они слишком ясно предчувствовали свою трагическую судьбу. Гибель Есенина и Алексея Ганина еще теснее сблизила их. Боль общей утраты сопровождалась тревожными гаданиями о будущем, о судьбах русского крестьянства, которое подверглось жестокому погрому на рубеже 20–30-х годов. Почти все поэты – «новокрестьяне» разделили судьбу того слоя, в котором они были вскормлены и выпестованы и из которого вышли в большой мир, став гордостью отечественной литературы.
«Еще живет «россеянство», своеобразно дошедшее до нашего времени славянофильство, даже этакое боевое противозападничество с верой по-прежнему, по старинке, в «особый» путь развития, в народ – «богоносец», с погружением в «философические» глубины мистического «народного духа» и красоты «национального» фольклора.
В современной поэзии наиболее сильными представителями такого «россеянства» являются: Клычков, Клюев и Орешин (Есенин – в прошлом).
Было бы ошибкой рассматривать их только как эпигонов, последышей. Они утверждаются в поэзии идеологическими представителями кулачества. Характерные черты их творчества представляют собой рупор, через который усиляется голос определенной классовой группы, судорожно старающейся отстоять свои экономические, а значит, бытовые и психологические позиции».
Эти угнетающие своей злобой, пышущие ненавистью слова Осипа Бескина, у которого, по его же собственному признанию, «в зобу от гнева дыхание спирало», когда речь заходила о поэтах, вышедших из крестьянской среды, лучше всего характеризуют средства и методы, которыми в период «ликвидации кулачества как класса» изничтожалась литература, идущая от деревенских корней, и как подготавливалась идеологическая база к полному уничтожению этого литературного направления в лице его ярчайших представителей, почти поголовно репрессированных в конце 30-х годов.
Однако наконец наступило время, когда мы в полной мере можем оценить правоту слов Сергея Клычкова, написанных в ответ на вышеприведенные и многочисленные им подобные обвинения теоретиков, считавших, по словам Н. Клюева, что «товарищ маузер красноречивее хоровода муз»: «Завтра произойдет мировая революция, капиталистический мир и национальные перегородки рухнут, но… русское искусство останется, ибо не может исчезнуть то, чем по справедливости перед миром гордились и будем, любя революцию, страстно верить, что еще… будем, будем гордиться!»
Спустя много лет дошли до нас эти горькие слова, дошли произведения, о которых не ведали несколько поколений. И, вчитываясь в них, мы размышляем о прошлом России, подсознательно внимая пророчествам поэтов – «новокрестьян», чье творчество вопреки всему не сгинуло в небытие, вернулось к нам.
Сергей Куняев
Николай Клюев
С родного берега
«Мы убили дьявола».
Ответ крестьянина на суде перед сытыми
(Л. Андреев. Царь-Голод)
Дорогой В. С. [7]7
В. С. – В. С. Миролюбов. В исходном тексте стоит: С. В. Это, скорее всего описка Клюева (или Блока).
[Закрыть], Вы спрашиваете меня, знают ли крестьяне нашей местности, что такое республика, как они относятся к царской власти, к нынешнему царю и какое общее настроение среди их? Для людей вашего круга вопросы эти ясны и ответы на них готовы, но чтобы понять ответ мужика, особенно из нашей глухой и отдаленной губернии, где на сотни верст кругом не встретишь селения свыше 20 дворов, где непроходимые болота и лесные грязи убивают всякую охоту к передвижению, где люди, зачастую прожив на свете 80 лет, не видали города, парохода, фабрики или железной дороги, – нужно быть самому «в этом роде». Нужно забыть кабинетные истории зачастую слепых вождей, вырвать из сердца перлы комнатного ораторства, слезть с обсиженной площадки, какую бы вывеску она ни имела, какую бы кличку партии, кружка или чего иного она ни носила, потому что самые точные вожделения, созданные городским воображением «борцов», при первой попытке применения их на месте оказываются дурачеством, а зачастую даже вредом; и только два-три искренних, освященных кровью слова неведомыми и неуследимыми путями доходят до сердца народного, находят готовую почву и глубоко пускают корни, так например: «Земля Божья», «вся земля есть достояние всего народа» – великое неисповедимое слово! И сердцу крестьянскому чудится за ним тучная долина Ефрата, где мир и благоволение, где Сам Бог.
«Все будет, да не скоро», – скажет любой мужик из нашей местности. Но это простое «все» – с бесконечным, как небо, смыслом. Это значит, что не будет «греха», что золотой рычаг вселенной повернет к солнцу правды, тело не будет уничижено бременем вечного труда, особенно «отдажного», как говорят у нас, т. е. предлагаемого за плату, и душа, как в открытой книге, будет разбираться в тайнах жизни.
«Чего не знаешь, то поперек глаза стоит», заставляет пугаться, пятиться назад перед грядущим, перед всем, что на словах хорошо, а на деле «Бог его знает». Каменное «Бог его знает» наружно кажется неодолимым тормозом для воспринятая народом революционных идей, на него жалуются все работники из интеллигентов, но жалобы их несправедливы, ибо это не есть доказательство безнадежности мужика, а, так сказать, его весы духовные, своего рода чистилище, где все ложное умирает, все же справедливое становится бессмертным.
Наша губерния, как я сказал, находится в особых условиях. Земли у нас много, лесов – тоже достаточно. Аграрно, если можно так выразиться, мы довольны, только начальство шибко забижает, земство тоже маху не дает – налогами порато прижимает. Как пошли по Россеи бунты, так будто маленько приотдало и начальство стало поладливее. Бывало, год какой назад, соберемся на сход, так до белого света про политику разговоры разговариваем; и полица не касалась, а теперь ей от царя воля вышла; кто за правду заговорит, того за воротник – да в кружку. Ну, одного схватят да другого схватят, а третий и сторонится; ведь семья на руках пить-ись просит, а с острожного пайка не много расхарчишься. Да это бы все не беда, так, вишь, народ-то не одной матки детки, у которого в кисете звонит, так ён тебе же вредит: по начальству доносит. Так говорит половина мужиков Олонецкой губ[ернии].
Но что же это за «политика», – спросите Вы, что подразумевает крестьянин под этим словом, что характеризует им? Постараюсь ответить словами большинства. Политика – это все, что касается правды – великой вселенской справедливости, такого порядка вещей, где и «порошина не падет зря», где не только у парней будут «калоши и пинжаки», «как у богатых», но еще что-то очень приятное, от чего гордо поднимается голова и смелее становится речь. Знаю, что люди Вашего круга нашу «политику» понимают как нечто крайне убогое, в чем совершенно отсутствуют истины социализма, о которых так много чиликают авторы красных книжек, предназначенных «для народа». Но истинно говорю Вам – такое представление о мужике больше чем ложно, оно неумно и бессмысленно! Мне памятен случай на одном, устроенном местным кружком с[оциалистов]-р[еволюционеров] митинге. Оратор, крестьянин, мужчина лет 30, стоя на камне посреди густой толпы, кричал: «Зачем вы пришли сюда, зачем собрались и что смотреть? Человека ли, в богатые одежды облеченного? Так ведь такие живут во дворцах, вы же чего ищете, чего хотите?»
«Чтобы все было наше», – кричали в ответ – не два, не три, а по крайней мере сотни четыре людей. «Чтобы все было наше» – вот крестьянская программа, вот чего желают крестьяне. Что подразумевают они под словом «все», я объяснял, как сумел, выше, могу присовокупить, что к нему относятся кой-какие и другие пожелания, так например: чтобы не было податей и начальства, чтобы съестные продукты были наши, а для выдачи можно контору устроить, препоручив ее людям совестливым. Чтобы для желающих были училища и чтоб одежда у всех была барская, – т. е. хорошая, красивая. Много кой-чего и другого копошится в мужицком сердце; мысленно им не обделен никто: ни вдовица, ни сирота, ни девушка-невеста. О республике же в нашей губернии знают не больше как несколько сот коренных крестьян, просвещенных политическими ссыльными из интеллигентов и городских рабочих. Республика это такая страна, где царь выбирается на голоса, – вот все, что знают по этому предмету некоторые крестьяне нашей округи. Большинство же держится за царя не как за власть карающую и убивающую, а как за воплощение мудрости, способной разрешить запросы народного духа. «Ён должон по думе делать», – говорят про царя. Это значит, что царь должен быть умом всей русской земли, быть высшей добродетелью и правдой. Нынешний же царь злодеяниями, кажущимися народу предвестником «последнего времени», представляется одним чем-то в высшей степени бессовестным, врагом Бога и правды, другим – наказанием за грехи, третьим – просто пьяным, осатаневшим, похожим на станового барином, четвертым – ничего не знающим и ни во что не касающимся, с ликом писаного «Миколы», существом. Ежедневные казни и массовые расстрелы доходят до наших мест в виде фантастических сказаний. Говорят, что в городе «Крамштате» царь подписал «счет» матросов, предназначенных для казни, и что по дорогам было протянуто красное сукно, в церквах звонили в колокола, а царь с царицей ехал на пароходе и смотрел «в бинок». Что в каком-то городе, на белой горе казнили 12 братьев, и с тех пор икона Пресвятой Богородицы, находящаяся в ближней церкви, плачет дённо и ночно – подавая болящим исцеление. Что в Псковской губернии видели огненного змия, а в Новогороде сжатая в кулак рука Спасителя, изображенного на городской стене, разжимается. Все это предвещает великое убийство – перемеженье для Россеи, время, когда брат на брата копье скует и будет для всего народа большое «поплененье». От многих я слыхал еще и следующее, касающееся уже лично нынешнего императора: будто бы он, будучи еще наследником, ездил к японскому государю в гости, стал похабничать с японской царицей и в драке с ее мужем получил саблей коку в голову, отчего у него сделалось потрясенье и он стал межеумком, таким, характеризуя кого, мужик показывает на лоб и вполголоса прибавляет: «Винтика не хватает». Вот, мол, отчего и порядки на Россеи худые; да еще оттого, что ён начальству волю дал и сам сызмальства мясничать научился. Перво-наперво, как приехал из Японии, зараз царем захотел стать – отцу Александру III-ему сулемы подсунул, а брата Егорья в крепость засадил, где его и застрелил унтер-офицер Трепов, что теперь у царя в ключниках состоит и жалованье за это 40 тыщ на месяц получает. Но подобные разговоры – исключение. Большинство же интересуется насущным: заботой о пропитании, о цене на хлеб, проделками сельских властей – старшин, старост, сборщиков податей, волостных писарей, становых, земских, урядников, ругает их в глаза и позаглазно, уважения же к этим господам не питает никто, ни старый, ни малый. Песни крестьянской молодежи наглядно показывают отношение деревни к полиции, отчаянную удаль, готовность пострадать даже «за книжку», ненависть ко всякой власти предержащей:
Нам полиция знакома,
А исправник хоть бы хны,
Хоть убей, за сороковку
Не окажется вины.
Мы без ножиков не ходим,
Без каменья никогда,
Нас за ножики боятся
Пуще царского суда.
Мать-Россея торжествует —
Николай вином торгует,
Саша булочки пекет,
А Маша с Треповым живет.
Люди ножики справляют,
Я леворвет заряжу,
Люди в каторге страдают —
Я туда же угожу.
Я мальчишечко-башка,
Не хожу без камешка.
Меня в Сибири дожидают —
Шьют рубаху из мешка.
У нас ножики литые,
Гири кованые.
Мы ребята холостые
Практикованные.
Мы научены сумой —
Государевой тюрьмой.
Молодцы пусть погуляют,
Вместе водочки попьют,
За веселое гулянье
Цепи на ноги дают.
Пусть нас жарят и калят
Размазуриков-ребят,
Мы начальству не уважим —
Лучше сядем в каземат.
Каземат ты каземат —
Каменная стенка.
Я мальчишко-сибиряк
Знаю не маленько.
Не маленько знаю я,
Не своим бахвальством,
Что Россейская казна
Пропита начальством.
Ах ты книжка-складенец,
В каторгу дорожка,
Пострадает молодец
За тебя немножко.
Во тюрьму меня ведут
Кудри развеваются —
Рядом девушки идут,
Плачут, убиваются.
И т. п.
Отношение деревни к затюремщикам резко изменилось. Пострадать «с доброй воли» не считается позорным. Возвратившиеся из тюрьмы пользуются уважением, слезным участием к их страданью. Тысячи политических ссыльных из разных концов России нашли в нашем краю приют и вообще жалостное отношение населения. Революционные кружки, организованные ссыльными во всех уездах губернии, за последнее время значительно обезлюдели. Много работников, как из крестьян, мещан, так и из интеллигентов, арестованы. Главный губернский комитет получает из Питера партийные журналы, прокламации и брошюры, и через уездных членов распространяют по всей губернии. Из прокламаций больше спрос на письмо русских крестьян к царю Николаю II-му. Из брошюр: «Что такое свобода», «Хитрая механика» и «Конек Скакунок». Несмотря на гонение, распространение литературы, хотя значительно слабее 1905–6 годов, но все-таки продолжается, хотя до сих пор и не вызывает массового бунта, но как червоточина незримо делает свое дело, порождая ненависть к богачам и правительству. Наружно же вид Олонецкой губ[ернии] крайне мирный, пьяный по праздникам и голодный по будням. Пьянство растет не по дням, а по часам, пьют мужики, нередко бабы и подростки. Казенки процветают, яко крины, а хлеба своего в большинстве хватает немного дольше Покрова. 9 зимних месяцев приходится кормиться картошкой и рыжиками, да и те есть не у всякого. Вообще мы живем как под тучей – вот-вот грянет гром и свет осияет трущобы Земли, и восплачут те, кто распял Народ Божий, кто, злодейством и Богом низведенный до положения департаментского сторожа, лишил миллионы братьев познания истинной жизни. Общее же настроение крестьянства нашего справедливо выражено в одном духовном стихе, распеваемом по деревням перехожими нищими-слепцами:
Что ты, душа, приуныла?
Аль ты Господа забыла?
Аль ты добра не творила?
Оттого ты, душа, заскорбела,
Что святая правда сгорела.
Что любовь по свету бродит
И нигде пристану не находит.
По крещеному белому царству
Пролегла великая дорога —
Столбовая прямая путина.
То ли путь до темного острога,
А оттуль до Господа Бога.
Не просись, душа моя, в пустыню,
Во тесну монашеску келью,
Ко тому ли райскому веселью.
Положи, душа моя, желанье
Воспринять святое поруганье,
А и тем, душа моя, спасёся,
Во нетленну ризу облекёся.
По крещеному белому царству
Пролегла великая дорога,
Протекла кровавая пучина -
Есть проход лихому человеку,
Что ль проезд ночному душегубу,
Только нету вольного проходу
Тихомудру Божью пешеходу.
Как ему, Господню, путь засечен,
Завален – проклятым черным камнем.
1908






