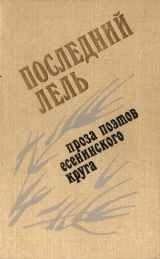
Текст книги "Последний Лель"
Автор книги: Сергей Есенин
Соавторы: Николай Клюев,Алексей Ганин,Сергей Клычков,Пимен Карпов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 36 страниц)
Ночью гнева и света выходили хороводы, полки, громады. Пели псалмы. Хлеборобы, бросив убогие хибарки, сливались с бушующим потоком.
Над синим, цветным озером темные шумели леса – вещие кудесники земли. В глубоком же ночном зеркале озера хвойные берега и туманы плыли опрокинутыми таинственными башнями в зеленом огне звезд и луны…
С белого мелового обрыва, вскинутого над черной хвоей, сходила, ведя за собой дикую шайку сатанаилов, побирайл и обормотов, нагая, грозная дева Светлого Града.
В лунном голубом сумраке белые гибкие руки ее смыкались над качающимися кудрями, рассыпанными по плечам и груди черной волной. Нежное тело лило на хвою таинственный свет.
Ницые обормоты и сатанаилы, завидев пламенников, бросились вроссыпь. Только согнувшийся, оборванный Вячеслав с толстой какой-то книгой под полой подрясника, семенил за Марией дробными шажками.
Мария, завернувшись в черное покрывало, пошла молча к громаде.
– Кто ты? – гудели мужики, встречая ее…
– Я – дева Града… – откликнулась она…
Из черного узкого расщелья под ноги ей выполз вдруг хитрый и загадочный гад. Как два раскаленных угля, горели два зеленых зрачка. Проворно и зорко, юля под кустами терновника, пробиралась утлая сплюснутая голова.
Кто-то ступил на голову взвившегося гада.
– Не тронь! – задрожала Мария. – Прости и прими.
Под порывами хлынувшего с озера ветра вздыхали над берегом вековые дубы. Ухали и гудели внизу яростные волны.
– Я все простила и приняла… – подойдя к Крутогорову, дотронулась Мария до его плеча нежной рукой. – И тебя, мой браток, простила…
– А отца? Он ушел в низины…
– Отца? Ему надо нас прощать, а не нам его…
– Ты… увидела? – долгий взгляд Крутогорова прошел сквозь душу Марии, как луч солнца сквозь тучу. – Увидела, что никто не виновен в зле? Не будь зла, люди не стали бы искать Града… Ради Града отец прошел через зло вольно… Я – невольно… А те, что погибли во зле и от зла, – вехи на пути к Граду… Смерть матерей и гибель сестер слили низины и горнюю в единый Светлый Град!..
Радостные и светлые широко раскрыла Мария черные, бездонные свои глаза:
– Всепрощение!
– Всепрощение!
Перед Крутогоровым встал встопорщенный, темный Вячеслав. Толкнул его в грудь:
– А ты меня простил? Всех простил, а меня нет… И Гедеонова – нет…
– Тебя я простил… – сказал Крутогоров.
Вячеслав онемел. Кому-кому, а себе прощения от пламенников он не ждал… И теперь не верил, что его простили и отпустили.
– К-ка-к? А сжигать меня на костре не будете?.. Ать?.. – нудовал он.
И вдруг поверил. Выхватив в суматохе из-под полы старую обглоданную крысами книгу, упал на колени, каясь перед Крутогоровым сокрушенно:
– А я – то – смерд! А я – то – дьяволово семя… Все хулю! Все пакостю! Не прощай меня, Крутогоров. Недостоин бо есьм… Я гадов сын! Не веришь?.. Вот! Тут в метриках записано все… – трепал он книгой, распростираясь в прах. – И Михайло с Варварой – тоже гадовы дети… покойники… И Андрон… покойник… Ать?.. Отец наш – Гедеонов… От княгини мы… незаконные… Тайком… Тайком в монастыре крестили нас… Дух…
– Всепрощение… – наклонилась к Вячеславу грустная в голубом таинственном свете Мария.
Но Вячеслав, ползая перед молчаливой громадой на брюхе, маялся в смертной нуде и рвал на себе волосы и скулил:
– Жгите гадов!.. Крушите… Я всегда был… за мужиков… Колесовать нас мало!.. Сколько он, дьявол… батя-то, людей поперегубил!.. Женил брата на сестре… и сам жил с Варварой… с дочкой-то со своей, как с женой… А я?.. И Андрона, брата своего, убил! и сколько перегубил невинных я! Вот – кто я, окаянный. Решите меня! – маялся он, стуча себя кулаком в грудь исступленно. – Я хулил вас, радовался, что скрыл от вас тайны… Теперь – открываю все… Вот: тьмяная вера была выдумана им же – батькой! И Тьмяный, думаете, кто это?.. Он же, Гедеонов!.. Вот!.. Дух живет где хочет… Я, понимаешь, всегда за мужиков…
– Ну… прощен… чего ж! – тронулась громада. – Вперед! Эк его разобрало…
Светлое подняла в вороненых кольцах лицо свое Мария. Проводила Крутогорова грустными, жуткими глазами.
– Одна я на свете!
– С тобой солнце Града, – полуобернувшись, остановил на ней долгий ночной взгляд Крутогоров.
– Но ты уходишь… – грустила Мария веще, склонив голову. – Зачем ты поднял мир? Всепрощение!
– Нет всепрощения без гнева. Нет любви без ненависти! – отступал уже грозный, озаренный неприступным светом Крутогоров. – Слышишь гул?.. эта ночь – ночь гнева и света!..
Громады, вздрогнув, развеяли гордые знамена – рвущиеся за ветром вестники бурь. Необоримой стеной двинулись на белый гедеоновский дворец…
В селе, разбуженном шумом знамен, гулом земли и победными кликами, селяки, наспех одевшись и захватив топоры, сливались с громадами. Из растворенных настежь хибарок, словно листья, гонимые ветром, сыпались и дети, и старики со старухами, накидывая на ходу куцынки, зипуны и кожухи, крестясь и вздыхая:
– Вот когда земля! Вот когда возьмем землю! Земля – и все тут!..
Над озером распростирались смятенные ивы, вторя гулу знамен, взбиваемых ветром. В ночных волнах, вспененных прибоем, качались, рассыпаясь золотым дождем, багровые отсветы факелов.
В вотчине Гедеонова зловещая поднялась тревога. Люто залаяли на цепях псы, забили в чугунные доски дозоры… По углам каменной ограды вспыхнули сторожевые огни…
Полки, освещенные факелами и сторожевыми огнями, медленно и грозно текли по слепой, широкой столбовой улице. За хибарками, в логах, темнота, словно смертельный яд в кубке, бурлила и плескалась через края, заливая свет. Налетал ураганом ветер, воюя с ветлами, и поздняя заря горела за садом, будто кровь.
В тумане завыл расколотым зловещим воем старый набатный колокол. Заметался и полетел над дикими нолями и лесами жуткий вопль, крик и призыв гневной души, клич, смешанный с кровью…
А по перепутанным переулкам, по подзастрешечью хибарок, пригинаясь и ползая на брюхе, словно черти, рыскали и юлили дозоры и следопыты Гедеонова…
В свете луны, звезд и лампад перед криницей с распятием мужики остановились: дорогу пересекли черкесы.
Грозно и жутко молчала громада. Только гудели над озером ветлы да хлопал знаменами и свистел ветер. В сумраке черные фигуры черкесов, изгибаясь, лязгали уже о седла шашками; рассекали воздух длинными арапниками.
На горячем, борзом коне выскочил в красной черкеске Гедеонов. Припав к седлу, впился в шумящую громаду острым темным лицом:
– Ага, мать бы… Пони-ма-ю!
– Тащи его с седла, катагора, лярву!.. – вздыбились задние ряды. – Обухом его по башке!
И вся громада, вздрогнув, двинулась крепкой стеной на Гедеонова. Но его вдруг заслонили черкесы, выстроившись на диких вспененных конях перед мужиками, со вскинутыми наотмашь обнаженными шашками.
– Спаситель! Заступись! – крикнул кто-то в молчаливой толпе.
– Жиды – трусы… – гнусил глухо Гедеонов, скрываясь за черкесами… – и дурак тот, кто их просит… ха-ха-ха! Иисус Христос – жид…
– Он мир спас!.. Гад ты проклятый!.. – ярилась толпа.
– Мир спас, а одного человека… с которым жил, учил – не спас?.. – покатывался со смеху помещик. – Иуду-то? Боялся вызвать душу его на поединок?.. О Господи Иисусе, прости меня, окаянного!.. Жаль, не при мне распинали…
Полки, глухо ахнув, подались назад. Ощетинились вилами, дрекольями, топорами. А в них с разгону дикой лавой врезались вдруг рычащие черкесы…
В воздухе зажужжали камни, зазвякали топоры, зазвенели косы, скрещиваясь с кинжалами и шашками…
– Кр-ру-ши-и!.. – гремели мужики: – Ру-б-би-и!..
Перед криницей с распятием валы хриплых, отягченных тел в бледном свете луны сцепились в смертельной и жуткой схватке и застыли: увидели, что всем – конец. И, приняв его, подняли ужасающую и лютую сечу…
Кони, вздыбившись, с диким храпом опрокидывали всадников и падали, посеченные. Глухо звякали и стучали о кости топоры. Свирепые коренастые бородачи, напориваясь на кинжалы, грозно и страшно вскидывали руками, хрипли предсмертно… Но и расплачивались с черкесами равной платой смерти.
У ограды Гедеонов, топча разъяренным конем сбитых с ног стариков, хлестал направо и налево нагайкой, рычал глухо:
– Сотру в пор-рошо-к, мать бы…
– Г-а-а-д! – жутко прорвалось откуда-то.
И емкий камень гукнул в грудь Гедеонова тяжко.
Ухватившись за сердце, грузно упал под ноги разъяренному коню Гедеонов.
Над кучей тел встал вдруг высокий согнутый старик. Подбираясь с занесенной кривой косой к опрокинутому Гедеонову, ядрено крякнул:
– Ну-к-ко, под-держи-сь… Нуко-о, приподыми башку…
Гедеонов, часто и трудно дыша, судорожно выхватил из кармана короткий тупой револьвер и выстрелил в упор в старика.
Нелепо раскинул тот корявые, скрюченные руки и грохнулся навзничь.
– Х-ха-а!.. – хрипел и рычал Гедеонов.
– В пор-рошок, мать бы…
За криницей вздымались и ложились костьми человеческие валы в адской битве. Люто рубились пригнувшиеся, извивающиеся змеями черкесы, не уступая мужикам и пяди земли. Но вот громада, развернувшись, полохнула черкесов боковым ударом и опрокинула их под гору. Оттуда глухие доносились хрипы: шла последняя резня.
Топот, стальной лязг скрещивающихся сабель, кос и топоров смешивались с ревом и хрипом остервенелых черкесов. Мужики же бились молча.
– А-а!.. – подхватился в горячке Гедеонов. – Не берет?.. Поджигать!.. Скор-ее!..
А его уже оцепляли окровавленные, свирепо сопевшие и неумолимые мужики. Гулко плевались в руки, целясь в него топорами…
Подоспел Крутогоров.
Гедеонов, закрыв лицо рукавом, подполз к Крутогорову:
– Прости-и…
Обхватил судорожно его ноги, трясясь и стуча зубами.
– Я сам себя проглотил… Я, железное кольцо государства! – взвыл он. – Да и… иначе и не могло быть…
– Ну… што ж? – грозные протянулись руки мужиков. – Што за комедь?
Ясные поднял Крутогоров в таинственном звездном свете глаза:
– Вы пришли в мир, чтоб гореть в солнце Града… А чем лютей зло, тем ярче пламень чистых сердец!
В рыхлой, шелохливой мгле насторожились мужики, как колдуны на шабаше, уперлись носами в густые, дикие, сбитые войлоком и развеваемые по ветру бороды. Нахлобучили на глаза шапки. Заткнули топоры за пояс, косясь в лунном сумраке на застывшего в ужасе Гедеонова и ворча:
– Знать, и гаврики льют воду на Божью мельницу?
А Гедеонов, точно комок, перевернувшись в горячке и упав к ногам Крутогорова, стучал загнутым костлявым подбородком оземь, хрипел глухо:
– А-га-х!.. Прости-и!.. По человечеству!
Из-за разорвавшихся над белопенным озером, рыхлых, опрокидываемых ветром туч вынырнуло бледное жуткое кольцо луны и облило зеленым сном сады, срывы, смятенные человеческие валы под горой, мертвые раскинувшиеся тела и среди них, в цепи бородачей, темно-красную черкеску Гедеонова.
– Переходи к нам… – веяли на Гедеонова дикими бородами мужики.
– Я? К вам? В пор-рошок, мать бы…
Зашабашили бородачи зловеще. Угрюмо и неотвратимо напосудили топоры, молча пододвигаясь к подхватившемуся вдруг Гедеонову:
– Ну… выгадывай…
– Пощадите… – жалобно заныл генерал.
И забился в горячке немо. Под бледным неживым огнем луны полы и рукава черкески трепались, как крылья мертвой птицы. По впалым зеленым щекам черная текла запекшаяся пена, будто заклятое колдовское снадобье.
– Отпустите… ду-душ-у… на покаян…
Крутогоров, подойдя к нему, наклонил голову:
– Русский парод не только народ гнева… но и народ всепрощения…
– А-га-х!.. – рыгал Гедеонов кровавой пеной. – Не-е-эт…
И, подхватившись, точно на крыльях, развевая полами черкески, помчался наискось, под гору. Плюхнул в ивовый куст проворно.
И, пригинаясь под ивняком, уже карабкался, точно кошка, над обрывом к хате плотовщиков, смутно светившей в ущелье, на песчаном откосе, красным окном. Но вдруг, сорвавшись, с грохочущим корнистым оползнем покатился вниз, к ухающим вспененным волнам.
Под обрывом, у берега хлопал и скрипел привязанный к березе плот из обаполок. Засыпанный песком и заваленный хворостом Гедеонов, выкарабкавшись, помчался к хате плотовщиков шибко и отчаянно. Но навстречу, от хаты, выползали из засады свирепые обормоты… Тогда Гедеонов, вернувшись, с разбега вскочил на плот, обрубил кинжалом веревку. Подхватил шест и, отодвинув плот от берега, поплыл, гонимый ветром и волнами.
Полная луна, выплыв из-за нагромоздившихся, словно горы, туч, обдала белым ярким серебром черный, захлестываемый волнами плот и согнувшегося, прыгающего дико по разъезжающимся доскам Гедеонова с длинным шестом.
Лунный шалый вихрь, подвернувшись, взрыл ворчливое, рябое озеро, захватил плот. Обаполки закачало дикими волнами, раздвинуло…
Провалился Гедеонов меж скрипучих набрякших обаполок. Застрял в них головой. Хряско под гул волн забился и захрипел…
Ухало озеро. Качала плот вспененная, пьяная рябь. Хлюпали и скрипели остроребрые обаполки, оттирая защемленную меж них, облитую зеленым светом луны и захлестываемую волнами круглую голову Гедеонова…
Мужики рубились.
Под гул набата, лесной шум и смутные крики громад Мария пробралась с сатанаилами и обормотами в глухой, заколоченный сруб, в конце села, в старом дублистом саду. Заперла за собой крепкую тесовую дверь наглухо.
И открыла отверженцам великое свое сердце.
– Прокляли меня все… Как же ж мне быть?.. Помогите мне, злыдотнички. Как бы-ть?
И зарыдала неудержимо:
– Одна-а я на све-те…
В темноте Вячеслав, зажегши огарок, прилепил его к подоконнику. И закрутился, согнутый, по пустой полусгнившей хате. Завыл, точно бешеный волк, став на корячки:
– Кончено!.. Недостоен бо есть… и смер-ти! У-у-г… Жизнь отдал… гаду… Думал, богу служил… А вышло – смерду!.. У-у!.. Подметке!.. Смерть моя!..
Подполз к Марии ничком.
Охватил ее ноги:
– Конец мой!.. О-о-ох!.. Любил я тебя… Марьяна, до сме-рти!.. Дух живет… где хочет… Выше всех считал я… себя-то… Думал, сын Тьмяного!.. Сын бога! Ха-а!.. Гнус и!.. Недостоин бо есмь… и взглянуть… Великий род твой, Марьяна! Воистину божественный род! А я… Ко-не-ц!.. Все-о рухнуло!..
По углам при мертвом желтом свете свечи кружились уже в зловещей пляске смерти, дико водя круглыми совиными зрачками, сатанаилы…
Хрипло Вячеслав выл, распростертый в прах. Оглушенные воем, пятились немо в порог, приседали на корячки обормоты…
Бледный какой-то, с синими кругами у глаз послушник, смеркнув под красным кутом на жутком свете свечи жженым кудрявым золотом, ахнул тонко и нудно:
– А-а!.. Веревку-то и забыли… Постой…
Пошарив в карманах, достал крепкий шнур, сложил его в петлю. Вскочил на стол, прицепил наспех к крюку. И, просунув кудрявую жженую голову в петлю, вывернул дико круглые, вылупленные, налитые кровью белки:
– Эй, толкайте стол… и квиты!.. Порадуем Тьмяного!..
Вячеслав, расползшись как-то, обхватив красными волосатыми руками голомшивую голову, глядел узкими загноившимися прорезами на мертвый язык свечи и выл протяжным, безнадежным, диким воем.
– Сколько… душ спасено?.. – угрюмо гукнул из угла какой-то пузач.
– Не виляй… – ощерились на него смертные плясуны. – Должать должал Тьмяному… А теперь вилять хвостом?.. Зачинай хвалу!
Вдруг кто-то потушил свечу. В нудной тошной свалке полегли сатанаилы и захрипели хвалу черному царю, зловеще и глухо… Дух захватывало, и заходились сердца от жути смертной, от немого хрипа…
И вот все смолкло. В густой тьме полезли монахи по лавкам, по стенам, шаря около гвоздей и крючков, с разорванными рубахами.
– А-а-х! Что ж это! – всплеснула в темноте руками Мария. – Братцы мои!
– Ко-не-ц!.. – прохрипел Вячеслав тупо и дико.
– А Град?.. – запылала Мария. – Как же так?.. А Христос?.. Чуете – псалмы поют?.. Слышите звоны?.. Видите свет невидимый?.. Это солнце Града взошло! Идите же за мною в Град!.. – кликала она, вся – трепет, вся – огонь. – Браточки мои! Поцелуемся!
– А на костре нас там… не сожгут? – загудела толпа в темноте. – В Граде-то?..
– Недостойны бо есмь!.. – хрипел и маялся Вячеслав. – Аль пойти?.. Ать?.. Дух живет…
И вдруг заликовал, горя:
– Марьяна!.. Све-т!.. Све-т!.. Гляди, в окнах свет!..
В сплошном сумраке, чуть прорезываемом сквозь щели заколоченных окон зелено-алым светом луны и зорь, к пахучим, мягким Марииным кудрям в сладком священном трепете припали монахи, ликующе крича:
– Веди, заступница!..
В саду за сенями росли глухие гулы и трески.
В тревоге открыли монахи запертую наглухо дверь сруба. И застыли.
Отовсюду на низкие черетняные сети ползло свирепое, жуткое, буйно-смятенное пламя, облившее сараи, плетни и стены сруба запекшейся кровью…
Монахи, на чьи искаженные смертным ужасом лица кровавый лег отблеск гудящего огня, отшатнулись от двери и сбились кучей в углу сруба.
А пламя, охватив сени и сруб, перебиралось на тесовую дверь ревущим, бушующим ураганом, заплескивало багровыми косицами притолки.
В хату забил дым, застилая груди чадом и жаром. Сбросив с себя одежды, выпрямилась Мария неподвижная, строгая и грозная, глядя в глаза огня, охватываемая алыми его поясами.
– А-а! – раскрыла она черные, без дна, глаза. – Бери… Огонь! Бери!..
Упала ниц, так, что обожженные вороненые волосы ее разбежались по груди и плечам пышными волнами. А в бело-розовое крепкое, гладкое, словно выточенное из слоновой кости, тело кроваво-красный впился свет огня, захлестнувшего стены.
– Брата люблю! Бога! – билась Мария. – Как же мне разлюбить?.. Радость пришла! Солнце!..
Полуобернувшись, обжигаемая огнем, подняла безмерно раскрытые, бездонные глаза на окаменелых, строго молчаливых сатанаилов и обормотов, черных от жуткой смерти. Кликнула клич:
– А-х! За мною!.. Слышите звоны?.. Чуете песни?.. Радость пришла!.. Солнце обрел мир! А-х!.. Целуйте!..
Гудели и ломались под напором огня сени. Дикий вихрь остервенело рвал с крыши пылающие черетнины, бросал в залитые огнем окна.
Наддавшая буря обрушила стропила, латы и втулы. По разломанным простенкам, по вздыбленным и обугленным дрекольям кроваво-красная ползла гора, ревя, как тысячеголовое чудовище, забивая смертными валами окна.
В огне метнулась опаленная Мария под кут, полосуемая ножами пламени. Подняла глаза и сердце:
– Радость!.. Здра-вствуй!.. Солнце!..
За нею, упав на колени, подняли сердца и длани сатанаилы. Вячеслав, трясясь, задыхающийся, распростертый в прахе, забился в предсмертном бреду. И из груди его мутная вырвалась, безнадежная мольба, о чем – чернец не знал и сам…
– Не от-ры-ни!..
– Родные мои!.. Браточки!.. А… А… – задыхалась в дыму Мария.
Гудящий огненный ураган захлестнул все, круша и беснуясь. В дверь, в окна, цепляясь за втулки, били валы адова огня. Трещала и ломалась крыша.
В горячке Вячеслав, заползши под печку, хрипел одну только мольбу смерти:
– Не отвергни… Марь-я… на…
Смутно, словно сквозь сон догадалась Мария, придушенная огнем и дымом… И всем трепетным, обожженным телом, рванувшись туда, откуда шел Вячеславов хрип, распласталась, светлая и багряная, как бесплотный дух…
А Вячеслав в буром едком дыму, сжимая судорожно старый переплет, разгадывал древний вещий сон:
– А как же… Гедеоновский… дьяволов род наш?.. Гадово семя?.. Што это… такое?.. А-ть? Ду-х… а…
Сине-бурый, смрадный огонь искромсал его, проглотил. Перед вспыхнувшим, точно факел, сердцем земная юдоль черный развернула свиток. Слизлая, блудная юность, темный, бездомный омут пыток, смрада; поруганная и обманутая вера в Тьмяного – смерда! – чертов скит, кровавые жертвы…
Но благостный и огнезарный подошел Христос. Надел на всех светлые короны. И с нежной Марией, невестой неневестной, ввел отверженных в голубо-алый предвечный Град…
В зеленом луче звезды, пышный раскинув по плечам водопад волос, охваченная белыми шелками, сходила с горы высокая, стройная красавица с жуткими зорями и сумраками в вещем сердце.
Глаза ее были бездонно расширены и страшно. Под нитью алмазов нежная грудь подымалась и опускалась мерно, дыша темным трепетом и огнем. Густой сумрак от волос закрывал лицо ночной волной. Но синие зрачки цвели, как бездны.
Со склоненной русокудрой головой и гибкими, белыми, простертыми руками подошла она царственной поступью к Крутогорову, обдав его шелестом шелка и цветов. Густые опустила, выгнутые ресницы, дрожа, молвила строго:
– Теперь мы с тобой… квиты.
А сердце Крутогорова, пьяное от бурунов и солнц, цвело и пело. И пытало незнакомку веще и глухо:
– Где я тебя видел? Когда? В снах?.. В зорях?.. В черном свете?.. И этот гул… И ты – вещая… Кто ты?.. Чего ты хочешь? Мести?.. Гибели?.. Пыток?.. Мы дадим тебе солнце!
Гордо сцепила незнакомка руки:
– Гибель! Ха-ха! Ты не видел, как я продавала себя. Ты бы…
Голубые горние светы все еще цвели и околдовывали. И полонили сердце темным. Но вот белые ночные ветры, загудев в вершинах, развеяли чару. Вещие сны разбудили сердце, взворохнули. И Крутогоров, приблизив взгляд свой к безднам незнакомки, сжал хрупкие ее пальцы, нежные, никогда не виданные… А солнечный голос его упал горько:
– Ты знала Гедеонова?..
– С тринадцати лет… – ударила незнакомка низко и глухо. – Со мною тогда он убил свою жену… многих убил. Но я любила только тебя… Теперь… нет.
Отступила назад, не подымая сурового, скрытого сумраком лица. Точеными повела грозно плечами, шелестя шелком и сыпля алмазные искры…
– Кто меня… не любил?.. Не было на свете души, что не любила бы… меня… А ты – проклинал… Но теперь мы с тобой квиты… – шла незнакомка в лунном свете, низко опустив голову и в гордом выгибе сомкнув руки.
Крутогоров, закаляя сердце, вещими охваченное зовами, близко и жутко настиг ее. Литую поднял прядь волос с наклоненного лица ее, пылающего глухим огнем.
– Кто ты?.. – падал его голос все ниже и ниже. – Где гы меня видела? Я не поверю!.. И ты продавала себя?.. Ты, что в шелках и алмазах?.. И с вещим сердцем?..
За садом страшное полыхало багряное зарево. Над крутым срывистым берегом гудели в огне хибарки мужиков, бросая кровавые бездны в шалое темное озеро.
– Горят – счастливые! Горят! – ликовала загадочно в белом шелку красавица, повернув лицо на огонь.
Крутогоров, спеша через пышные дикие цветники к гудящим в огненной буре хибаркам, молчал странно.
Но вдруг, из-за ночных призрачных цветов, обернувшись, окликнул незнакомку:
– Кто ты?
– Люда.
За Крутогоровым и Людой, в тайне древнего лунного сада, смутно гудел, как прибой океана, ветер. С зыбких, обрызганных темными зорями вершин падали колдовские, свежесорванные цветы, шумы… И жутко и молча шли поэт и Заряница, странно нежные, овеянные чарами и песнями ночных солнц…
В зеленой звезде голубой ветер разбрасывал волосы Люды – пышные волны огня.
Сад колдовал. В глухом огне Люда, обвив собой Крутогорова, исходила темной страстью и болью:
– Не так целуешь… Ох, не так!.. Вот как надо целовать!..
Душистая и беспощадная, вскидывая шелест тугого шелка, подводила нежными горячими руками пылающие губы Крутогорова к своим пьяным губам. Исступленно, яростно, немо рыдала, пила вино любви из его губ:
– И еще… вот как!..
Жуткими жгла хмельными устами закрытые, отуманенные его глаза, сердце, сладко и больно шепча:
– Ох, и еще вот как!
Древние сны разгадывались и хаосы. И шел в бездны огонь сердец…
Крутогоров, раскрывая вещее додневное сердце, поднял Люду, загадку и страдание, и отдал всего себя ее пыткам, жадным, ненасытимым устам-цветам… А Люда, муча его безжалостно, впивалась звездным огнем в его душу, прижимала горячую голову к своей скользкой груди… И вскрикивала радостно, светло, грозно:
– Я – лесная! я – вольная!.. Я люблю тебя, радость-солнце!.. Ох, да не так целуешь!..
За садом, у синей горы, в нежном сумрачном свете зарниц цветистые степи обдали вещих шалыми волнами ароматов и бурь.
В хвойном ущелье, над озером горели хибарки. Взметаемые ветром огни, качаясь, плавали над ущельем и падали в темную хвою багряными цветами…
А с горы сплошным солнечным гулом неслись радостные, светлые хвалы, песни победы…
И из-за синих лесов грозно шло росное, ясное солнце, раздувая гул в садах Града.
Но гул садов, шелест леса, движенье победного голубо-алого света, шум ароматов, рос и цветов заглушал вещий клич поэта и Заряницы…
– Я люблю тебя… песня моя!
– Я люблю тебя… радость солнце!
Над степью таинственные плыли звоны.
Из-за придорожной черемухи вышел вдруг темный и тревожный Никола с опущенной низко раскрытой головой и взглядом неподвижным, как смерть.
– Где любят всех… там никого не любят!.. – глухо и немо прошептал он за плечами Люды.
Но и в шепоте его слышны были безумные бури и жуть.
– Только тебя люблю!.. Да люблю! Да люблю ж я тебя!.. Да смучу ж я тебя!.. О-х!.. – сжимала Крутогорова страстно огненными руками Люда. И исступленно, мудро и вдохновенно целовала его в сердце.
– А меня?.. – встряхнул кудрями Никола, дрожа и жутко смыкая глаза.
Отступил назад. Медленно и со звоном вынув из-за пояса нож, ударил им молча, точно огнем, в сердце Люды. И та с легким мертвым криком повисла на руках оглушенного Крутогорова, обильно поливая алой кровью степные цветы…
Мудрый, еще ничего не поняв, преклонив колена, благоговейно положил Крутогоров на росные, обрызганные кровью цветы Люду. Открыл вещие, полные ужаса любви глаза свои. В росном солнце лежала Заряница, царственная и светлая, как сон, отдав сердце и глаза – они были все еще сини, все еще бездонны – солнцу.
– Про-кля-тая!.. – пал Крутогоров ниц, занесенный туманом…
Но вот, прозрев, встал он. Обвел загадочными глазами степь. Николы уже не было.
И пошел Крутогоров в Светлый Град.
В Град, над крутой, в древних садах горой, зацепливаясь за башню, низкая проходила, зеленая звезда утренняя, и голубой цвел свет неведомого солнца…
С цветами и радостью победные шли мужики из дольной хвои…
Синие сады, леса, и голубые ветры, и жемчужные волны, и белокрылые ангелы на золотых парусах, изогнутых полумесяцем, пели, светло ликуя: благословенны зовы, и бури твои, и ночи, благоуханное солнце! Тебе – сны и молитвы! Воскреси! Пошли бездны, все, что заклято тобою, грозы, ужасы и тайны, о солнце, о пребожественное светило! Да будут благословенны земля, и жизнь, и сумраки, что цветут, расточая ароматы и сладкие шелесты, и поют в веках победную, огненную песнь: Солнце! Солнце! Солнце!
1910–1913 гг.






