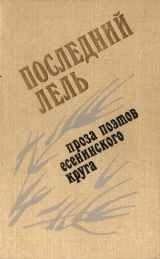
Текст книги "Последний Лель"
Автор книги: Сергей Есенин
Соавторы: Николай Клюев,Алексей Ганин,Сергей Клычков,Пимен Карпов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 36 страниц)
Сергей Клычков
ПОСЛЕДНИЙ ЛЕЛЬ
Роман
Глава перваяВ царстве синей лампады
Петр Еремеич
Смерть!
Нужна она, желанна в свой час, и нет больше муки, если смерть в свой срок долго нейдет к человеку, уже сложившему на груди руки в переднем углу.
Тогда человечье сердце томится и тоскует по ней, как некогда оно томилось и тосковало, поджидая, когда постучится любовь черемушной веткой в окошко.
Хорошо умереть, коли в головах у тебя и в ногах теплятся тихо путеводные свечи, а у дома, плечом прислонившись к крыльцу, терпеливо дожидается сосновая крышка!
Тогда смерть похожа больше на заботливую, самую младшую внучку, которая закрывает деду нежной ручкой сгоревшие веки, тогда умереть можно с улыбкой, с хорошим неискаженным лицом…
Как умирают все мужики, вернувшись с пашни или покоса!
Но ничего нет смерти страшнее, и как не ужаснуться, не облиться холодом и трепетом с кончика волосинки и до мизинца, когда над тобой беззащитным, жалким, несмотря ни на какую силищу, кажется, с самого неба занесен нещадный чугунный колун, под которым сама земля дрожит и расступается, разлетаясь пылью и прахом, тогда… ничего нет смерти страшнее, тогда если и струсишь – будет не стыдно, потому… есть ли они на самом-то деле, эти герои?!.
Или выдумали их генералы?!
Вернее, что так!
* * *
Когда немцы прекратили стрельбу, Зайчик встал и отряхнулся.
Земля даже за ворот набилась, сползая щекоткой по телу, и пробкой сидела в носу, – ничего и никого вокруг было не видно, то ли оттого, что сразу так затемнило из тучи, то ли потемнели глаза и их земля запорошила, – ни нашего штаба, ни немецких окопов на том берегу Двины, похожих на тонкую бровку над хитрым глазком, – все, все пропало, прикрытое черной пеленой предгрозовой пустоты.
Зайчику самому было в диковину, что большого страху он на этот раз под немецкими ядрами не испытал, и даже про себя теперь счастливо улыбался, сладко поеживаясь и косясь в немецкую сторону, где уже привычно для глаза то и дело с одного и того же места поднимался кверху зеленый петух – оглядит, окинет далеко зеленым глазом, лопнет, и посыплется в разные стороны отливный хвост, и видно издали, как падают в темноту топыристые перья, а из-под самых ног у Зайчика, словно из земли, выпрыгнут темные тени и… в перебежку!.. И свежие ямы от немецких разрывов с лосной, еще не обветренной землей по краям поглядят на него, как большие пустые глаза человека, забытого смертью.
Стал Зайчик в этом призрачном, неживом свете оглядываться и вспоминать, как на штаб идти, где ему нужно было выправить отпускные бумаги, да, должно быть, немец все же с разума сбил.
Проплутал он сам не знает сколько времени по низовине, часто в непрогляди спотыкаясь и падая на торчки и то забирая куда-то в сторону, то опять подходя к самым нашим окопам.
Опамятовался Зайчик, только когда сразу чуть не по колено попал в холодную воду.
В это самое время с немецкой стороны пополам разрезало небо, разворотило на обе стороны, и из черной пазухи тучи на минуту повисла вниз золотая нитка, бабахнуло, и до самых немцев перед Зайчиком зачешуилась вода, с Двины понесся шум, как будто стояла не осень, а ударил первый весенний паводок, когда на больших реках ломается лед, из земли рвутся ключи и вода отовсюду юлит, суетится бесчисленными ручейками и спешит притоками рек омыть поскорее после зимней спячки земное лицо.
– Вода?.. Откуда тут вода? – схватился Зайчик за сердце.
До боли в глазах уставился он в темноту, и показалось ему, что вода крадется в темноте, догоняет его и вон там в стороне уже обегает его, забираясь в те самые ямки, по которым перебегал Зайчик во время обстрела.
Сорвался Зайчик и опрометью, наобум бросился напрямик, натыкаясь на кусты и деревья, в одиночку стоявшие за нашими окопами, к штабу; должно быть, только чутьем, внушенным смертельным страхом перед новой погибелью, выбрался на большую Тирульскую дорогу, по которой и попал в проливной, какого в жизни своей еще не видел, ливень все-таки куда надо – на станцию.
Никого не расспрашивая и уже не думая о бумагах, мокрый до последней нитки, вскочил Зайчик в товарный вагон и еще затемно укатил с одним приказом в кармане и солдатскими письмами за обшлагом.
Странное состояние было в дороге у Зайчика.
Сразу, когда он повалился в кучу храпевших отпускников, его бросило в жар, даже пригрезилась отцовская баня и покойная бабка Авдотья, со всего размаху бившая его голиком по горящим лапостям, а проснулся, и… как ни в чем: обсушился солдатским теплом, и только в голове туманило и ныло в затылке.
Потом всю дорогу шутил с солдатнёй и делал все, как и надо быть человеку с мозгой и смекалкой, деньги, какие были, зря не бросал, сдачу проверял и хоть натыкался неловко на людей и смотрел на них мутными, чудными глазами, а все же благополучно добрался до нашего уездного города Чагодуя, где и нанял Петра Годового, чертухинского троечника, у которого в ин-поры пятнадцать лошадей в Чагодуй ходило, а из Чагодуя куда только тебе надобно!
* * *
Вскочил Зайчик в кибитку, в кибитке сено набито в сиденье, покрытое дерюгой из цветистых тряпок, внутри коленкором или ситцем с набивными птицами бока и верх околочен, и на ноги застегнут кожаный фартук, чтоб седока не марали ошметки с дороги:
Сиди как за пазухой!
…И Зайчик сидит, заправивши руки в рукава, и в глазах у него – оттого ль, что попал к Петру Еремеичу в тройку, оттого ль, что перед глазами побежали родные места, – прочистилось, словно разошелся туман и так далеко-далеко просветлело…
В глазах замелькало село за селом, за деревней деревня, и вертится поле в глазах, как в нашем Чертухине в Ильин день карусель.
У карусели синяя, из синего атласа, крыша, по карнизам висят осенние быстрые тучки, как будто и впрямь размотано кружево с большого мотка и привешено низко над желтой жнивой, над лесом, лежащим вдали золотою каймой, над прозеленелым покосом – над черной, с лосниной на солнце морщиной мужицкой кривой борозды…
Крива борозда от мужицкого плуга, как крива и морщина на лбу с бисеринками пота – от думы, висящей, как птица за кормом, над этой кривой бороздой!..
Кое-где промелькнет вдали бугорок, покатый увал, едва заметный для глаза, как девичья грудь под рубашкой, а то – все равнина, равнина, равнина, а как поглядишь в эту равнинную ширь, и глаз не хватит, потому что конца ей не видно и нет.
Проезжал нашим полем когда-то большой богатырь но прозванью Буркан – сын мужичий, потерял он, должно быть, на Киев дорогу, а ехал из города Твери, – проезжал по нашему полю и в поисках верной дороги поднялся на стремя: хотел его край увидать, и не мог богатырь дотянуться до края глазами и полевую даль, Чертухино, наши покосы и поймы от всей души похвалил!
– Последний разок посмотрю, побываю, а там, может, закаюсь навек!
Луга покошены, нивы пожаты, и только кое-где, как диковину, увидишь средь сжатого поля кресты из снопов, стоят они солдатской шеренгой, расставивши ноги, и то ль их солдатка увезть не успела, то ль с горя, что мужа забрили в последний набор, об них позабыла совсем… стоят они, поджидая хозяйку, и с краю полос возле них – недожатый клин, свалявшийся с ветру и прибитый дождем, как грива на лошади, на которой катался всю ночь домовой.
«Идет на урон сторона, – думает Зайчик, глядя на эти кресты и на полосные борозды с краю, – идет на урон».
– Луга-то, Петр Еремеич, убрали? – кинет Зайчик вопрос на подъеме – когда ямщик дает лошадям отдохнуть.
– В сарае! А сено нонешний год такое – только и есть самому!
Петр Еремеич ответит, спину ни накось, ни вбок не свернет и вожжи из рук ни на минуту не пустит, и спина перед глазами у Зайчика на облучке как щит широкий и крепкий, который разве на большом ухабе качнется вместе с кибиткой, а так – ни туда ни сюда!
Петр Еремеич ответит, только голову из ворота вытянет, повернув длинную шею, как гусь на кота:
– У нас, Миколай Митрич, теперь сено возят на бабах!
– Ну, скажешь ты, Петр Еремеич!..
– А ты что, не веришь?.. Мужиков да коней позабрали, остались кобылы да бабы!
– А как, Петр Еремеич, ты уцелел?..
Зайчик смеется, и Петр Еремеич чуть-чуть.
– Да я – то по косому объехал, кого на тройке, кого на катюхе гужом!
– Ладно, Петр Еремеич: хоть ты со скотиной!
– Ходят слушки, что скоро все заберут! Последняя!
Свистнет, ударит вожжой коренного по круглому заду, кибитку сразу так и сдернет с места, как будто оторвет от земли, а Петр Еремеич вперед протянет обе руки и вожжи напружит – всполохнутся и запоют колокольцы, и задымятся хвосты у пристяжек…
…И кажется Зайчику, что Петр Еремеич с такой широкой спиной, с плечами во весь облучок, с такой нарядной курчавой кромкой под войлочной шапкой, что совсем он, совсем не ямщик, а старинный, чудесно воскресший гусляр, который присел на дороге средь поля и в обе руки бьет по четырем туго натянутым струнам невиданных гуслей!..
…И слушает Зайчик его, и слушает поле, и поле как будто вот, подобравши зеленый с желтым разводом подол, начинает кружиться, кружиться, и кружится лес за полем, поодаль, и машет вершинами желтых берез на опушке, и хлопает будто в ладоши, ссыпая с них ворохом желтые листья; сидит крепко Петр Еремеич и только слегка перебирает ременные струны!
Эх, черт бы совсем распобрал, Петра Еремеича нет, а тройки вышли из моды!
Теперь, как слезешь с чугунки, так прямо-прямехонько – в лес; вытеши палку потолще да посукастее, чтоб не разлетелась об воровью башку, просунь промеж ног, да и трогай! Хочешь шажком, а коль очень уж спешно, так можно с притрухом: ты сам себе кучер и конь!
Эх, Петр Еремеич!
Чертухинский туман
…Нагрянул Зайчик в побывку, заранее даже и вести не подал.
В аккурат как-то под вечер все чертухинские солдатки так к окнам и прилипли, еще издалека заслышав, что Петр Еремеич кого-то везет, за грудь держатся, без платков бегут на крыльцо, наплевать, что в углу ребятишки горло дерут: все вестей ждут от своих не дождутся!
Прокатил Петр Еремеич из конца в конец по Чертухину, инда только пыль на подсохшей дороге поднялась, и так никто и не разглядел хорошенько, кто это за пылью в кибитке.
А Миколай Митрич, радостный, светлый, словно видит впервые родное Чертухино, всем рукой машет и трясет боевой фуражкой, раскланиваясь, как именинник.
Встала тройка, словно в землю вросла, у самой что ни на есть лавки Митрия Семеныча Зайцева, так что коренник уперся высокой дугой в застреху домового крыльца; тут только и догадались, кто это нашим солдаткам в кибитке прибластился, бегут со всех концов, словно опоздать боятся, словно гость так завернул, на минутку, а вот маханут кони хвостом у крыльца, и поминай его опять как звали, – живо у крыльца бабы и девки сгрудились, локотками подперлись, то и дело ни с того ни с сего хватаясь и утирая глаза.
Вышел Митрий Семеныч на галдарейку, бороду гладит и не верит глазам, что сынок приехал, больно уж, де, не ждали да не чаяли!
Сестра Зайчикова, Пелагушка, из окошка высунулась – вот-вот упадет, а мать Фекла Спиридоновна как выскочила на крыльцо простоволосая, увидала, что Миколенька из кибитки вылезает и саблю в руке держит, так и уронила голову, как срезанную, в кубовый передник и на все Чертухино заголосила от избытка чувств.
Митрий Семеныч народ растолкал, бросился на Зайчика, словно бить его хочет, будто это и не Зайчик вовсе, – подбежал к нему с лицом страшным и радостным, положил ему голову на плечо и тоже заплакал…
* * *
Зайчик, как вошел в избу, в угол помолился, отвесил всем по поклону, и так, кажется, и поплыло все у него из-под ног, голову вдруг сильно закружило.
– Собери мне постель, матушка, в горнице, – сказал он Фекле Спиридоновне, – больно я уж умаялся.
Фекла Спиридоновна пугливо посмотрела на сына и побегла с самоваром за печку, а Митрий Семеныч мигнул Пелагушке на горницу.
– Сынок… ах, сынок, да господи боже!.. Вот уж не чаяли!
– Обыдёнкой, батюшка, вышло… я и сам-то не думал!
Постелила Пелагушка кровать в передней избе, а Митрий Семеныч чайный стол на маленьких колесиках к кровати подкатил.
– Ты, – говорит, – Миколенька, лежи, отдыхай с дороги, а мы с матерью около тебя посидим, чайку попьем да на тебя посмотрим: в кои-то веки видим тебя живого, слава богу, да в полном здравии… В последние разы ты и писем-то не писал… а ведь что не надумаешь!
– Пристал я, батюшка, что-то, – тихо говорит Зайчик.
– Ну, если и пристал малость, – прибавил Митрий Семеныч, поглядевши пытливо в какие-то странные глаза сына, – так у матери под юбкой живо отудобишь!
Ощупал Митрий Семеныч Зайчика всего с головы до ног дометливым стариковским глазом: ничего по-прежнему, на вид вроде как здоровый, ладно сшитый паренек.
– Отудобишь, – довольно решил Митрий Семеныч.
– Отудобишь, отудобишь, Миколаша, – радостно говорит Фекла Спиридоновна, внося самовар в горницу, – смотри, Миколенька, как наш старик-то старый тебе обрадовался: только успела отвернуться, а он так потолок весь паром и обдал!
Зайчик в кровати ноги расправил, чистое белье, словно перушком, тело замоделое гладит, от подушки травой-мятой пахнет, – лежит Зайчик как барин и матери – улыбается.
– Матушка ты моя милая, если б ты знала, как я по вас соскушнился!
Митрий Семеныч в середку стола сел, Пелагушка за самовар спряталась, а Фекла Спиридоновна расставляет на стол чашки, голубые любимые Зайчиковы кумочки, – похоже сейчас на то, что мать с чердака молодых голубят принесла в переднике, сейчас их пшеном кормить на столе будет…
– Сынок… сыночек мой!
Митрий Семеныч на блюдечко с золотым обрезом горячего чаю налил, локтем руку с блюдцем подпер, на блюдечко дует, а сам все на сына глядит – все глазам не верит – да блюдечком бороду закрывает, чтобы кто не разглядел, как по бороде нечаянная слеза катится.
– Жарко… инда потом пробило, – говорит он, заметив, что от жениных глаз скорей кошелек спрячешь, у самой Феклы Спиридоновны глаза помаргивают и теплятся, удерживая радостные слезы: не любил Митрий Семеныч глядеть, как другие плачут…
– Полно тебе, Митрий, седни и печь не топили, – тихо говорит Фекла Спиридоновна…
Митрий Семеныч через блюдце посмотрел на нее: дескать, дура!
– Что, Миколенька, каково на хронте? – спрашивает он сына твердым голосом, этой твердостью так и хочет Фекле Спиридоновне намекнуть: ошиблась, матушка, это у тебя глаза на мокром месте, по делу и по безделью всегда за глаза хватаешься, нельзя сапогом под бок ткнуть, а я слезой исхожу, только когда лук в тюрю режу. – Мы к газетам тут не больно привышны! Да к тому же и врут больше того!
– Мы, батюшка, теперь почитай что на мирном положении, в позиции и в глубоких окопах под блиндарями… только вот вши больно едят, а то бы – все ничего… редко кого убьют ненароком!..
Фекла Спиридоновна – в передник, Пелагушка – за самовар.
– Это они, Миколенька, от страху заводятся! – говорит мать из передника.
Митрий Семеныч строго на передник смотрит, словно так и норовит без слов растолковать понезаметней: да не суйся ты, дура, когда тебя не спрашивают, если ничего не понимаешь, у человека чин как-никак, на плечах эполет с синей дорожкой, посередине с черной звездочкой, а ты о страхе каком-то канитель заводишь, – знай, дескать, передник, свое дело: ухваты да клюшки, пироги да ватрушки!
И трудно почему-то Зайчику признаться, что мать правду сказала.
Не потому, конечно, что хронтовика такого хотел из себя дома на печке изображать, а потому, пожалуй, что страху этого сам по-настоящему не раскусил и по правде не знал, что он-то сам, храбрый или трусливый.
– От поту вша заводится, – строго сказал Митрий Семеныч.
Фекла Спиридоновна села за стол и оглядела мужа неразумными глазами:
– Полно, Митрий, уж то ли не потеет человек, когда землю пашет, а никогда и вошка от такого пота не укусит!
– Ну, разварилась картошка: сама с себя шинель скидает, – намекнул опять Митрий Семеныч, по мужицкой привычке не говоря всего спряма, но Зайчик понял с одного слова.
– Выпусти-ка, – говорит он, – матушка, меня с кровати слезти… Чтой-то я, приехал, а и на двор не выйду, на скотину не гляну…
– Поди, поди, – говорит Митрий Семеныч охотно, – поздравкайся!
* * *
Вышел Зайчик в одном исподнем в сени, а за сенями тут же двор, большой, широкий, под князьком на лохмотах соломы паутинка висит, и в ней играет вечерний хилый лучик, скользнувший сверху из слухового окна, через которое голуби летают, на дворе корова Малашка стоит у яслей, сено по целой рукавице охаживает, а рядом с ней мерин Музыкант – уши расставил, и оба на Зайчика смотрят: молодой хозяин приехал!
Музыкант даже, показалось Зайчику, из темноты головой мотнул, словно, как и надо быть, с ним поздоровался…
Смотрит Зайчик, в углу петух на шесте: привстал, на ногах – сапоги желтые, на голове – корона царская, тоже на Зайчика глядит, и кажется Зайчику, что петух немало диву дается, что Зайчика видит: как это, дескать, такое выходит?..
Потом, видно, решил, что это он, петух, в своих петушьих расчетах сбился да спутался на старости лет и что так на самом-то деле и надо, чтобы Зайчик сейчас стоял тут, у лесенки на накат, на котором по этому лету куры цыплят высиживали, стоял тут в полутьме и его сапогами любовался, – решил и вдруг громко захлопал крыльями: лоп-лоп-лоп-лоп-лоп, и так запел, как будто Зайчик и не слыхивал до сей поры, как деревенские петухи поют.
Прислонился Зайчик к лесенке, смотрит на то место, где он в детстве на перекладине домового видел, и думает сам про себя, куда это он за эти годы девался, даже и следка от его копытца в Малашкином шлепке не видать, – постоял так да и стоять до утра бы остался, вдыхая в себя коровью теплоту, смешанную с вкусным лошадиным потком, если бы не тронул его за плечи сзади отец и не сказал ему строго, будто Зайчик маленький и в чем-то уже успел провиниться:
– Иди-ка, Миколай, в горницу… да ложись спать в самом деле, завтра наговоримся!
Вошли они в горницу, смотрит Фекла Спиридоновна на сына: глаза красные, словно кто в них соли там в темноте насыпал, под носом помокрело…
– Ложись, ложись-ка – эк тебе глаза-то пылью, должно, с дороги набило… а я с радости и не заметила даве, – ложись со Христом… Ложись!
Засуетилась было Фекла Спиридоновна, но Митрий Семеныч отвел ее от постели рукой: дескать, убирай чашки и не верещи попусту – все равно фефя галицкая и что к чему не понимаешь!..
* * *
…Зайчик остался один…
Пелагушка, пока он до ветру ходил в сени, снова пышно взбила перину, а в углу затеплила у самого носа Миколая-угодника две синих лампадки…
Такой от лампадок свет сразу пошел тихий да мирный, так тихо, словно боясь, что его услышат, сверчок зачиркал из-за лежанки, выставившей брюхо в темном углу…
…И поплыла в горницу тишина, как молоко густое, будто на всем белом свете теперь только и есть, как этот сверчок с ленивой песенкой да он, Зайчик, – и как-то сразу после первой же сверчковой песенки на все тело Зайчика напала истома, а по рукам и ногам поплыло тепло: будто Зайчик, как бывало в старое время, когда у отца еще лавки и избы этой большой не было, а стояла у них на заднем выгоне лачуга о двух окнах у самой земли, в которой дождик всегда шел гораздо дольше, чем на улице, – вылез сейчас вот, напарившись перед праздником всласть пахучим веником, из пузастой печки и теперь лежит на ней, разбросавши руки и ноги.
Чувствует Зайчик, что связаны его руки шелковым поясом и он не дома у себя лежит, а в сказочной красоты терему, плененный навеки в стране безымянной и никому не ведомой, но столь прекрасной, что и не стоит тужить и горевать об этом плене, а лежать так и лежать, качаясь в парчовой люльке, ни о чем не думать и терпеливо ждать своего часа, а что будет в сей час – жизнь или смерть, – неизвестно!
А Зайчику надо бы знать!
Надо бы знать без ошибки!
* * *
Все сильнее и сильнее разгорается синий свет у лампады, так и заливает всю горницу, и сверчок так и исходит весь в своем стрекотании, – все тише и тише от того стрекоту в сердце…
И Зайчику кажется, что синяя волна бьется уже вот тут, совсем близко около него, около самого сердца, но она не зальет, не затопит, и бояться ее нечего: это волна из Счастливого озера, она догнала его и настигла: ей жаль, что Зайчик покинул ее берега.
И плывет, плывет отцовская изба, как диковинный корабль, в далекое и блаженное царство, где люди живут и не знают, а самое главное, знать им не надо: что жизнь и что смерть?..
* * *
…Долго так Зайчик пролежал с широко открытыми глазами, не шевелясь и не смея пошевелиться.
Потом вдруг словно тихий ветер прошел из-за двери, лампадка погасла, мигнула другая, и с нее слетел огонек куда-то в темь, за божницу… Сверчок нехотя чирикнул последний раз в темноте, заглотнулся и замолчал.
Зато так и забил свет из окошка, у которого поставила Пелагушка кровать, чтоб, как проснется усталый братец, так сразу бы увидел родное село…
А Зайчик сейчас уж к оконцу приник, прильнул к стеклу горячим лбом, загляделся, и, словно сноп спелой ядрицы, упал ему на рубашку месячный свет.
Смотрит Зайчик в окошко дремотными глазами, с которых сон наполовину свалился, дрожит под одеялом частой мелкой дрожью, и сладко ему оттого, что стережет отцовскую избу высокий месяц с высоко занесенной в лохматое облако головой, а он покойно лежит у окна на кровати и до малости вспоминает свою прошедшую жизнь…
Колышется все перед глазами, преображается каждая мелочь, приобретая иное лицо и значенье, и будто в воспоминаниях этих, так чудесно перевитых с негаданным часом возвращенья под отцовскую кровлю, не он уж теперь, а чертухинские избы поплыли над землей, и крыши у них как крылья у птиц на первом взмаху от земли.
Видит Зайчик: у крыльца, куда так и бьет месяц, так и сыплет горстью лучи, забирая все выше, ископытили кони Петра Еремеича землю и из мокрой земли вода проступила, а первый зазимок сейчас ледок, как гусиные лапки, натянул в лошадьих следах.
«Значит, – думает Зайчик, – птицам пора улетать!»
Глядит Зайчик на улицу, и нет ни единой души, и в окнах нигде огонька, только туман так и валит из-под невиданных крыльев чертухинских птиц, вдоль села так и стелет овчину и сбирает клубы на горке у дома, где живет отец Никанор, – чудится Зайчику, что там, у Никанорова дома, туман уже не туман: это чертухинские девки ведут хоровод…
Платья на девках кисейные, белые, ленты в косах атласные, с отливом и ворсом, и из белой березовой коры башмачки на ногах.
Ходят девки, не касаясь ногами земли, чтоб не портить обувки, ходят они, за руки держат друг дружку, и сыплет на них осохлые листья из чистого золота ясень, такой же старый, но еще бодрый, веселый, как и отец Никанор.
А посреди хоровода Клаша, дочка отца Никанора…
Не с ней ли Зайчик вместе в школу под горкой ходил?.. Не с ней ли венчался… в духе и свете?..
Такая большая поднялась за время, как Зайчик Клашу не видел, а теперь совсем не узнал: с лица ее веснушки словно кто смахнул платочком, как соринки, стала она выше и тоньше, и месяц сейчас бьет Клаше в лицо нежным лучом и вплетает сине-зеленую ленту в тяжелую косу.
«Должно что, – думает Зайчик, – замуж выскочит скоро… может, даже этой весной… Ужели ж забудет и не дождется?..»
Клаша стоит середь хоровода, смотрит на небо, звезды считает, месяцу, пролетным осенним тучам, летящим на север за снегом, машет белым платком и – для кого, неизвестно – запевает песню на круг:
Уж ты Лель мой, Лель,
Люли-Лель!
Не ходи ты, Лель, воевать!
Ты не целься в лоб,
Уж ты в грудь не цель:
Не клади ты в гроб
Да чужую мать!
Лель мой, Лель!
Лель мой, Лель!
Люшеньки!
Не губи ты, Лель,
Душеньки!
Уж ты Лель мой, Лель,
Люли-Лель!
Не ходи ты, Лель, на войну!
Ах ты, милый друг,
Не гони под ель
На усохлый сук
Молоду жену!..
Лель мой, Лель!
Лель мой, Лель!
Люшеньки!
Не губи ты, Лель,
Душеньки!
Кончила Клаша песню, а в сердце у Зайчика еще звучит хороводный припев.
Стоит Клаша в кругу, взявшись за сердце, из глаз ее катятся крупные, по горошине, слезы, отчего еще светлее у Клаши глаза – две синих лампады, в которые сверху смотрит луна, – еще лукавей играют ямки у губ, и со щек так и пышет румянец, словно открыла она девичье сердце и горит, горит от стыда!..
Зайчик в подушку уткнулся, а месяц за тучу уплыл…
Черная телега
Чудно пахнет подушка сестрицы Пелагушки, насовала она под наволоку пахучей мяты и божьей травы, от которых приходит легкий сон к человеку, и Зайчик словно лежит сейчас в огороде, уткнувшись в окошенный вал у частокола, мокрый от частой росы, и солнышко будто вот только что за Чертухиным выкатило свой золотой глаз и съесть еще совсем росы не успело.
Лежит Зайчик усталый, но крепкий, как песочный брусок, которым вот уж какой год все одним косу точит и никак сточить не может: по жилам кровь так и играет, и слышно за сажень, как она падает в сердце, будто с большого обрыва, и звонко стучит о самое сердечное дно, зароется там, отдохнет и снова заколет в лопатки и плечи и будит с зарею – гонит с постели бить рижскую косу на бабке, раскидывая по всему Чертухину уверенный радостный стук молотка, а потом скорей косить, скорей косить, размахивая косой во все плечи, пока роса на лугу, словно брызги, как будто по лугу ходил всю ночь отец Никанор с водосвятьем.
* * *
Долго ль так Зайчик лежал, мало ль – кто это знает?
Может, и осень прошла за это время, и зима пропорошила в околицу белым пушистым хвостом, – кто это знает?..
Время – не столб у дороги!
На нем все наши зарубки первый же ветер сдувает, и часто не знаешь: когда это было – вчера иль сегодня.
Иль когда еще сам на свет не родился!
Только от сестриной мяты да от плативой божьей травы так и наперло в нос Зайчику, поднял он голову, обсохла без солнца роса на подушке – Зайчик часто в последнее время плакал во сне, – в окошко взглянул, потом обернулся на дверь: спаси бог, не узнал бы кто про его огородный сон и про эту росу на траве, похожую больше на слезы!..
– Какие уж тут огороды… ведь скоро Покров!
И Зайчик сейчас и не помнит, куда он рижскую косу повесил, так и не кончив покос перед войной.
Пришлось последний лужок добивать казачихе!
Но крепко, видно, и Митрий Семеныч и Фекла Спиридоновна, умаявшись с этой проклятой торговли хуже, чем с пашни, спят за пятой стеной, а Пелагушка подавно: у девки еще и грудь не налило!
Спит – выдерни ноги, и то не услышит!
Глядит Зайчик в окошко, меж двумя облаками тихо за горку катится месяц и, ниже, ниже нагибаясь к отцовской избе, через силу с великой дремоты озирает вокруг, да и все на селе кто на месяц в этот час ни посмотрит, у всякого слипнутся веки и сам приоткроется рот, только вот один Зайчик поглядит на него, и еще шире станут глаза.
В тайне от сына берегла Фекла Спиридоновна его лунатные ночи, когда он мальчишкой лазил по краешку крыши и подолгу сидел на князьке, болтая ногами и упершись детскими немигающими глазенками в месяц над крышей.
Колдун ли снял на десятом году с Зайчика этот мечтунчик, само ли по себе прошло – бог его знает!
Только еще и теперь часто Зайчика месяц будит, и он подолгу не может заснуть, пока всласть не наглядится…
– Месяц! – думает в такие минуты Зайчик, – ты солнышка светлее и лучше!..
* * *
Глядит Зайчик в окошко, но теперь уж нет никого у дома отца Никанора, рассыпался по избам девичий круг, словно бусы с порванной нитки, а Клаша – дочка отца Никанора – давно в летней светлице спит одна под самой крышей, держит сонной рукой крепкую грудь и грезит с улыбкой о том, что в палисаде, на старой антоновке, больно два яблока славно налились:
«Завтра проснусь, спрошу у отца позволенья, – сорву и кому-нибудь подарю на долгую-долгую память… а если отец не позволит – заплачу!»
«Пожалуй, позволит, – думает тоже и Зайчик, – завтра пойду навестить отца Никанора!»
И только это Зайчик подумал да опять в окошко взглянул, как вдруг из Чертухина, но только с другого конца, покатила большая телега, в телегу впряжена большая свинья, и хвост у свиньи длиннее, чем кнут у подпаска Игнатки.
Кто сидит на телеге – поначалу было не разобрать.
Потом, когда она на пригорок поднялась, Зайчик, приставивши руку к глазам, чтоб месяц глаза не туманил, и вплотную прижавшись к окну, разглядел: сидит на этой телеге дьякон с Николы-на-Ходче, свесивши ноги, так что телегу всю покосило и колесо с этого боку чертит о накрылье, и на крутом повороте будто так крикнуть и хочет:
«Эй, сторонись, прохожий! Не видишь, а то задавлю, и мокренько не будет!»
Сидит на этой телеге дьякон с Николы-на-Ходче и бьет по свинье староверской лестовкой.
«Ох, этот дьякон, – думает Зайчик, – водосвятный крест пропил, ну вот у него теперь и гульба!»
«Много ты знаешь, – будто отвечает Зайчику дьякон, повернувшись бочком с телеги, – да ладно, вот съезжу на требу, человек за горой удавился, вот оберну, господин охвицер, и тогда уж мы с тобой потолкуем!»
Странно Зайчику: до дьякона будет верста, а слышно-о! А может, даже больше версты!
Ночью все предметы ближе подходят, только меняют лицо.
«Должно, что по росе так голос приносит, – решил Зайчик, – ну и дьякон: коса больше, чем у отца Никанора!»
Смотрит Зайчик, ничуть и не страшно!
Ну что ж из того, что под горой человек на осине висит?..
Мертвых Зайчик видал…
На войне… подумаешь тоже, какая нередкость…
Да и мертвые страшны не все, а первые три дня после смерти так и все мертвецы добрее и лучше живых!
«Невежа! А еще охвицер, – кричит ему с самой горки дьякон, – науку тоже прошел, а в голове нескладиха!» Зайчика пот пробил, и к ногам побежали мурашки, силится и не может понять, как же это: Зайчик только подумал, а дьякон уже услыхал…
В этой время дьякон свернул с горки, снял с осины человека, должно быть, была это баба, а если мужчина, так, наверно, заезжий купец – больно брюхо велико, у мужиков таких не отрастает, – снял человека, на горку опять маханул и… круто… на небо!
По небу грохот пошел, катится по небу телега, так тьма и растет.
От грохота падают звезды, месяц, совсем незрячий, за горку хотел укатиться, расплылись с дремоты и губы и нос у него по лицу, стал он похож на яичко, какие Зайчик с горки по Пасхам в детстве катал, – хотел укатиться, да дьякон вдруг телегу круто на него повернул и… раздавил, инда колесо так и скрипело, так и гремело.
– Э-эй, сторонись, сторонись! Задавлю, как яичко!
Тьма повалила вниз и вверх от телеги, и только минутку колесный обод сиял яичным желтком, позолотил и потешил глаза хмуро-золотистый свет, а потом, попавши в колею, погаснул, и… ринулась тьма на землю и небо!
* * *
Слышно только, как над самым селом катит телега и камушки с-под колес летят со свистом и падают на крышу, то тихо, то барабаня крупной дробью в железо.
Сколько времени пролежал так Зайчик, бог его знает!
Слышал только, закутавшись с головой в одеяло, только оставивши маленькую щелку для глаз, как под колесный скрип и визг от накрылья телеги хлопал на шесте крыльями старый петух и не вовремя пел – видно, хотел разбудить хозяев и пораньше поднять на ноги…






