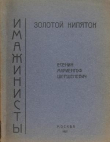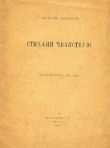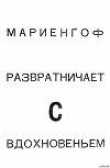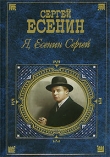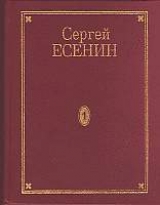
Текст книги "Том 6. Письма"
Автор книги: Сергей Есенин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 53 страниц)
46. И. К. Коробову. 4 мая 1915 г. (с. 68). – НС, 1962, № 4, с. 185–186 (публ. Е. А. Динерштейна, с датой: «Май 1915 г.» и ошибочным указанием места отправки – «Петроград»); Есенин 5 (1962), с. 115–116, с датой: «Москва, до 4 мая 1915 г.»
Печатается по автографу (ГЛМ).
Датируется по фразе: «Сегодня я уезжаю» – с учетом сведений о выписке из домовой книги, из которых явствует, что Есенин выехал из Москвы в Константиново 4 мая 1915 г. (в Есенин 5 (1962), с. 320, местом хранения этой выписки указан РГАЛИ, что в настоящее время подтверждения не находит).
… был у Вас ~ свидеться не пришлось. – Живя в Москве, Есенин часто общался с И. Коробовым, который тоже писал стихи и участвовал в собраниях кружка литераторов при журнале «Млечный Путь», где бывал и Есенин (см. коммент. к п. 38). «Ко мне он заходил не раз, – вспоминал И. Коробов, – читал неистощимо, и однажды, я помню, мы были с ним у Ил. Л. Толстого, тоже печатавшего свои вещи в нашем журнале, и просидели у него в гостинице до утра. Есенин недолго оставался в Москве и в том же году уехал в Петроград. <…> В следующем <т. е. в 1916> году он приезжал в Москву, и мы виделись, и однажды на Воробьевых горах он читал наизусть в кругу прежних друзей большую поэму „Микола“» (ГЛМ).
Я писал Алексею Михайловичу письмо…– Речь идет о А. М. Чернышеве, издателе «Млечного Пути» (см. также коммент. к п. 38). Д. Н. Семёновский вспоминал: «Алексей Михайлович Чернышев был замечательным человеком. Весь свой заработок он тратил на журнал. Сам он тоже писал стихи» (Восп., 1, 158). Письмо Есенина к А. М. Чернышеву ныне неизвестно; при жизни адресата хранилось в его архиве (сообщено П. Н. Чернышевой).
… извинялся, что напечатал в «Журнале для всех» свою «Кручину»…– Это стихотворение (впоследствии печаталось без заглавия и известно по первой строке – «Зашумели над затоном тростники…») было впервые опубликовано в «Млечном Пути» (1915, № 2). Вторично появилось в петроградском «Новом журнале для всех» (1915, № 4) с посвящением: «Сергею Городецкому». Мотивы, по которым Есенин решил перепечатать это стихотворение, изложены им в письме к Н. Н. Ливкину от 12 авг. 1916 г. (п. 64, с. 82–84 наст. тома).
…. Ливкин~ вырезал из «Мл<ечного> Пути» ~ прислал~ с заявлением: «Если вы напечатали стих<отворения> Есенина, то, думаю, не откажетесь и наши». – В своих позднейших мемуарах Н. Н. Ливкин так описывает события, возмутившие Есенина: «Мне трудно вспомнить сейчас, при каких обстоятельствах однажды в моих руках оказался „Новый журнал для всех“, издаваемый в Петрограде, где было стихотворение Есенина „Кручина“, до этого напечатанное в „Млечном Пути“ <…> я сгоряча, ни о чем толком не подумав, заклеил в конверт несколько своих и чужих стихотворений, напечатанных в „Млечном Пути“ и послал их в редакцию „Нового журнала для всех“. При этом я написал, что это, очевидно, не помешает вторично опубликовать их в „Новом журнале для всех“, так как напечатанные в нем недавно стихи Есенина тоже были первоначально опубликованы в „Млечном Пути“. К сожалению, в тот момент я думал только о том, чтобы мои стихи попали наконец в дорогой моему сердцу журнал. И совсем упустил из виду, что вся эта история может подвести Есенина. В то время вторично печатать уже опубликованные стихи считалось неэтичным.
И действительно, мое письмо поставило Есенина в несколько стесненное положение перед редакцией „Нового журнала для всех“, он был мной незаслуженно обижен» (Восп., 1, 164, 165).
… если Ливкин будет в «Мл<ечном> Пути», то пусть мое имя будет вычеркнуто из списка сотрудников. – По словам Н. Н. Ливкина, «Есенин прислал Чернышеву письмо, в котором сообщал, что если Ливкин и дальше, после своего неблаговидного поступка, будет оставаться в „Млечном Пути“, то он печататься в журнале не будет и просит вычеркнуть его имя из списка сотрудников» (Восп., 1, 165; написано уже после появления в печати комментируемого письма и по сути является почти дословным его пересказом). Есенин указан в числе сотрудников журнала в №№ 2–4 за 1915 г., Ливкин – в №№ 1–7 за тот же год, и его стихи, в отличие от стихов Есенина, продолжали появляться на страницах журнала (см. №№ 4, 5 и 7 за 1915 г.). Скорее всего, это свидетельствует, что редактор журнала А. М. Чернышев принял в конфликте сторону Н. Ливкина.
Жалко мне оченьужКолоколова. Мария Попер, я думаю, сама влезла. – Очевидно, Н. Ливкин отправил в «Новый журнал для всех» вместе с есенинской «Кручиной» и своими стихами также и вырезки текстов Н. Колоколова и М. Папер (Есенин писал фамилию поэтессы через «о»). Д. Н. Семёновский, который познакомился с Есениным в университете им. А. Л. Шанявского, вспоминал: «Из шанявцев-литераторов Есенин, по его словам, никого не знал. „Познакомился здесь только с поэтом Николаем Колоколовым, – говорил он, – бываю у него на квартире. Сейчас он – мой лучший друг“» (Восп., 1, 152). Как Н. Колоколов, так и М. Папер названы в числе сотрудников журнала «Млечный Путь» (1914, №№ 5–7; 1915, № 1–7). Н. Ливкин мог выслать в петроградский журнал стихотворения Н. Колоколова «Снежинки», «Одиночество» (1914, № 5); «Алый мрак», «Снегурочка», «Чародейное» (1915, № 1; «В глубине» (1915, № 3) или рассказы «Яблоки» (1915, № 2), «Ручьи звенели…» (1915, № 3), а из произведений М. Папер – ее стихотворения «Тоска» (1914, № 4); «О люди, откройте мне двери!..», «Томлюсь на первую весну…», «Ярких сказочных перьев..» (1915, № 1), «Светлой памяти Арсения…» (1915, № 4), а также собственные стихи «Инок», «Ветка сирени», «Заря» (1915, № 2) или «В южном хмеле» (1915, № 4).
О Вас там будет отзыв ~ «К тебе, о правда, не воззовуль». – Процитировано стихотворение И. Коробова «В дыму шрапнели», первоначально опубликованное в «Млечном Пути» (1915, № 1, с. 2): В дыму шрапнели, в звенящем гуле, В потоке крови, в напевах пуль, В дыханьи красной, кипящей бури К тебе, о Правда, не воззову ль?
В начале 1915 г. И. Коробов выпустил одноименный сборник своих стихотворений (он отмечен как поступивший в продажу в №№ 2–4 за 1915 г.). Этот сборник указан среди книг, присланных для отзыва в редакцию «Нового журнала для всех» (1915, № 3, март, с. 73). Судя по словам Есенина, он знал о намерении своего петроградского приятеля А. А. Добровольского (о нем подробнее см. в коммент. к следующему письму) откликнуться на книгу И. Коробова в журнале; однако этот отклик в «Новом журнале для всех» ни в 1915-м, ни в 1916-м гг. не появлялся.
Сегодня я уезжаю. – Согласно упомянутому выше в текстологическом коммент. документу, Есенин выехал из Москвы в Константиново 4 мая 1915 г.
47. А. А. Добровольскому. 11 мая 1915 г. (с. 69). – Газ. «Рязанские ведомости», 1998, 2 окт., № 191, в статье Ю. Паркаева «Хранилось у Гриши Панфилова», с неточностями.
Печатается по автографу (Есенинский Культурный Центр, г. Москва), исполненному на открытке с почтовым штемпелем: «Кузьминское Ряз. 11.5.15».
Датируется по этому штемпелю.
Каждый день ~ играю в ливенку. ~ Сложил я~ прибаску охальную~ и гузынил ее. Сгребли меня сотские ~ Ливенку мою расшибли. ~ Рекрута все за меня…– Отвечая на неизвестное ныне письмо Есенина, С. Городецкий 4 июня 1915 г., в частности, писал: «Очень я смеялся, как ты с ливенкой набуянил» (Письма, 200). Судя по этому отклику, Есенин описал Городецкому тот же самый эпизод в выражениях, близких к комментируемому фрагменту. Ср. также: По селу тропинкой кривенькой В летний вечер голубой Рекрута ходили с ливенкой Разухабистой гурьбой. (Первая строфа стихотворения, вскоре опубликованного в Петрограде – журн. «Огонек», 1915, № 30, 26 июля – под заглавием «Рекруты»).
… кланяйся Анне Карловне. ~ Журнал для всех. Добровольскому Сашке. – А. К. Боане была редактором-издателем «Нового журнала для всех» (1914–1916 гг.), привлекавшим к сотрудничеству в нем талантливую молодежь. В марте-апр. 1915 г. Есенин нередко бывал в редакции журнала. 30 марта он выступил на созванной там вечеринке молодых авторов: «Он вышел на маленькую домашнюю эстраду в своей русской рубашке и прочел помимо лирики какую-то поэму (кажется, „Марфу Посадницу“).
<…> Большинство смотрело на него только как на новинку и любопытное явление. Его слушали, покровительственно улыбаясь, добродушно хлопали его „коровам“ и „кудлатым щенкам“, идиллические члены редакции были довольны, но в кучке патентованных поэтов мелькали очень презрительные усмешки» (В. С. Чернявский; Восп., 1, 203).
Возможно, к этим «патентованным» относятся слова Есенина из данного письма: «Помири моих хулителей» – судя по немногочисленным архивным материалам, связанным с именем адресата (их обзор, сделанный С. Г. Блиновым, см. в сб. «Встречи с прошлым», М., 1990, вып. 7, с. 103–109), в 1915 г. тот был активным сотрудником редакции журнала. Под маркой «Нового журнала для всех» А. Добровольский (под псевдонимом «А. Тришатов») выпустил книгу рассказов «Молодое, только молодое» (Пг., 1916).
Сохранилась совместная фотография Есенина и А. Добровольского 1915 г. (см.: НС, 1990, № 10, окт., с. 162; Письма, оборот первого вкл. л. между с. 128 и 129, где А. Добровольский ошибочно идентифицирован как Л. Каннегисер).
48. Л. В. Берману. 2 июня 1915 г. (с. 70). – Журн. «Звезда», Л., 1975, № 4, апр., с. 188–189 (публ. Т. Н. Конопацкой).
Печатается по автографу (ГЛМ), исполненному на открытке с почтовым штемпелем: «Кузьминское Ряз. 2.6.15».
Датируется по этому штемпелю.
Посылал я вам письмо, а вы мне не ответили. – О знакомстве с Есениным весной 1915 г. Л. Берман вспоминал: «В маленькой секретарской комнатке нашей редакции <…> в тот день были обычные часы приема посетителей. Собралось примерно человек восемь-десять. Ждали Дмитрия Владимировича Философова. Среди пришедших был и совсем не похожий на других, очень скромного вида паренек в длинном демисезонном пальто. Он прошел и сел в уголок.
Так как Философов в этот день так почему-то и не пришел, мне пришлось заменить его и самому беседовать с посетителями. Обратился наконец я и к терпеливо молчавшему в своем уголке пареньку:
– А вы с чем пришли?
Он ответил:
– Я принес стишки.
– Интересно их послушать, – сказал я, – редактора нет, прочтите их.
Охотно, нимало не смущаясь, парень стал певуче читать стихи. Нараспев читали свои стихи и Блок, и Ахматова, и Гумилев. Он же читал совсем иначе, очень просто и очень-очень по-своему. Сразу поразила удивительная мелодичность стихов и их неподкупная искренность. <…>
В этот раз мы хорошо поговорили с ним, и он оставил свои стихи в редакции. После этого Есенин стал частенько бывать у нас…» (журн. «Звезда», Л., 1975, № 4, апр., с. 187–188).
«Летом я получил от него письмо из Константинова, – писал далее Л. Берман. – Конечно, ему ответил и журнал послал. Первого же его письма, о котором он пишет, я не получал, по-видимому, оно затерялось» (там же, с. 188). Ответ Бермана Есенину был написан только 26 июля 1915 г. в Абазовке Полтавской губернии: «Простите меня, голубчик, за то, что не отвечал: все было не до того, но всегда радовался, когда слышал что-нибудь о Вас» (Письма, 203).
Меня забрили в солдаты…– Согласно п. 43 (см. с. 65 наст. тома), Есенин должен был явиться на призывной участок в Рязани 14 мая. По законам Российской Империи, «к исполнению воинской повинности» призывался «ежегодно один только возраст населения, именно молодые люди, которым исполнилось 20 лет от роду к первому января того года, когда производится призыв» (Свод законов Российской Империи. Т. IV. Устав о воинской повинности. Пг., 1915, с. 9). Согласно тому же уставу, Есенин, как единственный сын в семье, имел право на льготу первого разряда, по которой лица, ею пользующиеся, на службу не назначались, «хотя бы для выполнения общего годового призыва недоставало прочих людей, призванных к исполнению воинской повинности»(там же, с. 24–25). Они могли быть призваны только в местное ополчение и именовались ратниками государственного ополчения второго разряда. В условиях военного времени 1915 г. власти предполагали снять эту льготу с тем, чтобы ратники второго разряда могли быть призваны в действующую армию, и поэтому ускорили приписку всех двадцатилетних юношей к призывным участкам (см. коммент. к п. 43). См. также коммент. к п. 49.
Пони́ка– в рязанских диалектах «подслеповатый, близорукий человек» («Словарь русских народных говоров», СПб., 1995, вып. 29, с. 260).
На комиссию отправ<или>. —О решении комиссии см. коммент. к следующему письму.
Пришлите журнал-то. – Речь идет об очередном (или очередных) номере (номерах) «Голоса жизни». Есенин получил их, поскольку в п. 49 (с. 72) сообщает, что читал стихи М. Струве, напечатанные в 24-м номере журнала от 10 июня 1915 г.
Да пропишите про Димитрия Владимирови<ча>. Как он-то живет. – Не дождавшись ответа от адресата, Есенин написал Д. В. Философову сам – это явствует из письма Л. Бермана в Константиново от 26 июля 1915 г.: «Был как раз у Дмитрия Владимировича, когда (в июне) пришло от Вас письмо и стихи, которые читал, как всегда, с радостью и… немножко с завистью» (Письма, 203). Письмо, о котором здесь идет речь, неизвестно. По словам В. Чернявского, «к Философову он <Есенин> относился очень хорошо. Тот пленил его крайним вниманием к его поэзии, авторитетным, барственно мягким тоном джентльмена» (Восп., 1, 207). 12 апр. 1915 г. Д. Философов подарил юному поэту свои книги «Неугасимая лампада» и «Старое и новое» (обе – 1912) с теплыми дарственными надписями (тексты их см. наст. изд., т. 5, с. 519). Даже через десять лет Есенин писал: «Философов <…> и посейчас занимает мой кругозор» (наст. изд., т. 5, с. 229).
49. В. С. Чернявскому. После 12 или 13 июня 1915 г. (с. 71). – Журн. «Звезда», Л., 1926, № 4, с. 222–223 (публ. В. С. Чернявского; с неточностями и ошибочной датировкой: «Получено около 1 августа 1915 г.»); в Есенин 5 (1962), с. 117, – ориентировочная дата: «Июнь – июль 1915 г.»
Печатается по выправленной адресатом машинописной копии письма в составе его мемуаров «Три эпохи встреч» (ГЛМ). Местонахождение автографа неизвестно.
Датируется по содержанию. Во-первых, оно является ответом на письмо В. Чернявского Есенину от 26 мая 1915 г. (полный его текст: Письма, 198–200; см. также реальный коммент.). Во-вторых, о пребывании Л. Каннегисера в Константинове в нем говорится как о совершившемся уже событии; судя же по началу письма Л. Каннегисера Есенину от 21 июня 1915 г.: «Дорогой Сережа, вот уже почти 10 дней, как мы расстались!» (Письма, 201)., его отъезд произошел 12 или 13 июня. В-третьих, в письме упоминается читанный Есениным журнал «Голос жизни» со стихами М. Струве; этот номер журнала (№ 24) вышел 10 июня 1915 г. и мог быть получен в Константинове тоже 12 или 13 июня (при условии отправки его из Петрограда в день выхода).
Дорогой Володя! – По свидетельству адресата, Есенина он «увидел впервые 28 марта 1915 года» (Восп., 1, 198). Вспоминая об этой встрече, В. Чернявский писал: «Говорил он о своих стихах и надеждах с особенной застенчивой, но сияющей гордостью, смотря каждому прямо в глаза, и никакой робости и угловатости деревенского паренька в нем не было» (Восп., 1, 199). Взаимной приязнью Есенина и Чернявского отмечено все время их общения. К Есенину обращено несколько стихотворений, написанных В. Чернявским в 1915–1916 гг. (фрагмент одного из них: Восп., 1, 475); Есенин посвятил Чернявскому поэму «Сельский часослов» (1918). В 1918 г. Чернявский стал крестным отцом дочери Есенина – Татьяны.
Радехонек записьмо твое. – В этом письме, в частности, говорилось: «Милый друг Сергуня, все время хранил о тебе хорошую память, но сам знаешь, как беспутно живут твои петербургские знакомцы, а потому и извинишь, что я тебе не писал <…> Так я буду ждать от тебя письма и сведений о себе и непременно тебе отвечу, милый друг. Мы с тобой мало видались в Питере, но ты, я думаю, знаешь, что я к тебе очень дружески отношусь и рад был, что ты встретился на моем пути. Пиши, что поделываешь, чем живешь» (Письма, 198–200).
… оно меня не застало по приходе. ~ Приезжал ~ Каннегисер. Я с ним ~ в монастыре ~ который далеко от Рязани. – Судя по этим словам, «паломничество» Есенина и Каннегисера состоялось в самом конце мая – начале июня 1915 г. Монастырем, в котором они побывали, скорее всего, явился Рязанский Богословский общежительный мужской монастырь, расположенный приблизительно в 10 км от Константинова: он славился своей древностью – по преданию, эта обитель была основана еще в XIII веке. Об этом совместном путешествии вспомнил в письме Есенину из Брянска и Л. Каннегисер: «Ходил вчера <т. е. 20 июня> в Свенский монастырь; он в нескольких верстах от города, на берегу Десны. Дорога ведет по возвышенной части берега, но она пыльная, и я шел стежками вдоль реки и, конечно, вспоминал другую реку, другие стежки по траве и рядом со мною – босого и веселого мальчика. Где-то он теперь?» (Письма, 201).
Ему у нас очень понравилось. ~ Полюбилось так, что еще хотел приехать. – Л. Каннегисер не раз писал об этом и в письмах: «Через какую деревню или село я теперь бы ни проходил (я бываю за городом) – мне всегда вспоминается Константиново, и не было еще ни разу, чтобы оно побледнело в моей памяти или отступило на задний план перед каким-либо другим местом. Наверное знаю, что запомню его навсегда. Я люблю его» (Письма, 201); «А как у вас? Что твоя милая матушка? Очень ей от меня кланяйся. А сестренки? Я к ним очень привязался и полюбил их за те дни, что провел у вас. <…> Я <…> помню <…> все, что касается милого Константинова» (Письма, 206).
От военной службы меня до осени освободили. ~ Сперва было совсем взяли. – Эта отсрочка, как установил В. А. Вдовин, была связана не столько с близорукостью Есенина, сколько с незавершенностью разрешения властью вопроса о призыве в действующую армию ратников второго разряда: «Поначалу предполагалось, что Николай II издаст высочайший манифест и призыв ратников второго разряда в действующую армию будет проведен летом 1915 года. В связи с этим к 4 мая в срочном секретном порядке был заготовлен корректурный оттиск объявления о призыве ратников государственного ополчения второго разряда. <…> Однако при рассмотрении вопроса о призыве ратников в заседании Совета министров 12 июня 1915 года Николай II неожиданно для министра внутренних дел и военного министра предложил передать этот вопрос на обсуждение Государственной Думы и Государственного Совета. В связи с этим призыв ратников второго разряда был отложен на осень, о чем шифрованной телеграммой были извещены начальники штабов военных округов.
Этим и объяснялась отсрочка от призыва до осени, данная летом 1915 года всем ратникам второго разряда, в том числе и Есенину.
Разумеется, эту истинную причину отсрочки <…> не могли объявить ратникам. Есенину, по-видимому, было сказано, что его призыв отложен на осень по слабости зрения. Поверив в это объяснение, Есенин и повторил его в письме» (ВЛ, 1970, № 7, июль, с. 156–157).
Слова Есенина – ответ на следующее место из письма В. Чернявского от 26 мая 1915 г.: «Мне хотелось бы узнать, чем разрешился вопрос о твоей воинской повинности; надеюсь, напишешь словечко» (Письма, 199). См. также п. 48 и коммент. к нему.
Принимаюсь за рассказы. 2 уже готовы. – Ныне известны два рассказа Есенина – «Бобыль и Дружок» (о его публикации и предполагаемом времени создания см. также коммент. к п. 39) и «У белой воды» (опубликован 21 авг. 1916 г.). Первый из них, скорее всего, написан в 1914 или в начале 1915 г. Время создания второго рассказа в точности неизвестно. Известно, однако, что свою повесть «Яр» Есенин написал именно летом 1915 г. в Константинове (подробнее см. наст. изд., т. 5, с. 338–339). По-видимому, рассказы, о которых пишет Есенин Чернявскому, стали позднее из поначалу самостоятельных произведений составными частями повести «Яр».
Каннегисер говорит, что они ему многое открыли во мне. ~ понравились больше, чем надо. – 25 авг. 1915 г. Каннегисер спрашивал Есенина: «А что твоя проза, которая мне так понравилась? Я рассказывал о ней Софии Исаковне <С. И. Чацкиной, редактору журн. «Северные записки»> и очень ее заинтересовал» (Письма, 206). В следующем письме – 11 сент. 1915 г. – он вновь вернулся к тому же вопросу: «Жду твоей прозы. София Исаковна просит тебе передать: 1) чтобы ты послал им в „Северные записки“ всю прозу, сколько у тебя есть, и поскорее…» (Письма, 210).
Повесть «Яр» была напечатана именно в «Северных записках» (1916, №№ 2–5, февр. – май).
Стихов ему много не понравилось, но больше восхитило. Он ~ собирался статью писать. – 21 июня 1915 г. Каннегисер, напомнив Есенину о себе как о «любовно запоминавшем» его стихи – «„Улогого“ и „Разбойника“», – продолжил эти слова так: «И теперь, когда мне грустно или весело, я вспоминаю и говорю их про себя, а иногда и громко, и жалею, что не запомнил ничего, кроме них» (Письма, 201). Замысел статьи Л. Каннегисера о творчестве Есенина остался нереализованным.
Интересно, ~ на какой стороне Философов и Гиппиус. Ты узнай, Володя. – Отклик на слова В. Чернявского из его письма Есенину от 26 мая 1915 г.: «Гимназист Оксенов, бывший недавно по приглашению, для „ощупывания“ в качестве представителя зеленой молодежи у Мережковских, рассказывал мне, то там многоо тебе говорили и что мнения расходились» (Письма, 199; выделено автором). Чернявский ответил 8 авг. 1915 г.: «…что касается твоей старой просьбы узнать мнения, я ничего путного не узнал: сказали мне только, что говорили о тебе „как о хорошем мальчике“, будто бы тебя в Питере кто-то портит, а как о поэте ничего не говорили, а Философов вообще в разговоре участия не принимал» (Письма, 204–205).
… я отослал им стихи, а ответа нет. – О том, что его стихи были получены Д. Философовым, Есенин узнал позднее – из письма к нему Л. Бермана от 26 июля 1915 г. (см. цитату в коммент. к п. 48). См. также ниже коммент. к п. 51.
За июнь посмотри «Сев<ерные> зап<иски>». Там я уже напечатан, как говорит Каннегисер. – По-видимому, в разговоре Каннегисера с Есениным на эту тему шла речь о верстке очередного номера «Северных записок», который на этот раз оказался сдвоенным. Отвечая Есенину на его неизвестное ныне письмо, С. И. Чацкина извещала его 18 июля 1915 г.: «Ваша „ Русь“ печатается в июльской книжке и на днях появится. Тогда пришлем Вам и книжку и денег» (Письма, 203; выделено автором).
Жду только «Русскую мысль». – До своего отъезда из Петрограда Есенин еще не получил сведений о судьбе стихотворений, сданных им в этот журнал. В майском письме Городецкому он, очевидно, попросил адресата узнать об этом, поскольку 4 июня 1915 г. С. Городецкий отвечал: «В „Русскую мысль“ твои стихи приняли с удовольствием, как и везде. Пошли ей свой адрес» (Письма, 200). Как писать в «Русскую мысль», Есенин не знал и вскоре обратился к С. И. Чацкиной с просьбой сообщить ему адрес этого журнала, что и было выполнено в упомянутом выше письме от 18 июля 1915 г. (см.: Письма, 203). По-видимому, свой запрос в «Русскую мысль» Есенин послал уже в августе, так как ответ редакции был отправлен ему лишь 21 авг. 1915 г.:
«Милостивый Государь! Стихи Ваши („Инок“, „Калики“ и „Вечер“) напечатаны в июльской книжке. Извещение о том, что они приняты, было давно послано Вам по петербургскому адресу и было возвращено почтой» (Письма, 205).
Из письма Л. Каннегисера в Константиново от 11 сент. 1915 г. явствует, что Есенин (в письме конца авг. – начала сент.) попросил его взять в редакции журнала эту «июльскую книжку»:
«Высылаю тебе оттиски твоих стихов из „Русской мысли“. Я был там сегодня утром. <…> Книжки они тебе не выслали и дать мне не хотели, оттого, что, говорят, – раз сделали оттиски, то книжки не полагается. Если непременно хочешь книжку, – напиши – вышлю!» (Письма, 210).
Все упомянутые здесь есенинские письма мая – сент. 1915 г. (С. Городецкому, С. Чацкиной, в редакцию журнала «Русская мысль» и Л. Каннегисеру) ныне неизвестны.
Читал в «Голосе жизни» Струве. Оба стиха понравились. – Стихотворения М. Струве «Опять весна пути открыла…» и «Пусть гибнут все создания столетий…» были опубликованы в журнале 10 июня 1915 г. (№ 24).
Есть в них, как и в твоих, «холодок скептической печали». – Источник цитаты не выявлен. Возможно, это строка из стихотворения адресата.
Милый Рюрик! Один он там остался! – Это отклик Есенина на слова из письма к нему Р. Ивнева (конец мая 1915 г.): «Чернявский скоро уезжает <…> Один я остаюсь в Петербурге, буду, вероятно, жить на даче около города» (Письма, 198). Впрочем, в то время, когда Есенин вспомнил эти строки, Р. Ивнев уже находился в Туркестанском крае. «Дышу степным воздухом, пью кумыс и думаю о милом Петербурге. И всё так хорошо», – писал он одному из друзей 19 июня 1915 г. из Ташкента (РГАЛИ, ф. М. В. Бабенчикова).
Городецкий мне всё собирается писать, но пока не писал. – Известно, однако, письмо С. Городецкого Есенину от 4 июня 1915 г. (Письма, 200), которое, казалось бы, должно было быть получено Есениным к моменту написания комментируемого письма (ср. с его датировкой). Остается предположить, что к середине июня 1915 г. Есенин почему-то еще не получил указанного письма Городецкого.
Писал Клюев, но я ему всё отвечать собираюсь. – Первое письмо Н. Клюева Есенину было отправлено еще 2 мая 1915 г. (его текст см.: Письма, 196, а также коммент. к п. 44). Из начальных фраз другого клюевского письма в Константиново (от 9 июля 1915 г.: «Что же ты, родимый, не отвечаешь на мои письма? Мне бы хотелось узнать, согласен ли ты с моим пониманием твоих стихотворений: я читал их в „Голосе жизни“…» – Письма, 202) явствует, что в мае или июне 1915 г. Клюев написал Есенину еще одно письмо, которое ныне неизвестно.
Рюрику я пишу…– Подлинные письма Есенина 1915 г. к этому адресату неизвестны. Восстановленные им много лет спустя по памяти тексты «писем Есенина» (РГАЛИ, ф. Р. Ивнева; опубликованы Н. Леонтьевым – газ. «Новые рубежи», г. Одинцово Московской обл., 1987, 1 окт., № 118) не могут рассматриваться как аутентичные оригиналам. С. В. Шумихин в связи с этим писал: «…в РГАЛИ поступила <…> школьная тетрадь, в которой дрожащим почерком восьмидесяти с чем-то летний Рюрик Ивнев записывал простой шариковой ручкой „автографы“, так сказать, этих писем, да еще с правкой сочинителя, наглядно показывающей его работу над текстом», – квалифицируя далее эту рукопись Р. Ивнева как «свидетельство его стремления снискать себе двусмысленную славу» (журн. «De visu», М., 1994, № 5/6, с. 167).
… на Костю осердился. Он не понял ~ Коровы хворают, люди не колеют. – Речь идет об общем петроградском приятеле Есенина и Чернявского – К. Ю. Ляндау – и о ситуации, описанной адресатом Есенина 26 мая 1915 г.: «Твою открытку, пропитанную сибирской язвой и описывающую неслыханные обычаи, Костя слишком предусмотрительно сжег, не дав даже нам прочесть!» (Письма, 199). Судя по этим словам, в есенинском письме рассказывалось об обряде опахивания, к которому прибегали в деревнях при «коровьей чуме» еще в XX веке; несколькими месяцами позже описание этого обряда стало одним из эпизодов повести Есенина «Яр»:
«При опахиванье, по сказам стариков, первый встречный и глянувший – колдун, который и наслал болезнь на скотину.
Участники обхода бросались на встречного и зарубали топорами насмерть» (наст. изд., т. 5, с. 105; см. также с. 106 и коммент. Е. А. Самоделовой к этому месту повести – там же, с. 373–375).
Я странник улогой ~ А в сердце Исус. – Первая редакция стихотворения «Я странник убогий…». Об истории его текста см. наст. изд., т. 4, с. 292–293 (варианты), 376–378.