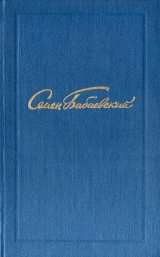
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 2"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 41 страниц)
Домой Кондратьев вернулся на закате солнца. Он прошел в кабинет, постоял у окна, которое было заплетено хмелем, затем сорвал листок, смял его в пальцах, понюхал. После этого подошел к столу и развернул газету. По тому, как он вошел в дом, как смотрел в окно и сорвал лист, и еще по каким-то одной только ей известным приметам, Наталья Павловна уже знала, что Николай Петрович был не в настроении.
– Николенька, – сказала она, – хорошо, что не задержался. Скоро Сергей и Ирина придут.
– Я и поспешил поэтому.
– А отчего грустный?
– Был у Рагулина на электромолотилке…
– Не ладится?
– Дело новое, трудное. – Присел к столу, склонил голову. – Что-то мы с Сергеем прозевали, недосмотрели… Шумели, кричали, радовались, а в суть дела не вникали.
Под ладонью – лист бумаги. Исписан крупным, знакомым почерком жены.
– Что это, Наташа?
– Читай. – Наталья Павловна села рядом. – Посмотри для интереса, сколько Сергей прочитал книг. Это за полгода.
Кондратьев надел очки, читал.
– Так, так… А не очень много.
– Это еще хорошо. Вот заведующий райфинотделом только один раз зашел в библиотеку, да и то спросил «Справочник по налогам». Или Ярошенко – заведующий отделом сельского хозяйства. Как-то взял «Ветер с юга» и вот уже три месяца читает.
– Ну, что у него из политической литературы? – сказал Кондратьев, просматривая листок. – Ленин «О государстве». Хорошо. «Документы и материалы кануна второй мировой войны». Оба томика?
Наталья Павловна утвердительно кивнула головой.
– Дальше, – продолжал Кондратьев. – «Что делать?» Чернышевского. Еще – «Психология». – Кондратьев посмотрел на жену. – Учебник?
– Один на всю библиотеку.
– Сам попросил или порекомендовала?
– Увидел на полке и взял.
– Вот еще – Докучаев «Наши степи прежде и теперь». Где ты раздобыла эту книгу?
– Старое издание. На базаре купила.
– Ну, а как у тебя дела дома? – Кондратьев свернул листок вчетверо и сунул в нагрудный карман. – Все ли готово к приходу гостей?
– Об этом не беспокойся.
– И по рюмочке найдется?
– Поищу, может и найду.
Наталья Павловна закусила нижнюю губу, что она делала всякий раз, когда что-то недосказывала.
День угасал. На приутихшую станицу спускался душный вечер. Из окна была видна улица. За станицей, в степи, заревом пылал закат. Деревья на фоне багрово-красного неба казались выше и стройнее…
Когда совсем смерклось и в окна повеяло степной прохладой, пришли Сергей и Ирина. На Ирине белое, из тонкого полотна платье, с ярким узором на рукавах и на груди. Цвет платья, как заметила Наталья Павловна, удачно сочетался со смуглым лицом Ирины и с ее черной косой. Сергей в белых брюках и в украинской сорочке с расстегнутым воротом, по которому до пояса сбегала вышивка шириной в две ладони.
За столом говорили о всяких житейских делах. Сергей вспомнил свой приезд в Усть-Невинскую, строительство гидростанции, сплав леса. Кондратьев положил руку ему на плечо и сказал:
– Плохи у нас дела с электричеством.
– Поправим, наладим, – ответил Сергей, блестя глазами. – Николай Петрович, замечаешь ли ты, как поднялось настроение у наших людей, сколько радости, настоящей, хорошей радости в станицах, и все это благодаря тому домику, что построили мы под кручей вблизи Усть-Невинской… Едешь ночью по горе, а внизу что ни станица или хутор, то и зарево огней.
– Осветить станицы – полдела, – заметил Кондратьев. – Внедрить электричество в производство – вот что трудно. И мне понятно, почему твой отец не радуется… В субботу был он у меня.
– От тебя пришел ко мне… Был серьезный разговор.
– Ой, и ругал же батя Сережку! – шепнула Ирина на ухо Наталье Павловне.
Кондратьев отодвинул тарелку и положил на ее место коробку папирос.
– Николенька, это ты задымишь, как на заседании, – проговорила Наталья Павловна.
– Извини, привычка, – ответил Кондратьев, закуривая и угощая Сергея. – Радоваться своему успеху не только не грешно, а даже похвально, ибо в этом чувстве как раз и есть то хорошее, что окрыляет человека и прибавляет ему сил, энергии… Но жизнь учит: радоваться можно, а только при этом не следует забывать, что всякая чрезмерная радость имеет свойство опьянять людей, и часто от этого хмельного состояния у некоторых товарищей начинает кружиться голова – вещь весьма неприятная… и даже опасная.
– Это ты о ком? – настороженно спросил Сергей, сурово сдвинув брови.
– Вообще, – ответил Кондратьев и продолжал: – И еще жизнь учит: тот, кто переоценивает себя, непременно покрывается скорлупой зазнайства и становится не руководителем, а обывателем, а это к добру не ведет.
– Николенька, может, переменил бы тему разговора, – сказала Наталья Павловна, – а то Ирина смотрит на тебя, и ей скучно…
– Что вы, Наталья Павловна, – поспешно ответила Ирина, – я слушаю… Это интересно…
– По-твоему, Николай Петрович, – сказал Сергей, – получается так: те, кто своими усилиями добились успеха, должны на все закрыть глаза и ничему не радоваться… Я не согласен. На фронте как было? Даже маленькой победе мы радовались, и она воодушевляла нас на новые подвиги. А как же?
– Правильно, – согласился Кондратьев, – но разве не было и на фронте случаев, когда успехи кружили командирам головы и во втором бою эти командиры проигрывали сражение? Почему? Переоценили свои силы… Вот этого надо бояться.
– Ну, Николенька, к чему ты все это говоришь. Налей лучше вина…
– Нет, погодите, Наталья Павловна, – возразил Сергей, – вина мы еще выпьем… Я начинаю догадываться… Николай Петрович, это надо понимать так: мы с тобой опьянены успехом? Так, что ли?
– Зачем же так сразу конкретизировать? – с улыбкой говорил Кондратьев. – Я об этом ничего не сказал… Но если ссылаться на какие-то свежие примеры, то мы тут не безгрешны.
– А точнее, ты хотел сказать, – проговорил Сергей, ни на кого не глядя, – хотел сказать, что грешен я…
– Да, грешен!
Наступило неприятное молчание. Кондратьев прикуривал погасшую папиросу и искоса посматривал на Сергея, который низко склонил голову, сидел молча, и уши его горели. Ирина не могла понять, что случилось, и то виновато улыбалась, то смотрела на Наталью Павловну.
– И еще беды большой нет в том, – продолжал Кондратьев, – если руководитель, возможно по своей молодости или неопытности, лишнее подумал о себе, ошибся, переоценил свои силы. Беда случается тогда, когда такой товарищ не имеет мужества признать свои ошибки, когда он не принимает во внимание критику и боится открыто сказать о своих слабостях.
– Ну, хватит вам тут заседание устраивать, – сердито сказала Наталья Павловна и налила в рюмки вина: – Давайте выпьем за настоящие и за будущие успехи…
Выпили молча и начали разговаривать о разливе Кубани, о видах на урожай. Кондратьев рассказывал о том, как он ездил в «Красный кавалерист» и битый час выслушивал жалобы Хворостянкина на Татьяну Нецветову. Разговор не клеился. Наталья Павловна подала чай, угощала Сергея вареньем, сказала, что именно это варенье нравится Ирине. Сергей пил чай неохотно, ни разу не подняв голову и не посмотрев Кондратьеву в глаза.
Вскоре гости попрощались и ушли, и в доме стало так тихо, что отчетливо слышались чьи-то шаги за окном.
– Николенька, ну зачем ты его так? – сказала Наталья Павловна и закусила свою маленькую нижнюю губу. – Ведь он все понял…
– И хорошо, если понял.
– Обидел же… А за что?
– Со многими председателями мне приходилось работать, но ни к одному я не питал такого уважения, как к этому бровастому парню… Но я боюсь, как бы не сошел он с правильного пути… Молод, горяч, самолюбив… А я за него в ответе…
– Да он же всю ночь не будет спать!.. Ведь у него внутри все закипело! Разве ты не видел?..
– Видел, и этого я хотел.
Кондратьев подошел к раскрытому окну, приподнял занавеску и долго, о чем-то думая, смотрел на видневшийся сквозь листья яблони лоскуток неба, густо усыпанный звездами.
24На площади и по улицам Рощенской горели огни, и хотя накал лампочек был обычным, как и во всякую ночь, Сергею казалось, что именно в этот час свет над уснувшей станицей разливался слишком тускло; и еще казалось ему, что фонари и на столбах и у входа зданий смотрели на него как бы с усмешкой. От этого еще больше болело сердце.
Сильнее прижимая локтем руку Ирины, он старался идти спокойно, но не мог и невольно ускорял шаги.
– Сережа, и куда ты спешишь? – спросила Ирина.
– Я не спешу… Иду, как всегда… Слышала, что Кондратьев говорил?
– Слышала.
– И что ты на это скажешь?
– Скажу то, что Николай Петрович неправ…
– А почему же он неправ?
Они остановились под деревом. В листьях испуганно захлопала крыльями птица и улетела. Стало тихо. Ирина посмотрела Сергею в глаза, хотела, чтобы он понял ее без слов. Сергей только удивленно сдвинул брови:
– Ну, чего так смотришь?
– Почему ты ему не ответил?
– Я знаю Кондратьева. – Сергей отломил веточку. – Ему не слова мои нужны, а дела… Завтра же поеду в район…
Домой они шли молча. Так же молча Ирина готовила постель. Сергей стоял у окна и смотрел на ее проворные руки. Затем он разделся, вышел из комнаты и под краном обмылся до пояса. Когда вернулся, Ирина уже лежала в кровати, повернувшись лицом к стене. «Ну что ж, помолчим до утра», – подумал Сергей и тоже лег, ощутив на влажном теле сухую и прохладную простыню.
В комнате было темно. Сергей лежал на спине с открытыми глазами, а в голову с такой настойчивостью лезли мысли, обрывки чьих-то фраз, что отбиться от них было невозможно. То ему вспоминался нежданный приход отца, и Сергей снова спорил с ним; то видел молчаливое и грустное лицо его, седые клочья бровей, закопченные усы; то вдруг лицо старика постепенно менялось, молодело – вот уже исчезли усы, и перед ним стоял Кондратьев; то никого не было, виднелись лишь окна, а в ушах звучал знакомый голос: «И… если ссылаться на какие-то свежие примеры, то мы тут не безгрешны…»
Ирина тоже не спала и слышала, как Сергей то тяжело вздыхал, то ворочался. Потом он встал, закурил, подошел к окну и, не докурив папиросу, снова улегся, сердито взбив кулаками подушку.
– Сережа, что ты там с подушкой воюешь?
– От жары не могу уснуть. И что за ночь выдалась такая душная!..
– А мне холодно.
И она наклонилась к нему, и распушенная коса спадала ей на плечи, резко оттеняясь на белой ночной сорочке. Она примостилась возле него и стала приглаживать жесткий и взлохмаченный чуб, ощутив на лбу испарину.
– Эх, ты! Вздыхатель… Знаю, знаю, не жара тут виновата, а Кондратьев. – Она наклонилась к нему. – Да ты хоть со мной поговори… Ну, чем ты так обеспокоен?
– Если бы он прямо сказал… Пусть бы даже поругал, и я бы подчинился, к этому я привык еще на войне… А вот самому себя заставить…
– А ты спокойно все обдумай…
– Не могу спокойно… Понимаешь, не могу! Сил у меня нет… И ты не уговаривай и не жалей…
– Ну хорошо, – сказала Ирина, – не буду… А только ты полежи со мной, успокойся…
И хотя на сердце у Сергея после разговора с Ириной стало спокойнее, но спал он плохо и мало. Поднялся рано. Ирина проснулась, когда Сергей упражнялся на турнике, – железный лом, укрепленный между двумя стволами акаций, издавал жалобный писк.
– Ну, Ирина, давай мне побыстрее закусить, – сказал он, остановившись на пороге и надевая рубашку.
– Едешь?
– Да!
Ирина начала готовить на стол. Сергей наскоро закусил и уехал.
25Не знаю, случалось ли вам когда-нибудь наблюдать лунную ночь в горах? Когда из-за скалы только что прорежется красный диск и по всему ущелью побегут тени и блики, а над рекой разольется жиденький туман, сквозь который слабо угадываются каменистые берега и чуть-чуть виден тусклый огонек чабанского костра, – в такую минуту все предстает перед вами картиной заманчивой и новой… Какая-нибудь плохонькая, до крайности облысевшая круча, на которую при дневном свете и смотреть не хочется, теперь выглядит скалой, великолепной и гордой, невысокий кустарник, такой, что днем, проезжая мимо, никто на него не поведет и глазом, в лунном сиянии сделался таким нарядным, закурчавился так пышно, что уже напоминает собой виноградник где-нибудь на берегу Черного моря; сосновый лес на горе темнеет грозной тучей, а поверх этой тучи переливается горячая бронза; пастушья кошара у скалы, самая простая кошара, каких здесь немало, кажется не иначе как сказочным теремом, приютившимся на красивом взгорье…
Но вот наступает утро, на синем-синем небе играет солнце – и обман вмиг исчезает. Нет ни тумана над рекой, ни розовых бликов – все под ярким светом обрело и обычную форму и должную окраску; и желтые, опаленные зноем скалы, и небольшая глиняная круча, изрытая, как оспой, щуровыми гнездами, и тощий кустарник, и река в глубоких берегах, и бурые стволы сосен, и темная, обмазанная кизяком кошара – все, все было просто и обыденно.
Нечто похожее на этот зрительный обман приключилось и с Сергеем. Вся разница состояла лишь в том, что причиной исчезновения подобного обмана был, разумеется, не дневной свет, а тот памятный разговор с Кондратьевым. Именно этот разговор и заставил Сергея посмотреть на жизнь другими глазами. Проезжая по станицам и хуторам, встречаясь и разговаривая с людьми, Сергей стал замечать странную перемену: все то, что еще вчера было окрашено в розовые тона, теперь предстало перед ним совсем в ином освещении.
Он увидел картину покоя: с того самого дня, когда люди навеселе вернулись с торжественного собрания по случаю пуска Усть-Невинской ГЭС и увидели в своих хатах электрический свет, в станицах царили радость и веселье; завезенные столбы для электролиний были сложены на площади и по вечерам уже служили довольно-таки удобным местом для гулянок молодежи, – развозить эти столбы по степи никто не собирался; во дворах ферм, в полевых станах были еще в мае приготовлены кирпич, глина и песок для сооружения трансформаторных колонок, но так все это и лежало, зарастая бурьяном; электрические моторы, проволока, изоляторы как были сложены на временное хранение в кладовые, да так и остались там, уже покрывшись пылью… Словом, что только успели сделать до пуска гидростанции, то я было сделано, а после этого никто, кроме Рагулина, не сдвинулся с места. «Эге, вот оно, за что ругал меня Николай Петрович, – думал Сергей, въезжая под вечер в Родниковскую. – Непрошено и негаданно образовалось опасное перемирие… Надо кончать эту мирную жизнь, и как можно быстрее…»
Никита Никитич Андриянов встретил Сергея на освещенном крылечке станичного Совета, обрадованно пожал руку и пригласил к себе в дом. Жил Никита Никитич недалеко от станичного Совета. Приземистая, под камышом хатенка стояла в глубине двора. У входа в гонцы горела стосвечовая лампа – весь небольшой двор имеете с деревьями, курятником, сажком и сарайчиком был озарен необычайно сильным сиянием. Много было света и в комнатах, куда вошел Сергей, здороваясь с хозяйкой, пожилой и дородной женщиной.
– А погляди, Сергей Тимофеевич, как мы живем да поживаем! – сказал Никита Никитич. – Кругом светло, как днем! Не жизнь, а сплошное удовольствие… А ну, Настенька, – обратился он к жене, – включи плитку да сготовь нам ужин с чаем. Теперь все это в один миг! – и Никита Никитич подмигнул Сергею, сощурив влажные, подслеповатые глаза. – Действуй, Настенька!
– Да я лучше затоплю печку, – сказала Настенька.
– Никаких печек! Режь сало, жарь яичницу, да чтоб все мигом сычало и шкварчало и чтоб никакого дыма!
И Никита Никитич, очевидно желая показать Сергею, как все это просто делается, сам включил штепсель. Плитка зарумянилась и быстро накалилась добела.
– Сергей Тимофеевич, вот она, роскошь! – восторгался Никита Никитич. – И ты знаешь, не верится, хоть убей, не верится, что где-то там, в Усть-Невинской, крутится колесо, а у меня в доме происходит такое чудо!.. Помню, когда мы рыли канал, было дюже холодно, а теперь ишь какой жар!
Тут Никита Никитич приблизил руки к плитке, пошевелил пальцами и от удовольствия рассмеялся.
– Удобно! – воскликнул он. – Зимой и руки буду греть… А ты бы посмотрел, что делается в нашей станице! Утром, веришь, ни один дымарь не дымит, а зайди тем часом в любую хату – на столе и вареники, и картошка жареная, и горячее молоко… Бабы уже так наловчились включать штепселя – истинные электромонтеры! А жена Хворостянкина где-то раздобыла утюг… И что за канальская бабочка! Так ты веришь, эта машина ходит теперь из хаты в хату – белье бабы разглаживают по очереди. До моей Настеньки никак та очередь не дойдет…
– Ну, хватит тебе хвастаться, – сердито сказала Настенька, ставя сковородку. – Идите в горницу…
Пока готовился ужин, Сергей и Никита Никитич сидели у стола и разговаривали.
– Все это, конечно, приятно, – сказал Сергей. – И свет в доме, и плитки, и утюги – дело хорошее и нужное. Но меня, Никита Никитич, другое беспокоит…
– Какое ж то беспокойство? – участливо спросил Никита Никитич.
– Проехал я по станицам и вижу: веселимся, радуемся, а дело стоит… А через это не туда идет даровая энергия, вот в чем горе. – Сергей посмотрел на абажур, висевший над столом. – Какое главное назначение нашей гидростанции? Облегчить труд людей. А мы чем увлеклись?
– Да ты об этом особо не журись, – приглаживая бородку, сказал Никита Никитич. – Облегчение уже пришло, и люди уже довольны… Главное – чертовски культурно! Газетку можно вечерком почитать, радиоприемники позавелись чуть не в каждой хате, да и вообще по-домашнему там всякое приготовление… Или же станицу взять. Теперь у нас почти до утра песни поют. А почему? Веселая стала наша станица. Опять же почему она стала веселая? По причине электричества… А ты бы поглядел, что выстраивает наш Хворостянкин! В кабине понаделал разных кнопок, нажмет нужную штучку – заиграет звоночек, и перед Хворостянкиным уже стоит тот, кто ему нужен… Механизация, что тут скажешь!
– Плохая механизация.
– А у себя дома Хворостянкин, веришь, – продолжал Никита Никитич, – спит, чертяка его побери, а над головой всю ночь зарево сияет!
– Это зачем же? – Сергей усмехнулся.
– «Наслаждаюсь», – говорит… Он же весь день раскатывает на тачанке, тут еще у него теперь новый секретарь партбюро – Татьяна Нецветова. Подстегивает она его. Бедному Хворостянкину приходится на одной ноге поворачиваться. Он только перед сном и вникает в газету, да так и засыпает при полном освещении. Жена ругается, а он ни за что не велит гасить свет… А заведующий птицефермой в его колхозе провел электричество в курятник, – где-то он услыхал, что от электрического освещения куры яиц больше будут нести… Ну, от этого новшества петухам одно горе: не могут, бедняги, распознать, когда полночь, а когда рассвет. Горланят, бисовы души, всю ночь и от натуги даже поохрипли… Как-то раз мы с Хворостянкиным из любопытства пошли ночью на птичник и стали в щелку наблюдать. Сидят кочеты на шесте и будто дремлют. А потом – луп бельмами, а кругом светло, как днем. Испужаются, думают, что уже солнце взошло, и давай бить крыльями и орать почем зря… Комедия!
– Да, Никита Никитич, комедия невеселая. От такой комедии, вижу я, кое-кому плакать придется. Петухами забавляетесь, а дело забыли. – Сергей встал, прошелся по комнате. – Знаешь что, Никита Никитич, – я приехал к тебе ругаться.
– Это зачем же? – удивился Никита Никитич. – Разве нельзя жить мирно?
– Нельзя, – твердо сказал Сергей. – Столбы лежат на площади?
– Лежат… В полной сохранности.
– Почему не ведете линию в степь?
– Так не было ж указания!
– Какое же нужно еще указание?
– Да от района.
– А разве было указание приостановить работы?
– Так-то так, – смутившись, сказал Никита Никитич. – Оно как-то само по себе… Вроде передышки.
– Вот что, Никита Никитич, – сказал Сергей, садясь к столу, – созывай депутатов станичного Совета да приглашай председателей колхозов, бригадиров, электриков… Будем кончать передышку!
26Солнце палило нещадно, воздух был недвижим и горяч, а к низкому полдню над горами собралась гроза. Она двигалась с юга в сторону Усть-Невинской и так быстро, точно хотела опередить Виктора Грачева.
Все небо затянуло тучами: по всему горизонту они были так спрессованы в одну высоченную стену, что приобрели свинцово-синий оттенок. Виктор оглянулся и увидел: впереди грозовых туч, преграждая им путь, повисло серое полотнище – то лил дождь, и молния, играя, и вкось и вкривь прошивала водяную стену огненно-красными нитками. Все чаще и чаще доносились раскаты грома, тяжелые и тревожные. Порывисто дул ветер, и по дороге вспыхивали и кружились серые и мрачные винтовые столбы пыли. День хмурился, темнели поля…
Виктор торопился, оглядывался на это серое полотнище, смотрел по сторонам: поблизости не было ни бригадного табора, ни пастушьей кошары, ни даже копны сена, где бы можно было укрыться, – сколько видел глаз, колосья и колосья, как натянутый бледно-зеленый парус, покачивались они на ветру. «Эх, будь что будет, – подумал Виктор, – не размокну…»
Тут он стал вспоминать свое неудачное посещение Родниковской, разговор с матерью Татьяны, посещение Хворостянкина… Почему-то вспомнилась первая встреча с Татьяной, и чувство досады сменилось радостью. Это было в Рощенской. Виктор зашел в магазин купить записную книжку и увидел Татьяну. Она отбирала на прилавке книги и связывала их в пачки, затем попросила его помочь отнести покупку на двухколесный шарабан, стоявший возле магазина. Виктор охотно исполнил просьбу и, хотя она его не спрашивала, сам назвал свое имя и сказал, что он и есть тот инженер, который монтировал Усть-Невинскую ГЭС.
– А я вас давно знаю, – сказала Татьяна.
Виктор забыл о записной книжке и не ушел от новой знакомой, пока не узнал, откуда она и как ее имя.
– Приезжайте к нам в Родниковскую, – сказала Татьяна, уже отъехав от магазина. – Посмотрите, как у нас электрифицирована станица…
«И вот я побывал в Родниковской и уже возвращаюсь, – думал Виктор. – Нет, я еще к тебе приду… Вот нарочно останусь работать в районе… Эх! Радуйся, Сережа, принимаю любые твои условия…»
Виктор на ходу сорвал колос и, рассматривая еще не колкие, но уже тронутые желтизной остюки, склонил голову и задумался. Он размышлял о том, как будет руководить молодым и разбросанным по станицам и хуторам электрическим хозяйством, и видел себя почему-то не в кабинете, а на коне. Почему на коне? Он и сам не знал, но ему приятно было воображать, как он, привстав на стременах, будет ехать скорой рысью из одной станицы в другую. Коня ему где-то раздобыл Сергей, и это был такой резвый скакун, что ехать не нем шагом было невозможно. И вот Виктор, попустив поводья, влетает в Родниковскую, и конь сам поворачивает к знакомому двору с плетеной изгородью. А у калитки стоит Татьяна и машет ему платком… «А! Так вот почему я вижу себя не в кабинете, а на коне», – подумал Виктор и рассмеялся.
Виктор сжимал в ладони колос и так размечтался, что не услышал, как что-то фыркнуло и мягко зашуршало у его ног. Рядом с ним стоял «Москвич», еще совсем новенький, такой пепельно-серой окраски, что дорожная пыль на его капоте и на дверцах была совсем незаметна. Своим пепельно-серым цветом и запыленным видом машина напоминала перепелку, вылетевшую из пшеницы на дорогу. «И что это за чудо!» – подумал Виктор. Хотя тут никакого «чуда», разумеется, не было, но в первую минуту он ничего не мог понять: то гремел гром и вокруг шептались одни колосья, то, как бы слетев с неба, стоит эта «птичка». Но вскоре все разъяснилось. Распахнулись дверцы, и из машины, нагибаясь и кряхтя, вылез Стефан Петрович Рагулин. Старик, так же как и его «Москвич», был весь в пыли, зол и нелюдим и смотрел на Виктора таким отчаянным взглядом, точно поймал преступника.
– Виктор Игнатьич! И чего ты здесь, как бирюк, бродишь? – не поздоровавшись, гневно сказал он. – Я тебя весь день разыскиваю, «Москвича» загонял…
– Да что с вами, Стефан Петрович! На вас и лица нету.
– Как нету? А куда ж оно делось? – Рагулин болезненно усмехнулся и потер ладонями щеки, поросшие щетиной и покрытые пылью. – Ты на мое обличье не гляди, а зараз же лезай в машину.
– Да что случилось?
– А то самое и случилось! – сердито ответил Рагулин. – Ты обучал того старого дурня, а теперь и держи за него ответ. Наобучал на мою голову!
– Стефан Петрович, толком скажите: в чем же дело?
– В Прохоре загвоздка! – крикнул Рагулин. – Понимаешь, в Прохоре!.. Должно быть, дюже ты его переучил на мое горе… Едем зараз же, пока он там все электричество не перепортил…
Виктор больше не стал расспрашивать и залез в машину: он был даже рад случаю, что до дождя приедет в Усть-Невинскую. С ним рядом уселся и Рагулин.
– Корней, – сказал Рагулин шоферу, – припади к рулю, чтобы вмиг мы были на току.
Корней, мужчина крепкого телосложения, мордастый, с широкой спиной, с трудом умещался за рулем; Корней и сгибался и сутулился, на лице его, грустно-удрученном, проступили капельки пота. Когда он рос и набирался сил, а затем учился на шоферских курсах, то не думал и не гадал, что ему придется иметь дело с такой тесной машиной…
Желая угодить Рагулину, Корней включил скорость, задвигал плечами и, очевидно желая поудобнее сесть, в самом деле припал могучей грудью к баранке руля, и машина, похожая на перепелку, полетела по дороге среди пшеницы.
– Хорош у вас подарок! – воскликнул Виктор.
– А я тоже доволен… Истинно птица! – не без гордости заметил Рагулин. – Такая быстрая, что только дай ей крылья – и полетит не хуже самолета… Ей-богу!
Виктор не стал возражать и даже охотно согласился с тем, что такой машине именно крыльев недостает, и старик сразу подобрел.
– И главное – проворная! – продолжал Рагулин. – Как раз по моему характеру… Только зря ей дали такое имя… Оно конечно, «Москвич» и на Кубани и там, среди всякой степи, тоже почетно, слов нет, важное имя, а только я бы ее назвал «председатель». Удобная вещь для нашего брата. То я гонял пару коней, их, окаянных, пои, корми, за ними смотри, сбрую чини… Да ежели перевести все эти расходы на бензин, – куда там! Десять «Москвичей» можно содержать… А какое тебе удобство! Как я зараз действую? Залью десять литров и гоню на сто километров, а главное – быстрота! Это же для дела дюже расчетно: за день можно всю степь охватить… Вот и зараз: ты мне нужен, и я тебя отыскал… А на лошадях разве такого, как ты, шаблая отыщешь?
Стефан Петрович засмеялся тихо, с хрипотой.
– Да, на лошадях трудно, – согласился Виктор. – А что же там у вас все-таки с Прохором?
– А то, – и Рагулин вмиг помрачнел, – а то, что я не признаю такую научность. Это же не научность, а один убыток колхозу! Мы за два мотора заплатили наличными – это же тысячи! А Прохор еще и молотьбу не починал, а один мотор спалил… Одно тебе разорение, а не работа! Тот мотор, что поломался, отвезли в Пятигорск на ремонт – «Сельэлектру» тоже гони гроши: за спасибо исправлять не будут. А Прохор притащил новенький мотор, тот, что мы держали про запас, хотели приспособить на молочной ферме: силосорезку, сепаратор крутить и все такое прочее. Приезжаю я на ток, а Прохор уже приспосабливает тот мотор к молотилке. Я даю ему запрет, а он и слушать не желает. «Я тут главный электрик!» – кричит. Да черт тебя побери, будь хоть самым разглавным электриком, а только колхозное имущество не порть, не вводи людей в убыток… «Никого, говорит, знать не знаю, одному Виктору Игнатьевичу подчиняюсь». Я уже хотел смотаться к прокурору, но раздумал и решил сперва тебя отыскать… Спасибо, Соня сказала, что ты в Родниковской, ну я на своем «председателе» и помчался…
– Соня сказала? – переспросил Виктор.
– Она, она… – Рагулин закивал головой. – Эй, Корней, припадай, припадай к рулю, а то, покамест мы приедем, Прохор и последний мотор изничтожит.
Ехали быстро, Стефан Петрович продолжал ругать Прохора, а гроза тем временем не унималась и гналась за машиной с такой быстротой, что убежать от нее было невозможно. Уже удалось проскочить кукурузу и подсолнух, уже успели спуститься в ложбину, – тут, на пригорке, совсем близко стояла молотилка, видны были столбы, трансформаторная колонка и вагончик, но добраться туда путникам нашим не было суждено. Крупный, наискось падавший дождь грозно застучал по кузову, потом зашел сбоку и попробовал крепость стекол, и тогда уже пошел плясать по дороге так, что только пыль вспыхивала, скручивалась в комки и сразу чернела.
Не успел Корней переключить скорость, намереваясь с разбегу взять невысокий пригорок, как туча всей своей тяжестью упала на поля, и «Москвич» затерялся в ливне… В какую-нибудь минуту пыль превратилась в грязь, с пригорка потекли ручьи, колеса забуксовали, и Корней, как ни старался придать бодрости «Москвичу», ничего не мог сделать. Машина не только не двигалась вперед, а уже сползала назад, мягко, точно на полозьях. Тогда Корней выключил мотор, потянул к себе ручной тормоз, и когда колеса залезли в грязь и остановились, он посмотрел на Рагулина большими и грустными глазами, как бы говоря: «Птица-то она птица, а вот не летит».
– Да, – задумчиво проговорил Рагулин, – для этой птахи нужны дороги…
А ливню, очевидно, не было никакого дела до того, что какой-то там «Москвич» обессилел и не мог двинуться с места. Водяная стена быстро пронеслась по степи, и дождь теперь уже разгуливал где-то за горой. День прояснился, и умытая, свежая степь выглядела совсем молодо. Каким-то чудом сквозь тучи проскользнул луч солнца, по небу изогнулась радуга, упираясь одним концом прямо в Кубань, а другим – в далекий и чуть приметный на взгорье лес.
– Ну, птица, лети!
Рагулин тихонько рассмеялся, затем снял черевики, шерстяные носки, закатал штанины и открыл дверку. Виктор последовал его примеру.
– Эта машина еще чем выгодна, – говорил Рагулин, загрузая в грязь выше щиколоток, – что легкая. Не захотела двигаться, так мы ее на руках понесем. Ну, взялись все разом!
Корней завел мотор. Машина откатилась назад, а потом рывком двинулась вперед, немного разбежалась, а в самом ответственном месте Виктор и Рагулин вцепились в нее руками; упираясь сильными ногами в вязкую грязь, толкали машину изо всех сил.
А через полчаса они подъехали к вагончику.
Прохор Афанасьевич Ненашев стоял в дверях и горестно смотрел на приезжих.
– Ну, механик, что ты тут еще натворил? – спросил Рагулин, очищая с ног грязь и откатывая штанины.
– Виктор Игнатьевич, – заговорил Прохор, не отвечая Рагулину, – ничего тут такого страшного нету… Правда, по моей оплошности случилась неудача, сгорел мотор, но то пустяк, быстро исправим… А вот душа у меня болит насчет опыта… Не могу успокоиться, чтоб еще раз себя не проверить.
– А зачем взял новый мотор? – спросил Виктор.
– Чтоб проверить и успокоиться, – смело ответил Прохор. – Ругаю себя, ночи не сплю… Надо же еще раз испытать?
– Ты мне брось испытывать, – сказал Рагулин. – Ишь какой испытатель нашелся!.. Запрети ему, товарищ Грачев, вытворять эту глупость.








