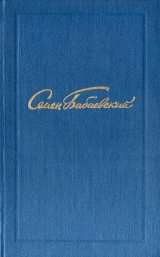
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 2"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц)
Все в станице знали, что Игнат Савельевич Хворостянкин любит утренний сон, любит понежиться, лежа в нагретой постели. Во всякий день он просыпается в те часы, когда сквозь щели ставни нитями тянутся лучи, и ему тогда бывает особенно приятно полежать, закрывши глаза и решительно ни о чем не думая… Вот по этой причине Хворостянкин обычно приходил в правление, когда солнце уже давно гуляло повыше деревьев. Он встречался с людьми, здоровался и при этом говорил: «А я уже смотался на свиноферму и вот малость подзадержался…» – или: «На заре из райсельхозотдела звонили, прямо с постели подняли, и проговорил все утро… Никак не мог оторваться от телефона…»
В этот же раз или ему плохо спалось, или у него возникли какие-то важные и неотложные дела, только наш Хворостянкин не стал дожидаться восхода солнца и явился в свой кабинет в тот самый час, когда на землю падала роса, а на востоке только-только начинало сереть. Станица еще спала, а в ложбине, между двух гор, беспечно покоился белый туман, похожий на пену в огромном чане, куда сливают парное молоко. В это время, удобно растянувшись на лавке, правленческий сторож «тянул зорю», задавая такого сочного храпака, что в окне звенело стекло.
Покой сторожа был, разумеется, нарушен.
– Эй, сонное царство! Давай мне сюда Бородулина! – крикнул Хворостянкин.
Сторож, которому еще виделись сладкие сны, соскочил с топчана и в один миг исчез за дверью… Прошло очень мало времени, и на пороге вместо сторожа вырос, протирая свои пухлые веки и еще толком ничего не понимая, Антон Антонович Бородулин. Хворостянкин не подал ему руки и не подарил улыбки. Тут было не до улыбок и рукопожатий. Он посмотрел на своего секретаря таким гневно-жалостливым, измученным и изнуренным взглядом, точно хотел сказать: «Эх ты, Антон Антоныч, спишь себе спокойно под боком у жены, а я тут один за всех страдаю!..»
Ничего подобного, конечно, Хворостянкин не сказал: он был горд и не желал унижать себя в глазах Бородулина. Он молча сел за стол и приказал поднять с постели главного бухгалтера Тимошина Петра Акимовича, завхоза Евдокима Новодережкина, кладовщика Гордея Левушкина и заведующего кооперативным магазином Ивана Шамрая. Бородулин хотел было спросить, по какому случаю понадобились эти люди в такую раннюю пору, но тут он краем уха услышал, как Хворостянкин, подойдя к окну и глядя на побелевшее небо, задумчиво, как бы про себя, сказал: «Так, так… Значит, я уже стал ржавчиной… на мой авторитет посягает… Ржавчина – ишь что придумала!.. А я не сдамся и, пока нахожусь тут, у руля, за себя постоять сумею… Хоть десять партбюро подавай, не подчинюсь!» После этих слов Бородулину сразу все стало так ясно, что спрашивать ни о чем уже не следовало.
– Именно, именно, Игнат Савельевич, – только и проговорил он озабоченно и вышел.
И не более как через полчаса Бородулин открыл дверь и сказал:
– Явился Новодережкин… Впущать?
Хворостянкин в знак согласия кивнул головой.
Евдоким Новодережкин, мужчина низкорослый, коренастый, с широкими плечами и короткими, но сильными руками, переступил порог и, не зная, по какому делу его вызвали, снял картуз и стоял молча. Его маленькие, проворные глаза с каким-то особым любопытством смотрели на тяжело сидевшего за столом Хворостянкина.
– Евдоким, здравствуй… Не ругай, что так рано поднял. Садись, садись… Есть дело – вот и сам не сплю и другим не даю.
Евдоким присел на стул и так посмотрел в окно, как бы желал узнать не то, зачем его позвали, а то, скоро ли начнет рассветать. «Чего-то взбудоражился? – подумал он. – Не иначе Татьяна уже его зануздала…»
– Евдоким Максимович, ты во всяком деле есть моя правая рука, – льстивым голосом заговорил Хворостянкин, тоже взглянул в окно и по белым листьям тополя заметил, что рассвет уже был близок. – К тому же ты член правления, завхоз, а раз так, то я и рассчитываю на твою полную поддержку…
Казалось, Новодережкин не слушал – по-прежнему его взгляд и внимание были прикованы к окну, за которым рисовались первые отблески зари. Сидел он все так же молча, думая: «Так я и знал: помощь моя понадобилась… Значит, она его уже зануздала… и мабуть дала шпор…»
– Хотя ты человек и беспартийный, – продолжал Хворостянкин, тоже на какую-то минуту залюбовавшись роковыми бликами зари, – но у меня секретов от тебя ни бывает, особенно ежели это касается нашего колхоза… Так вот я тебе и скажу: вчера почти до полуночи мы мордовались на закрытом заседании партийного бюро… теперь уже под началом Нецветовой… Скажу тебе, дюже горячее было заседание! Я один, а они как будто сговорились против меня…
– Знать, здорово критиковала? – спросил Новодережкин, продолжая поглядывать на всполохи зарницы.
– Кто?
– Да она… Татьяна.
– А-а… Да, было дело. – Хворостянкин махнул рукой. – И если бы она одна, то я бы ей рот мигом закрыл… А тут на ее сторону стала Аршинцева, а у этой, ты же знаешь, какой язычок! Не язычок, а рашпиль!
– Знаю, знаю: жох баба!
– А тут еще и Кнышев за баб. Член партбюро, человек почетный, а в политике не разбирается… Да… И как взялись, как взялись, так, ты веришь, меня аж в пот бросило!.. До утра через это волнение глаз сомкнуть не мог.
– Что же поделаешь, движение, – с усмешкой сказал Новодережкин, видя, что верхушка тополя уже стала совсем белая.
– Это ты о чем?
– Как о чем? Разве ты забыл? Сам же клянешь, ругаешь на чем свет стоит, а после всего и говоришь: «Не обижайся, Евдоким Максимович, – критика, она человеку на пользу, от нее наше общее движение…» Вот, видно, и Татьяна решила тебя двигать…
– Ты насмешечки не строй! – гневно сказал Хворостянкин. – Критика критике – рознь. А тут была не критика, а угробление авторитета… Ежели старший по долгу службы за дело покритикует – та критика полезная… Она движет… Понимаешь? А Нецветова разве по этим принципам действует? Не по этим! Она меня критикует! Молодая еще мне указывать. Знаю, решила себя перед Кондратьевым проявить – вот и критикует… И ты знаешь, до чего она докритиковалась? Вздумала мною, Хворостянкиным, управлять! Да разве нашему государству нужна такая критика? Без моего согласия и без всякого согласования вынесла на бюро вопросы: во-первых, требует немедленно сооружать передвижные детские ясли, чтоб все это стояло на колесах и по полю двигалось. Бабы ей уже наговорили, что станичные ясли не годятся, что нужны такие, чтобы ехали по степи, как поезда по рельсам, – куда матеря, туда и детки… Ишь куда хватила! Второе: в срочном порядке требует от меня купить кинопередвижку – ту, что картины показывает. В общем, конечно, дело хорошее, кто из нас против культуры, а где взять денег – ее это не интересует… Ей это требуется для усиления партработы, а мне требуется финансовая дисциплина… Третье: в одну душу наседает на меня и требует, чтобы я создал лесную и водную бригады. А зачем же такая спешка? И разве это – дело парторга?.. В-четвертых, настаивает торговать в степи. Ну, скажи, Евдоким, разве это не женская прихоть?! Да какая же в поле торговля? А я знаю: ей не торговля нужна, а эффект в партработе. В поле универмаг – вот чего ей хочется! А в-пятых, – это она уже вежливо, – вроде как бы рекомендует мне, чтобы я снял с бригады Прокофия Низовцева – моего лучшего бригадира – и чтобы послал его рядовым на сеноуборку. А скажи, Евдоким, за что ж человеку такое наказание? Только за то, что он с бабами в своей бригаде малость вольничает!..
– У него эта замашка есть, – сказал Евдоким. – Бабам в его бригаде живется неспокойно… Бугай!
– Знаю, знаю, что есть у него такая замашка, сказать, – в любовном деле несдержанность, – Хворостянкин невесело, через силу усмехнулся. – И бабам неспокойно, верно… Ну, а скажи, Евдоким, как ты есть сам мужчина, с кем этого греха не бывает? Да и бабы наши в этих делах, слава богу, тоже с замашками… Так зачем же на этой почве лишаться лучшего бригадира и примерного хозяина?
– И все же, что там записали, на бюро? – спросил Новодережкин, которому, очевидно, надоело слушать жалобу своего друга.
– Записали все против меня. – Хворостянкин поднялся и, сутулясь и поеживаясь, сжал кулаки. – Но я свою правоту докажу! Не тут, а там, в районе… Сегодня же поеду к Кондратьеву и скажу: я не Чапаев, и мне комиссар, да еще в юбке, не нужен! Кондратьев меня поймет…
– А ты не горячись, – рассудительно проговорил Новодережкин. – Тут, как я понимаю, горячиться не нужно… Да и с жалобой погодил бы…
– Хорошо, горячиться не буду, – сказал Хворостянкин и сел на свое место. – Давай поговорим спокойно. А дальше что? Вот ты, как завхоз и член правления, мой бессменный зам, скажи: как же мне не горячиться и не жаловаться? Чтобы все закупить и чтобы сразу оборудовать те дома на колесах, поделать кроватки, пошить одеяльца и все такое прочее? Это же тысячи нужны, а где они? Где?
– Ежели хорошенько поискать, то тысячи и найдутся.
Хворостянкин не ждал такого ответа. Не зная, что сказать, он встал и начал расхаживать своими широкими и тяжелыми шагами.
– Значит, и ты, Евдоким Максимович, против меня?
– Господь с тобой, Игнат Савельевич, – проговорил Новодережкин и тоже встал. – Я всегда и целиком за тебя, а только не пойму, как же так… Партбюро решило, а мы это решение не выполним… не подчинимся? Как-то непривычно… Не было еще такого… Я вот и беспартийный, а привык, ежели партбюро решило, то я всей душой.
– Да то же не бюро решило, а Нецветова! – продолжая расхаживать, сказал Хворостянкин. – Это ее прихоть! Какое ж тут бюро?
Тут Хворостянкин положил руку на плечо своего завхоза, повел его к двери, выходившей на балкон. Они стояли и, казалось, ни о чем не думали, а только любовались зыбким туманом, висевшим над станицей.
– Евдоким Максимович, – заговорил Хворостянкин, – привычка твоя исполнять решения партбюро – дело хорошее… Значит, ты есть беспартийный большевик… Нежели ты есть такой большевик, то иди и приготовь мне письменную докладную о наших хозяйственных возможностях по части строительства движущихся детских яслей и покупки кино… только в том разрезе, как мы зараз говорили… Я буду у Кондратьева, и мне нужен такой материал…
– Докладную я писать не умею…
Новодережкин с минуту постоял молча, посмотрел на смоченные росой листья тополя, а потом зло взглянул своими быстрыми глазами в лицо Хворостянкина и, не сказав ни слова, вышел.
– Впускать главбуха? – спросил Бородулин, появляясь в дверях.
«Это что же, – думал Хворостянкин, – и Евдоким от меня отворачивается… Мой бессменный зам… и такое непослушание…»
Вошел Петр Акимович Тимошин, мужчина высокий, грузный, с большой и немного полысевшей головой. И его спокойная походка, и самоуверенный взгляд крупных глаз, и подчеркнуто гордое выражение лица как бы говорили: «Я главный бухгалтер «Красного кавалериста» – это надо всегда помнить, и если я пришел в такое раннее утро, значит, я исполняю свой долг…» Он не сразу сел на стул, а немного постоял, поправил пиджак, погладил плешивую голову и только тогда уселся и тут же вывел пальцем на столе какую-то цифру. Все время, пока Хворостянкин, как он говорил, «в общих чертах» излагал суть дела, Петр Акимович молчал, а его указательный палец все быстрее и быстрее писал на столе какие-то цифры…
Хворостянкин привык откровенно говорить только со своим завхозом. Поэтому главбуху он не сказал ни о решении партбюро, ни о своем намерении жаловаться в район. От главбуха ему нужно было получить всего лишь небольшую справку, в которой говорилось бы о том, что в колхозе «Красный кавалерист» ни на строительство передвижных детских яслей, ни на покупку киноаппарата деньги в этом году сметой не предусмотрены.
– Такую справку я, как отвечающий головой за финансовую часть, подписать не смогу, – сказал Тимошин, старательно выводя на столе цифру за цифрой.
– Почему? Что с тобой, Петр Акимович?
– Не имею на то полномочий… Ты же, Игнат Савельевич, знаешь, что общее собрание, ежели пожелает, может ассигновать любые средства. Так как же я могу писать справку?
– А я знаю, что такие суммы не предусмотрены, и через собрание проводить их не будем… Понятно?
Тимошин не ответил и встал, и в его смелом взгляде и в осанистой фигуре опять можно было читать: «Я главный бухгалтер «Красного кавалериста», и ты меня не учи, я все законы очень хорошо знаю».
– Такую справку я не подпишу.
Эти слова Петр Акимович повторил негромко, но с чувством личного достоинства и вышел. «Сатанюка гордый, – со злобой подумал Хворостянкин. – Индюк, законник…»
Дверь резко распахнулась, и в кабинет не вошел, а влетел Иван Шамрай, молодой, жизнерадостный, с гладко выбритым, напудренным лицом и с курчавым русым чубом. Он слушал рассеянно, и его веселые глаза как бы говорили: «Эх, Игнат Савельевич, и что это у вас такой скучный разговор?» Когда же Хворостянкин стал рассказывать о постройке вагона-магазина, Шамрай привстал и насторожился.
– Дорогой Игнат Савельевич, люблю и ценю, как друга! – крикнул он, схватив руку Хворостянкина. – Именно торговля в степи, на лоне природы – красота! Давно мечтал! Вагон-коробейник едет по простору – это же здорово!.. Сегодня я доношу Рубцову-Емницкому. Как он обрадуется!
– Да ты погоди доносить и радоваться, – сказал Хворостянкин. – Не петушись… Такой вагон нельзя построить! Где материалы! Где рабочая сила? Где деньги?
– Про это не могу знать.
– Вот то-то… – проговорил Хворостянкин, подумав: «Вертихвост какой-то». – Ты вот что, напиши мне свои соображения насчет невозможности степной торговли…
Он проводил Шамрая и тут же на дороге встретил кладовщика.
– Садись, Гордей… Выспался?
Левушкин сел, утвердительно кивнул головой. Это был мужчина невысокого роста, сутуловатый, с животом, на котором, подцепленный к поясу, постоянно висел, позвякивая, пучок ключей всех размеров и всех сортов. «Ключник, злой разлучник… Этот все сделает, – куда поверни, туда и пойдет…»
Хворостянкин кашлянул и сказал:
– Гордей, нужна письменная докладная.
– Могу любую изделать, – ответил Левушкин, поворачивая ладонь, как лопаточку. – Тебе, Игнат Савельевич, так или эдак?
– Погоди, выслушай, – сказал Хворостянкин, а про себя подумал: «Ай, мот, ай, мот, свет таких еще не видал!.. Нет, по всему видно, надо его побыстрее выкурить из кладовой…»
– Понимаю и вполне, – кратко отвечал Левушкин, когда Хворостянкин в двух словах сообщил ему, что от него требуется. – Белую материю, каковую мы на простыни покупали, можно припрятать… Строительный материал тоже… Сказано, ничего такого нет, – и, значит, нету…
Тут он усмехнулся, но так заискивающе-противно, что Хворостянкин скривился:
– Ну иди, иди…
И Хворостянкин, оставшись один, склонился над столом, ощутив в отяжелевшей голове неприятный шум. «Один радуется и ни черта не смыслит, другой собой гордится, третий уже не подчиняется, – думал он, чувствуя резь в глазах. – А этот все может… И меня, ежели доведется, продаст за грош…»
– Игнат Савельевич, а я все слышал…
Хворостянкин поднял отяжелевшую голову и увидел у стола Бородулина. Тот щурил глаза.
– Ну и что? Чего ты по-кошачьи жмуришься?
– Не советую, Игнат Савельевич, кипятиться и шуметь, – он лег грудью на стол, и глаза его совсем закрылись. – На друзей не надейся – подведут… Что они тебе говорили? Один Левушкин готов и в огонь прыгнуть, да что толку от этого дурака?.. Да и то сказать: партбюро – это что, оно было закрытое. Поругали там тебя втихомолку, и никто не слышал… Тайна. А ежели Татьяна вынесет весь этот сор из избы да поставит на общее собрание колхоза, – а она это сделает, убей меня бог, сделает! Тогда что? Да с тебя клочья будут сыпаться… А зачем прежде времени подвергать себя опасности? Татьяну, ежели что, можно и по-другому усмирить… по-мирному, без критики. Баба!
– Ты так думаешь?
– И думаю, и советую.
– Эх, ты, не Антон Антонович, а черт с кошачьими глазами!
Хворостянкин толкнул кулаком секретаря в грудь и рассмеялся. Он хотел еще что-то сказать, но в это время, не постучавшись, вошла Татьяна.
– И что же, Игнат Савельевич, – сказала она, – будем созывать заседание правления или начнем не на шутку ругаться? Говори прямо!
Хворостянкин успел краем глаза посмотреть на Бородулина, тот совсем незаметно моргнул и повел бровью.
– А чего же нам ругаться? – любезно заговорил Хворостянкин. – Только, Татьяна Николаевна, так же нельзя, ей богу, нельзя, но годится. Тут же мужчины, а ты вошла и не поздоровалась… Нехорошо, не по-казачьему… Сперва да поздороваемся… Вот так… А рука у тебя хоть и маленькая, а крепкая… Эй, Антон Антонович, – обратился он к Бородулину, – чего ж ты сидишь? Я же тебе давно говорил: созывай на вечер правление с активом, да пригласи и бригадиров.
Он улыбнулся Татьяне, точно говорил: вот, мол, я на все согласен и дела у меня горят… Пододвинул Татьяне стул, попросил садиться.
37Кондратьеву хотелось теперь же, никому не доверяя, еще раз самому посмотреть и уточнить план не в кабинете, а, так сказать, на местности. Ему нужны были более точные данные о наличии в районе лесопосадочного материала, и по этой причине он решил побывать на Чурсунском острове, куда он еще ни разу не заглядывал. Требовались полные данные о том, где и как будет добываться строительный камень, и Кондратьев наметил себе выезд к горе Очкурке – к месту, очень богатому светло-серым, с искрой, известняком: необходимо было на месте просмотреть, как лучше устроить разработку и какой дорогой удобнее всего вывозить каменные плиты. Кроме того, ему пришла мысль взять, как он говорил, «на выдержку» один колхоз и повнимательнее изучить и его финансовые возможности, и его рабочую силу: сколько человек можно послать на посадку леса и на строительство водоемов. Выбор его почему-то пал на отдаленный хуторской колхоз «Дружба земледельца». Еще интересовали Кондратьева малые горные реки, воду которых предполагалось направить во вновь сооруженные проточные водоемы.
С этой целью Кондратьев и предпринял поездку по району. Вначале он побывал возле горы Очкурки и установил, что место для каменоломни есть очень хорошее, но что к самой Очкурке неудобный подъезд: необходимо расчистить и в нескольких местах расширить дорогу. Затем проехал берегом Невинки, осмотрел заводи, овраги, лески и кустарники, камыши и низины и, направляясь в «Дружбу земледельца», спустился на поля Усть-Невинской. Тут, под горой, совсем случайно встретилась ему вереница быков – пар шесть, не меньше! Запряженные цугом, они тянули грузный и неуклюжий, на широченных колесах локомобиль со склоненной трубой, издали похожей на дуло орудия. В воздухе взлетали кнуты, а погонычи, подымая шум и гам, изо всех сил погоняя уже мокрых и сильно приморившихся быков, выкрикивали на разных тонах: «Гей-гей! Цоб! Цобе! Цоб! Гей-гей!» На средине подъема крик погонычей стал сильнее, и быки, ложась на ярмо, от чрезмерной тяжести становились на колени, а железная гора с черной трубой не двигалась с места.
– Клинья! Клинья кладите под колеса!
И когда Кондратьев велел своему шоферу остановиться, деревянные, с железной оковкой клинья уже были положены под задние колеса, от чего натянутая струной цепь ослабла и мокрые быки, тяжело и порывисто дыша, остановились, понуря головы.
Локомобиль был очень стар, и казалось, что за свою долгую жизнь он износился и измучился: все его тело покрылось синяками и подтеками; всюду лежали застаревшие латки, рубцы и шрамы, конопатые следы от ржавчины, и только один медный свисток был так начищен, что пламенем горел на солнце.
Трое мужчин – те, что подкладывали под колеса клинья, – покашливая, подошли к Кондратьеву. Двое из них оказались Кондратьеву незнакомыми, а третий был Стефан Петрович Рагулин – старик все такой же живой и проворный, с засученными рукавами и со сбитой на затылок кепкой.
– Хороший нам достался паровичок, – сказал он, здороваясь с Кондратьевым, – только малость тяжеловатый…
– Куда вы его буксируете?
– Везем к себе… – Рагулин наклонил голову и, разговаривая, не смотрел в глаза секретарю. – Поставлю рядом с молотилкой… Пусть стоит… На всякий случай.
– Какая ж в том надобность, Стефан Петрович? Или вы не верите в электричество?
– Верить-то мы верим. – Рагулин поскреб затылок, – а только на всякий случай невредно иметь паровичок, как бы для подмоги… В электричество-то и я лично верю, а вот в ученость своего Прохора не верю… Спалил же мотор!.. А ежели такое несчастье случится в разгар молотьбы?
– Зря, Стефан Петрович, стараешься, – сказал Кондратьев, – по виду это такой паровик, что в случае какого несчастья из беды не выручит… Только напрасно быков надрываете.
– Быкам трудновато – это да, – задумчиво проговорил Рагулин. – Надо было трактором зацепить эту сатанюку. Я просил, а Чурилов не дал… «Паровик, говорит, бери, он тебе здорово пригодится», – а трактор на переброску пожалел…
– Николай Петрович, – заговорил все время молчавший моложавый на вид мужчина, русоголовый, с острым носом и блестящими серыми глазами, – вот вы спрашивали, дескать, верим или не верим мы в тот моторчик, что примостился на молотилке? Понимаю, вам, как секретарю райкома, хочется знать, как люди смотрят на электричество… Буду про себя говорить. По специальности я машинист, вырос возле этого локомобиля и скажу откровенно: в электричество я верю, сила в нем большая, и в будущей нашей жизни оно сыграет свою роль, а вот во многом все-таки сомневаюсь… Есть в душе нерешенные вопросы… Ну, электричество – это пустяк, мы его уже в этом году освоим, и никаких сомнений не будет… А взять вопрос политический. Сказать так: я машинист локомобиля, активно строю коммунизм и сам лично верю в эту победу, а только во многом сомневаюсь, сами по себе подымаются вопросы, а ответить на них не могу… Вот это загадка!
– Какие ж у тебя сомнения и вопросы? – спросил Кондратьев.
– Егор, да погоди ты со своими вопросами! – гневно сказал Рагулин и обратился к Кондратьеву: – Николай Петрович, давайте решим такое сомнение: как нам и быков сберечь и паровик на гору вытащить?
Машинист отошел в сторонку, обиженно поглядывая на Рагулина. Кондратьев хотел что-то ответить Рагулину и потом заговорить с Егором, но в эго время послышался стук копыт о сухую землю – к ним на рысях подъехал Андрей Васильевич Кнышев. Не слезая с коня, старик поприветствовал Кондратьева и Рагулина, потом снял с плеч бурку и не по летам молодцевато соскочил на землю.
– А я, Стефан Петрович, спешу к вашему коневоду, – сказал Кнышев. – К молодому еду за советом… Найду его дома?
– Должен быть на месте, – сказал Рагулин, озабоченно посматривая на быков.
Кондратьев вынул коробку папирос. Все закурили.
– Стефан Петрович, – сказал Кондратьев, – тут недалеко, я видел, стоит тракторный отряд. Пошли на моей машине разбитного паренька: надо пригнать трактор. Я напишу бригадиру, думаю, поможет. А быков распрягайте и пускайте на выпас…
Стефан Петрович, казалось, только этого и ждал. Он сам взялся выполнить поручение Кондратьева, и расторопный мальчуган быстро был найден среди погонычей. Парень с достоинством взял у Кондратьева записку, сел рядом с шофером, и машина, сделав по косогору круг, скрылась за бугром. А стоявшие возле локомобиля все разом, как бы по уговору, отошли в сторонку и уселись на траву. Тут табачный дым всем показался еще слаще – над головами вился сизый туман. Андрей Васильевич Кнышев, заметив, что собирается неплохая компания, что тут будет с кем поговорить, тоже решил немного отдохнуть: он привязал повод коню к ноге и, расстелив бурку, прилег возле Кондратьева на бок, как ложатся табунщики.
Минуту или две курили молча, очевидно наслаждаясь папиросами, и каждый раздумывал, о чем же начать разговор. Кондратьев искоса посматривал на Егора, – было видно, что он желал встретиться с ним глазами, но машинист, подперев руками подбородок, курил и задумчиво смотрел на косогор, по которому уже паслись быки.
– Егор, так ты и не сказал, – заговорил Кондратьев, отыскав в траве лиловый цветок чебреца, – какие у тебя возникают сомнения и нерешенные вопросы?
– Тогда меня Стефан Петрович перебил, – ответил Егор, выпуская ноздрями дым, – а теперь уже как-то неохота возобновлять этот разговор.
– Почему же неохота? – Кондратьев сорвал еще один цветочек чебреца и стал рассматривать его со всех сторон.
– Как раз и время для таких разговоров, – вмешался Рагулин, – все одно сидим без дела…
– А сумеете ответить? – Егор смело, в упор посмотрел Кондратьеву в глаза.
– Постараюсь, – сказал Кондратьев, собирая в руке уже пучочек чебрецовых цветков.
Егор приподнялся, подогнул ногу, жадно затянулся и, бросив папиросу, сказал:
– Только отвечайте не вообще, а с примерами… Теоретически я и сам кое-что понимаю, а вот чтобы реально… Сумеете реально сказать?
– Это уже смотря по тому, какие будут вопросы.
Егор сорвал крупный и сочный лист подорожника и, рассматривая его, будто желая там что-то прочитать, некоторое время сидел молча. Стефан Петрович и Андрей Васильевич в это время переглянулись. Подошли погонычи, уселись поодаль и тоже приготовились слушать.
– Вопрос простой, – сказал Егор, – как мы будем жить при коммунизме?.. Для меня это вопрос сурьезный, и такой вопрос ныне у всех на уме… Послушайте, что люди говорят…
– А ты слышал?
– Доводилось…
– Ну, и что же они говорят?
– Разговор, конечно, бывает разный. Не могут себе представить.
– А как ты сам, можешь?
– Теоретически могу, а чтобы представить себе реально… Как будем трудиться?
– Эх ты, машинист! – сказал Рагулин. – Тогда будешь стоять на такой работе, какая по твоим силам и по твоему уму, а получать столько, сколько потребуется. Вот тебе и весь ответ.
– Да я это знаю, агитаторы сказывали. – Егор разорвал лист подорожника на мелкие кусочки. – Теоретически опять вроде как бы и получается. Ну, а на практике, кому, скажи, охота будет на практике трудиться, стараться, вот как зараз мы стараемся, когда можно работать так себе, с прохладцей, – все одно получай не свое кровное, заработанное, а сколько хочешь. – Егор развел руками. – Какая же это жизнь? Никакого тебе стимула!..
– Вот о чем беспокоится! Да стимул, тот уже и зараз есть, – отвечал Рагулин. – Ты, Егор, хоть и считаешься образованным человеком, машинист, вроде бы из интеллигенции, сказать, там разную технику знаешь, а в простой нашей жизни ничего не смыслишь…
– Как так не смыслю? – с обидой в голосе буркнул Егор.
– А вот как… Ты погляди на наших людей, и тот стимул у них увидишь. Скажи, разве мы зараз для личной наживы всюду такой горячий труд применяем? Допустим, взять меня. По своим летам я бы давно мог лежать на печи и, как говорилось в старину, поплевывать в потолок. А я не лежу. И не простую работу исполняю, а колхозом руковожу… А почему я не иду на покой? Да потому, что не могу жить без дела… А что это такое есть, объясни? Не можешь… Это и есть тот самый новый стимул, с каким мы и войдем в коммунизм… Или мой ровесник Андрей Васильевич – вот сидит с нами. Почему он при старости лет джигитует на коне и там разную новую конскую породу выращивает? Что у него, или горе какое, или нужда? Или он на этой новой породе миллионы наживает? А человек трудится, да еще и как трудится! Вот тебе, Егор, и стимул! И те наши девчата-стахановки, которые день в день борются за высокий урожай, – разве это тебе не новый стимул? А те передовые рабочие, что свою пятилетку на три года вперед решают, – разве это не стимул? А таких людей у нас мало? Посмотри хотя бы на наш колхоз…
Стефан Петрович хотел было на примере своего колхоза полнее развить мысль, но в это время, точно из глубины земли, долетел глухой гул и на горе показался гусеничный трактор в сопровождении легковой машины. Стефан Петрович пообещал Егору в другой раз поговорить на эту тему, и все встали…
Когда локомобиль покатился за трактором, оставляя на рубчатом гусеничном следу широкий оттиск своих колес, Кондратьев, уже сидя в машине, записал себе в блокнот: «Новый стимул труда… Тема для беседы с агитаторами…»








