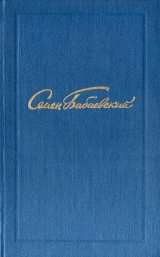
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 2"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 41 страниц)
Следом за снегом пришли морозы с ветрами. Берега реки затянулись в хрупкие пояски, обмелевшая вода неторопливо уносила островки крупчатой кашицы льда. Снег, теперь уже сухой и колкий, заметал ложбины; в степи, там, где еще вчера сажали молодой лес, гуляла вьюга, закрывала озябшие веточки саженцев, как бы желая потеплее упрятать их в свою белую шубу, все теперь видели, что зима не на шутку улеглась в верховьях Кубани.
В станицах приход ее был встречей, как всегда, радушно. Улицы были людные. Игрались свадьбы, – не было такого воскресенья, чтобы через площадь вихрем не пролетали свадебные поезда из трех-четырех саней в резвой конной упряжке. Обычно на передних санях, как раз над головами жениха и невесты, трепетало знамя, а лошади были в таком разноцветном убранстве, что диву даешься: вся сбруя в самодельных бумажных цветах, а в гривах, как в косах, в шесть рядов заплетены ленты; песни, пляски под гармонь не умолкали до вечера. А вечером к родителям жениха степенно сходились гости, несли буханки хлеба в рушниках, и какой-нибудь усатый дядько, полевод или бригадир, проработавший со своей женой в колхозе добрых двадцать лет, подавал хозяину перевязанную рушником буханку и говорил басом:
– Люди добрые! Вот вам мое и моей жены заявление – прошу принять нас в колхоз. За нашу характеристику не беспокойтесь: мы люди старательные, работящие.
Под веселый смех раздавались выкрики:
– Принять единогласно!
– Пишите в протокол!
– Пусть они сперва устав нашей жизни изучат!
– Мы этот устав на практике знаем!
– Принять, какой разговор!
Затем усатого дядьку и его жену сажают к столу, уже уставленному всяким съестным добром.
С приходом зимы широкой и хорошо утоптанной лежала снежная дорога в станичный клуб; сегодня тут кино или лекция, завтра спектакль с танцами или собрание; не было такого вечера, чтобы в клубе не толпился народ.
Все это, разумеется, было явлением обычным – и свадьбы, и кинокартины, и лекции, и собрания повторялись из года в год. Однако нынешняя зима вместе с первым снегом принесла в станицы новшество: были установлены «электрические дни», популярность которых росла все больше и больше. У одних, как, например, устьневинцев, таким «электрическим днем» был понедельник, у других, как у яманджалгинцев, – среда и т. д. В эти дни, один раз в неделю, проходили занятия технических курсов. В каждой станице к ним готовились. Накануне в том классе школы, где собирались курсанты, мылись полы, в патроны завинчивали стосвечовые лампы. Приезда инженера Грачева поджидали с утра. Он же обычно появлялся у крайней улицы на своем сером коне перед вечером, и станичная детвора гурьбой провожала его до школы.
В класс, освещенный двумя лампами, пропускали только курсантов по списку; они усаживались за парты, раскладывали тетради, книги, вынимали карандаши, – движения их рук, задумчивый взгляд, весь их сосредоточенный вид говорил о многом. Те же, кто не числились в списках и приходили сюда из любопытства, вынуждены были оставаться в коридоре и оттуда в открытую дверь слушать лекцию Грачева. Большей частью это были старики. В коридоре они чувствовали себя свободно – можно было, распахнув полы тулупа, присесть к стенке или на подоконник и покурить и перекинуться словами по поводу услышанного. Однако живое и детальное обсуждение очередного занятия старики начинали уже по пути к дому.
– Эх, научность, научность! И где ж ты была в ту пору, когда я был молодым?
– А у меня, сват, и зараз есть к тому тяга.
– Да тяга-то, она есть и у меня, да сил уже нету. Это как один старик, совсем уже древний, решил жениться… Так вот тяга у него тоже вроде б то и была…
– Да брось ты про ту женитьбу…
– Слыхали! Ты лучше скажи, какие это он бублики мелом рисовал?
– То, Аким Иванович, не бублики, а кольца.
– Хоть и кольца, а к чему они?
– Такое сцепление… Цепь видал?
– А я так понимаю: выговорить чего-то Грачев не смог, – так взял для наглядности и нарисовал.
– Чудак, Савелий Кузьмич! Те кольца показывали, как электричество идет… Оно ж невидимое, а нарисовать его все же можно.
– Ишь ты, какая штука!
– Сват, а скажи на милость: ежели всю нашу жизнь, к примеру, перестроить на электрический лад, и чтобы люди – стало быть, все мы – никакой тяжести не подымали, и за них все машина делала…
– Что ж тут отвечать? К тому идем.
– Да я вижу, что идем, а что будет, когда придем?
– Будет облегчение, известно.
– Ну, сказать, как же без быков?
– И чего ты за чертей рогатых цепляешься – не надоели они тебе?
– Есть у меня внук, на шофера учится. Собой еще молодой, но до чего по технике идет здорово! Поговори с ним – это же какая жизнь у него ожидается!
В Усть-Невинской таких любопытных тоже было много, и среди них постоянно находился, в валенках и в шубе с огромным воротником, Тимофей Ильич Тутаринов. Он, не в пример своим одногодкам, входил в класс смело, запросто разговаривал с Виктором Грачевым, даже спрашивал у него, скажем, о том: вовремя ли приезжают хуторяне, нет ли опаздывающих, кто из устьневинцев не посещает занятия, – словом, старик чувствовал себя не гостем, а хозяином, и не без причины.
Дело в том, что с той поры, как, по приглашению Кондратьева, Тимофей Ильич побывал на собрании в Рощенской, он считал себя активистом райкома партии. Оно так и было, но старик, сказать правду, слишком преувеличивал этот факт. Поэтому и вид у него был постоянно сосредоточенный, и глаза не в меру задумчивы, и седые усы с застаревшим налетом табачной желтизны подрезаны уж очень аккуратно. В эти дни старик почти не бывал дома – все расхаживал по станице, появлялся на фермах не только своего, но и соседнего колхоза; носил в нагрудном кармане записную книжку, ко всему присматривался, первым являлся на всякое собрание или заседание.
– Меня в те активисты записал сам товарищ Кондратьев, – хвастался он, встречаясь с такими же стариками, как и сам. – «У тебя, говорит, Тимофей Ильич, глаз верный, и раз ты теперь имеешь от всей нашей партии такое великое доверие, то во всякую жизнь станицы должон вникать по-партийному и за всеми станичными порядками присматривать…»
Старики слушали его, затаив дыхание, с огоньком зависти во взглядах, и Тимофей Ильич, замечая это, с еще большей гордостью продолжал:
– Хочу вам малость пояснить. Допустим так. Во всяком деле есть разные активисты. Сказать, активист стансовета, или колхоза, или там кооперации – тоже, конечно, важно. Но у меня активность совсем иная: я в доверии всей нашей родной Коммунистической партии… Вот как!
Старики с минуту молчали.
– А скажи, Тимофей Ильич, в партию ты поступить можешь? – спросил Игнатий Каргин.
– А почему ж и не могу? – отвечал вопросом Тимофей Ильич. – Для партии я подхожу по всем статьям, только надо мне малость подучиться, заиметь кругозор.
– Само собой, – задумчиво проговорил дед Евсей.
Обычно в тот момент, когда Тимофей Ильич появлялся в школе, ему хотелось, чтобы курсанты, а особенно молодежь, замечали его присутствие. С этой целью он садился за парту – его сухая, костлявая фигура горбилась – и говорил:
– Посижу с вами, пока Грачева нету. Хотя пришел сюда только посмотреть, все ли у вас тут в порядке, а посидеть за партой всякому охота…
– Тимофей Ильич, а мы думали, что вы тоже решили подучиться?
– А я уже грамотный, – с достоинством отвечал старик, посматривая вокруг ласковыми глазами. – Николай Петрович, товарищ Кондратьев, просил посещать, как бы от райкома.
– А вы член партии?
– Да разве в этом дело, член я или не член? – с обидой в голосе спросил Тимофей Ильич. – Ты не на членство мое смотри, а на деятельность… Я свою партийность, парень, на деле доказываю. Недавно я был в кабинете товарища Кондратьева. Пригласил на совет. Поговорил о всяких делах… «Вы, говорит, Тимофей Ильич, бывайте на электрических курсах, – может, потребуется какая помощь или дельный совет…» Вот в чем, сынок, моя партийность…
– Тимофей Ильич, – заговорил Стефан Петрович Рагулин, подсаживаясь к старику, – был бы ты председателем или бригадиром, заставили бы и тебя изучать эту науку…
– Да разве я против? – Тимофей Ильич развел руками. – Меня тоже можно заставить по партийной линии, но годы мои для этого не подходят. – Тимофей Ильич наклонился к Рагулину и негромко спросил: – А тебе тяжеловато? Побаливает голова?
Поглаживая бородку и, как всегда, хитровато усмехаясь, Рагулин хотел что-то сказать, но на пороге появился Виктор Грачев. В руках у него был пухлый портфель, а голова так завязана башлыком, что виднелись один посиневший нос да обледенелые брови. Он со всеми поздоровался, а Тимофею Ильичу подал руку и сказал:
– Спасибо, Тимофей Ильич, что вы нас навещаете, но у меня и сегодня никаких жалоб нету, все идет нормально… Вот только озяб на коне!
Он разделся, вынул из портфеля кипу книг, тетрадей, палочку мела, и занятия начались.
В этот вечер Тимофей Ильич, отстав от стариков, шел домой вместе с Рагулиным. Всю дорогу говорили о том о сем. У калитки тутариновского двора, когда надо было расставаться, Рагулин остановился и сказал:
– Ты, Тимофей Ильич, интересуешься: тяжело ли мне? Одному тебе могу сознаться – ты, знаю, не осудишь – тяжело, и еще как тяжело! Пожаловаться я никому не могу: стыдно…
– А то как же! Человек ты видный.
– Оно бы и ничего: на словах, когда слушаешь Грачева, веришь, все понятно… Когда же коснется дело всяких там вычислений и все это делается не цифрами, а буквами, – беда.
– Ты погляди, какая штуковина – буквами!
– Никите Мальцеву легко: молодой, в семилетке учился… А меня же в молодости батько не учил, не думал, что его сын Стефан доживет до такой жизни. Эх, трудно!
– И как же ты обходишься? – участливо спрашивал Тимофей Ильич.
– Выручает Прохор… Он же по электричеству спец.
– Да, Прохор – башка!.. Покурим напоследок? Держи кисет…
Они закурили молча. Ночь плыла темная и сырая. Из-за Кубани веяло морозной свежестью, холодными капельками липли к лицу снежинки; клочковатые тучи низко-низко повисли над станицей.
36За Верблюд-горой скрылось солнце, и тогда белое-белое подножие заискрилось и сделалось багрово-сизым, – в небе, в окнах станичных домов, на заснеженных крышах еще долго пламенело зарево заката.
Через знакомую нам площадь Усть-Невинской неторопливо проходил Прохор Афанасьевич Ненашев в коротком полушубке, подтянутом монтерским, в ладонь шириной, поясом, на котором висели крючки и пряжки. Сбивая на затылок заячью капелюху и прикладывая ладонь к глазам, он поглядывал то на столбы в тонкой ледяной корке, то на провода, запушенные не белым, а розовым инеем, – на нем играл ярко-красный отблеск спрятавшегося за гору солнца.
Гарцуя на низкорослом коне, к Прохору подъехал Алексей Артамашов.
– Прохор Афанасьевич! – крикнул он, как обычно рисуясь в седле. – Далеко путь держишь?
– К Рагулину поспешаю.
– А что там такое? Может, угощение?
– Разве ты не знаешь, я ему помогаю по электрической части. Надо подсоблять. – Прохор сунул руку за полушубок на груди и вынул сложенную вдвое зеленую брошюру. – Вчера был в Рощенской, зашел в магазин и вот нужную книжку купил. Погляди, какое важное название: «Электромонтер электрических станций и подстанций». Сурьезная книга, с чертежами.
– Неужели Рагулин собирается стать монтером? – удивился Артамашов, поворачиваясь в седле так, что поскрипывала кожаная подушка.
– Не собирается, верно, – сказал Прохор. – Ему, как и тебе и всем курсантам, надо изучить всего только электрический минимум. А мне же, ты, Алексей Степанович, сам понимаешь, требуется знать поболее… Вот я и обзавожусь надежной литературой. И тебе, как ты тоже изучаешь электричество, скажу: то, что инженер по понедельникам рассказывает, слушай в оба уха, а потом еще и в книжки заглядывай, – тогда техника войдет в тебя и уже обратно не выйдет… Сказать, по крови она разойдется. Вот как! А ты куда это на коне?
– Савва к себе пригласил, – с улыбкой на смуглом, чисто выбритом лице ответил Артамашов. – И ты думаешь, по какому делу? Не слыхал? Да неужели не слыхал? Награду от правительства за урожай получил Алексей Артамашов. Вот какая новость!
– Золотую Звезду?
– Малость не дотянул.
– Орден Ленина?
– Бери еще немного ниже. «Знак Почета».
– Маловато, – посочувствовал Прохор. – Обещал же Рагулина догнать. А все-таки здорово! Поздравляю, Алексей Степанович!
– Поздравить, безусловно, можно, но это еще не мой предел. – Артамашов натянул поводья. – Это же только первый год. А вот в нынешнем году я Рагулину докажу.
Возле станичного Совета Алексей спешился, привязал у старенькой, искусанной коновязи свою лошадь и, поправляя на ходу кубанку, живо поднялся на крыльцо. В другое время он прошел бы проворно, ни на кого не глядя, прямо в кабинет Остроухова. Теперь же невольно уменьшил шаг, – радость была еще так свежа, а в груди то возникал сердце сжимающий холодок, то разливалась сладостная теплота…
Почему же Алексей не смог своей привычной походкой пройти в кабинет? Почему же он так неожиданно уменьшил шаг? Надо сказать правду: всему виной тут была маленькая человеческая слабость – желание вызвать у своих знакомых и улыбку на лицах, и удивление, и даже зависть…
Дело в том, что в передней, сильно прокуренной комнате, где обычно коротают время посыльные и встречаются за разговорами те, кому некуда торопиться, стояли, о чем-то оживленно беседуя, человек десять казаков. При виде их Алексей инстинктивно выпрямился и стал еще стройнее; через всю комнату нарочно прошел медленно, даже два раза кашлянул, – так ему хотелось обратить на себя внимание! Ему виделась заманчивая картина: его окликают, а потом все сразу обнимают, пожимают руки и поздравляют. Ему даже слышались такие восклицания:
– А! Алексей Степанович! Гордость Усть-Невинской!
– Добился своего!
– У него слова не расходятся с делом!
– Хоть еще и не Герой, а уже близок к тому!
– Рагулина он непременно догонит!
А за что такая ему награда?
– Да за пшеницу.
– Поработал, Алексей Степанович, вот тебе и почет!
– И народ тебя благодарит!»
Однако казаки, смеясь и не прерывая беседу, даже не взглянули на Алексея. «И понятно почему, – думал Алексей, отворяя дверь и входя к Остроухову. – Уже вечер, в комнате темновато, сумрачно – вот и трудно заметить…»
– Алексей Степанович, – сказал Савва, устало подымаясь из-за стола и протягивая руку, – от лица всей Усть-Невинской горячо поздравляю с правительственной наградой. На правильную дорогу выходишь, Алексей. Честно взялся за труд, а это великая сила! Ну, садись, расскажи, как живешь?
– Спасибо, Савва Нестерович, за теплые слова, – Алексей сел к столу, снял кубанку. – Живется, Савва, не знаю, как кому, а мне хорошо. Ты говоришь, стал я на правильную дорогу. А я другое думаю. Мне сдается, что я себя будто бы почистил, сказать – в душе своей порядок навел, и вот то, что я радуюсь… как бы тебе понятнее… Нет, не могу я выразить. – Он снял кубанку и, сжимая ее в кулаке, сказал: – Понимаешь, взгляд на жизнь у меня стал другой…
– Ты что-то задержался… Я уже тебя давно поджидаю.
– И вот – задержался, – живо отвечал Алексей. – А почему? Раньше бы не задержался, а теперь задерживаюсь… И это потому, что другой стал Алексей. Вот его все и замечают и останавливают. Еду я на коне по станице, и все, кто встречается, приветствуют, расспрашивают, вопросы задают… А разве я раньше на коне по станице не ездил? Ездил. И на тачанке ездил. Так почему же меня тогда никто не останавливал и ни о чем не расспрашивал? А потому, что не тот был Алексей. Вот и Прохора Ненашева встретил – с трудом разошлись. Разговору хватило бы на всю ночь. Там еще повстречался мне Тимофей Ильич. Старик так обрадовался, что не утерпел, веришь, обнял меня, как сына, а по щекам у него слезы… Вот оно какой нынче Алексей Артамашов.
– Все это хорошо, – согласился Савва, и его большие глаза сделались задумчивыми. – Я позвал тебя, Алексей, по важному делу. Хочу спросить…
– Спрашивай.
– Как у тебя «электрический день»?
– Ничего, учусь.
– Отстаешь?
– Стараюсь, но трудновато. Туповат я на технику.
– Да, трудновато, – повторил Савва, и по задумчивому взгляду было видно, что в уме у него таилась какая-то важная мысль. – А как ты смотришь, Алексей Степанович, если бы вернуться тебе к прежней работе?
– Председателем? – Алексей снова смял в кулаке кубанку, и мускул на его смуглом лице дрогнул. – Так сразу?
– Конечно, не сразу. – Савва поднялся, отошел от стола. – От тебя ничего не утаю. Не так давно я был у Кондратьева. Разговаривали о всяких делах, о людях… Между прочим, Николай Петрович о тебе спрашивал.
– Значит, не забыл?
– Спрашивал меня: «Как, говорит, по-твоему, если мы пошлем Артамашова на годичные курсы председателей колхоза?»
– И ты что же?
– Промолчал, не знал, что ответить.
– А еще что говорил Кондратьев?
– Попросил побеседовать с тобой и узнать, что ты об этом думаешь. И вот я тебя прошу: говори определенно, а я скоро поеду на районную партийную конференцию и доложу Кондратьеву.
– После курсов возвращаться в свой колхоз?
– То дело будущего. Ты отвечай на мой вопрос: учиться хочешь?
– Да это… чего ж тут… хочу, конечно.
– Вот ты говорил, что появился новый Артамашов. – Савва подошел к Алексею, похлопал по плечу. – А скажи: тот, старый Артамашов, случаем, заново не оживет в тебе? Запомни: и твоя и наша задача – старого Артамашова похоронить навечно, а нового послать учиться…
– А! Друзья-приятели! О чем беседа?
С этими словами в кабинете появился Никита Мальцев, – молодое его лицо раскраснелось на морозе, пепельные усы при ярком свете были золотистыми.
– Савва, я заехал за тобой, – сказал он, здороваясь с Алексеем. – Мои сани у подъезда. Поедем, а то уже поздно.
– А куда это вы? – спросил Алексей у Саввы.
– Да тут недалеко, по делу. – И Савва начал одеваться. – Значит, так, Алексей: будем считать, что мы договорились?
Савва и Никита уселись в сани и умчались, только искорки из-под копыт коней упали на снег. «И куда они так поспешили?» – глядя вслед саням, подумал Алексей Артамашов.
Он неторопливо подошел к коновязи, отвязал повод и долго стоял, задумавшись и положив руку на подушку седла. Его конь скучающе косил зеленоватые яблоки глаз, блестевших на свете электрической лампы, и поворачивал голову, и вздыхал, и ловил упругими губами то полу шубы, то колено хозяина, как бы говоря: «Не дразни. Если отвязал повод и протянул руку к седлу, то садись…» А Алексею Артамашову не хотелось садиться в седло, и если бы конь смог попять, о чем в эту минуту думал его хозяин, то стоял бы покорно и смирно.
«Так, так… Значит, мною уже интересуется Кондратьев, это же очень здорово, – размышлял Алексей. – Партия меня наказала, и партия опять желает сделать из меня человека… Желают вернуть на прежнюю работу. Э, теперь бы иначе руководил, – хватит, нынче я ученый… А все же лучше мне быть бы бригадиром: дело и живое, и ощутимое. Поработал, приложил руки – и результат налицо. Вот я уже и отмечен наградой, а там еще постараюсь и более возвеличусь. Люди меня поздравляют, старик Тутаринов, тот самый Тутаринов, кто съедал меня глазами на том собрании, теперь обнял и прослезился. А почему? Трудом я себя перед ними возвеличил, оправдал… И Рагулин тоже должен поздравить. А как же! Такое событие! Были мы когда-то врагами, а нынче пора становиться друзьями…»
Глядя через седло затуманенными глазами, Алексей понимал, что еще ни разу в своей жизни он не испытывал такого волнующего чувства: поэтому все, что его окружало и на что он смотрел, – и чистое, по-зимнему звездное небо, и темный силуэт Верблюд-горы, и огни в станице – казалось ему необыкновенно красивым. Много-много раз он видел звездную зимнюю ночь, а вот такой, как сегодня, еще не было; много-много раз ночью смотрел на Верблюд-гору, на тень от нее, а вот такого дивного очерка горы, кажется, еще не видел; много-много раз любовался переливами огней на площади, а вот в эту ночь Усть-Невинская светилась и ярче и радостнее. «Старого Артамашова надо похоронить навечно, – думал Алексей, а фонари перед глазами подпрыгивали, расплывались, и вся площадь заливалась светом. – Надо побывать у Стефана Петровича Рагулина… Пусть старина пожмет руку и поздравит…»
Он в один миг очутился в седле. Конь, уловив настроение своего седока, с места пустился галопом, – взлетели к небу комья снега, а по станице полетели четкие выстуки копыт…
У ворот Рагулина Алексей соскочил с седла, отворил калитку и завел во двор горячего, тяжело дышащего коня. В доме Рагулина горел свет. «Значит, еще не спит, – подумал Алексей. – Наверное, газеты читает…»Ну вот мы и посидим вдвоем…»
Оставив коня у ворот, Алексей прошел по расчищенной дорожке в палисадник и заглянул в окно – заглянул и не знал, что ему делать, уходить или оставаться. За столом, недалеко от окна, сидели: сам хозяин дома в белой нательной рубашке, Савва Остроухов, Никита Мальцев, Иван Атаманов и Прохор Ненашев в очках и с книгой в руках. Перед каждым из них лежали тетради, книги, карандаши.
«Так вот они где, – подумал Алексей. – По всему видно – «электрический день» наверстывают, подучиваются. А мне, черти полосатые, не сказали… Хитро делается».
Уходить ему не хотелось. Он стал спиной к стенке, так, что правое ухо почти касалось чуточку приоткрытой форточки, прислушался.
– Далее можете не записывать, – заговорил Прохор, – это я вам от себя поясню для понятливости… Значит, в этом аппарате имеется такой стакан, который мягко, совсем как вот пальцами, берет у коровы сиську и начинает ее выдаивать. От нажима, стало быть, молоко сюрчит в тот стакан, а из него по такой трубочке течет в доильное ведро… Все очень просто… Но какую тут роль имеет электричество – вот это прошу записать. Известно, что электромашинную дойку коров производят трехтактным доильным агрегатом, – Прохор поправил очки, посмотрел в книжку и продолжал, – агрегатом, состоящим из вакуум-насоса и вакуум-баллона. Какие нужно знать расчеты? Во-первых, надо нам знать, что потребная мощность электродвигателя для вакуум-насоса всего два с половиной киловатта. Во-вторых, расход электроэнергии на одну дойку одной коровы составит шестьдесят или восемьдесят ватт-часов. Если все это вместе суммировать, то получится: на одну корову в год потребуется электроэнергии всего около пятидесяти киловатт-часов… Записали?
Алексей отошел от окна, постоял среди двора, раздумывая, входить ли ему или не входить в дом; потом решительно пошел к коню, вскочил в седло и ускакал по притихшей улице.








