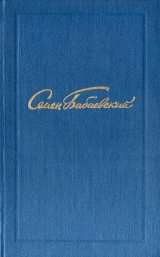
Текст книги "Семен Бабаевский. Собрание сочинений в 5 томах. Том 2"
Автор книги: Семен Бабаевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 41 страниц)
Однажды перед вечером, в тот самый час, когда раскаленный за день воздух начинал остывать, а от домов и деревьев через всю улицу тянулись тени, Федор Лукич, опираясь на палку и слегка похрамывая, возвращался в станицу. По обыкновению он был мрачен, по сторонам не смотрел: не хотелось встречаться с людьми. Но выйдя на площадь, невольно поднял голову и совсем неожиданно увидел знакомую кубанку, так молодцевато сдвинутую на лоб, что красный ее верх пламенел у Федора Лукича перед глазами. Вот эта кубанка, да еще и горские сапожки без каблуков и с ремешками ниже колен, и синие галифе, и длинная рубашка, подхваченная пояском, богато украшенным серебряным набором, и весь мужчина, упруго-стройный, чернолицый, заставил Федора Лукича не только остановиться и поднять голову, но и воскликнуть:
– Ба! Алексей Степанович! Ай, приметный же ты человек!
Алексей Степанович Артамашов подошел к Хохлакову живой, мягкой и почти неслышной походкой, усмехнулся и так блеснул мелкими красивыми зубами, точно говорил: «На то я и Алексей Артамашов, чтобы быть приметным…» После этого старые друзья с каким-то особенным удовольствием пожали друг другу руки.
– Ты все такой же ухарь! – отечески ласково сказал Федор Лукич.
– А что ж! Живу не тужу!
– Урожай повышаешь? – поинтересовался Федор Лукич, и в голосе его прозвучала нотка сожаления.
– Еще как повышаю! – прихвастнул Артамашов, выпрямившись.
– Какими судьбами к нам залетел?
– Сергей вызывал.
– Да ну! – Федор Лукич причмокнул языком. – Это зачем же ты ему понадобился? Небось опять для нагоняя?
– Эге! Не угадал! Тут, Федор Лукич, пахнет не нагоняем! Такое заварилось, что и разобрать трудно. – Артамашов еще сильнее сбил кубанку на лоб, так что теперь она держалась на его жестких и буграстых бровях. – Сергей интересуется моим урожаем – вот оно что! Теперь всему району видно, что мы Рагулина опережаем, можно сказать, кладем этого скрягу на обе лопатки, и тут я так думаю про себя: боится Сергей за авторитет Рагулина… Неудобно ему сообщать в край и в Москву такие данные, что в колхозе имени Ворошилова урожай выше, чем у хваленого Рагулина… Вот оно, Федор Лукич, какая была у Сергея цель!
– Так, так, – задумчиво проговорил Федор Лукич и покатал пальцем по губе родинку, как шарик. – Это интересно… Мысль у тебя весьма правильная… А зараз же ты куда?
– К себе, в Усть-Невинскую.
– Да ты что? Поздно… Куда в ночь?
– А у меня есть конь.
– Все одно. – Федор Лукич взял Артамашова за рукав. – Идем ко мне. Бери и коня, у меня есть и ему место… Переночуешь, поговорим, видимся-то мы нечасто… А утречком и поедешь… Не! Не! Не! Ни за что не отпущу.
Они прошли через площадь, и, как только свернули на неширокую, поросшую травой улицу, у Артамашова заныло сердце, а отчего, он и сам не знал. Может быть, оттого, что уже издали увидел хорошо ему знакомые вишневые ветки, упавшие на дощатую изгородь, и опрятный домик под белой черепицей, и два окна в зеленых ставнях, как в рамах, смотревшие на улицу, и палисадник, и деревянную скамейку. А может, и оттого стало на сердце тяжко, что вспомнилось то время, когда он был председателем колхоза, и часто, бывало, под вечер вот по этой улице гремела его тачанка, и вон у той калитки кучер осаживал горячих коней. Артамашов соскакивал на ходу и, открывая ворота, как у себя дома, пропускал тачанку, и во дворе вместе с женой Хохлакова, Марфой Семеновной, и кучером сносил в сенцы корзинки, сверху зашитые марлей, мешок с мукой, какие-то кульки и бидончики. После этого молодцеватым шагом шел в дом, а Федор Лукич уже стоял на пороге и приветствовал хриповатым басом: «А! Алексей Степанович! Гордость района!..»
Теперь все было буднично-скучно, и они шли молча, понуря головы. «И за каким чертом я сюда плетусь? – со злостью думал Артамашов. – Недавняя рана и так не зарубцевалась, а я ее еще солю…» Он хотел остановиться и крикнуть: «Не пойду! Были денечки – на тачанке ездил, а пешком ходить сюда я не привык!» Но Федор Лукич уже открыл калитку и пропустил гостя вперед.
Во дворе дымилась обычная, какая бывает у казаков, летняя печка, и тут же, присев на корточки, Евсей Нарыжный ощипывал петуха, придерживая рукой окровавленную шею. «Это еще что за беркут?» – подумал Артамашов, покосившись на Нарыжного.
– А вот нам и жарковье готовится! – сказал Федор Лукич.
– Марфе Семеновне подсобляю, – пояснил Нарыжный, вставая и отряхивая с колен прилипшие перья. – Она ушла к соседке за перцем, а я общипываю…
– Ты брось это бабское занятие, – строго приказал Федор Лукич и обратился к Артамашову: – Алексей, где твой конь? Пусть Евсей сбегает и приведет… В стансоветской конюшне? Напиши конюху записку. – И снова к Нарыжному: – Да ты хоть руки помой, а то на разбойника похож…
Артамашов прислонился к подоконнику и стал писать на листке из блокнота. Федор Лукич опустился на разостланную под стеной полость и хотел разуваться, но тут подбежал Нарыжный и, опустясь на колени, стал снимать с его ног сапоги.
– Ты! Ты! Здоровило! – простонал Федор Лукич. – Легче тяни, а то ногу оторвешь!
«Или холуя нажил при старости лет?» – подумал Артамашов.
Нарыжный взял записку и ушел. Федор Лукич сидел, опершись спиной о стенку и вытянув ноги.
– Эх, ходули, брат, плохо держат! – сказал он, похлопав ладонью ноги. – Болят… Садись, Алексей, отдохнем, старое вспомним, а тем временем нам петуха зажарят… По рюмочке тоже найдется ради такого случая. Я хотя сам и не пью по причине сердечных перебоев, – он глубоко вздохнул и положил ладонь на грудь, – а для гостей завсегда держу…
– А что это у тебя за птица? – спросил Артамашов, кивнув на ворота, куда ушел Нарыжный.
– Да разве ты его не знаешь? Евсей Нарыжный, бывший председатель «Светлого пути». – Федор Лукич пощипал родинку на губе и задумался. – Да, Алексей, бывший… У тебя с ним одинаковая участь – оба в одно время попали на зубы Тутаринову… и теперь оказались бывшие.
– Это тот, что с хлебом мудрил? – спросил Артамашов. – Так его должны были судить?..
– А за что? – Федор Лукич усмехнулся – Улик не оказалось. Тутаринов же в суде власти не имеет, приказать не может, а суд невинного человека наказывать не решился…
– А чего он у тебя? В ординарцах?
– Конюхом взял. Ну, а по старой дружбе у меня бывает, проведывает… На ночь он уйдет к лошадям. Мы их ночью на выпасе держим.
– Глаза у него какие-то чертячьи, – как бы про себя сказал Артамашов. – Что-то в них так и блестит… Противно!
– Это, Алексей, блестит живая мысль! – Федор Лукич хрипло рассмеялся. – Мужик он башковатый, я его знаю. Приставь его к любому делу – и поведет, еще как!
Пришла Марфа Семеновна, держа в пальцах, как огонек, красный стручок перца. Пожилая и такая же, как и муж, рыхлая, она еще молодилась и была, не в пример Федору Лукичу, при здоровье. Артамашову улыбнулась еще у калитки, а поздоровалась с ним, как с родичем, даже прикоснулась своими мягкими и мокрыми губами к его щеке и, вытирая платочком опухшие глаза, сказала печальным голосом:
– Эх, Алеша, Алеша! Никак я не могу поверить, что ты уже не тот, кем был…
– А тебя, Марфуша, и верить никто не принуждает, – сказал Федор Лукич.
Артамашов промолчал, и его сухое, загорелое лицо помрачнело. «Ох, и не люблю, когда баба жалеет, – думал он, чувствуя ноющую боль сердца. – Все ж таки зазря я сюда пришел, только растравлю себя…»
21Такое тягостное настроение не покидало Артамашова и позже, когда уже совсем стемнело и Нарыжный привел коня, а Марфа Семеновна накрыла в комнате стол и пригласила ужинать. Есть ему не хотелось, хотя от курятины, зажаренной с картошкой и приправленной лавровым листом и перцем, исходил приятный запах. Не помогла и рюмка водки, которую Артамашов выпил, не закусывая, – по-прежнему ныло сердце, и было так тоскливо, что ни о чем не хотелось не только говорить, но и думать, и ему теперь казалось, что причиной этому было то, что у Хохлакова находился этот Евсей Нарыжный с какими-то неприятными глазами…
Евсей Нарыжный, быстро захмелев, подбавлял себе в тарелку картошки, зацепив при этом куриную ножку, горячо доказывал, что с Федором Лукичом даже в трудное военное время работать было легко; глаза его все время ласково жмурились. «Ну, затянул шарманку и щурится, как кот на сало», – со злобой подумал Артамашов, нехотя обгрызая досуха зажаренное крылышко. А Федор Лукич, и нательной рубашке, откинулся на спинку стула и, слушая Нарыжного, ухмылялся, и нельзя было понять: одобряет или порицает своего словоохотливого друга.
– Как было допрежь? – говорил Нарыжный, разливая в стаканы водку. – Сказал Федор Лукич – и в одно мгновение любое задание исполнено! А почему? Да потому, что допрежь дружба была… Раньше как бывало…
– Погоди, Евсей Гордеич, – перебил Федор Лукич, – ты прежние времена выбрось из головы и забудь, того уже не воротишь. О настоящем надобно думать, да еще как думать! Правду я говорю, Алексей? И чего ты ныне такой квелый? Ты ли это, разудалая душа?!
– Должно быть, мало выпил, – грустно проговорил Артамашов, и сухое его лицо скривилось горько и болезненно.
– А пить будем! – выкрикивал Нарыжный. – Кто нам запретит? У меня был начальником и остался один Федор Лукич… Во всем свете я никого не признаю, а его уважаю…
– Помолчи, Евсей, – сказал Федор Лукич. – Не в выпивке зараз дело… Да и пьют много только дураки… Да, так вот, я хочу сказать о тебе, Алексей Степанович, и о тебе, Евсей Гордеич. Эх, хлопцы, хлопцы, гляжу я на вас, и жалость меня разбирает… Были оба председателями, ты, Евсей, верно подметил: бывало, дашь вам команду – и уже спокоен: потому – орлы! А теперь кто вы? Одного Тутаринов из партии вышиб, в полевую бригаду послал, как на посмешище, другого судить собрался, и теперь он конюхом на мельнице… А дальше что?
– Спайку, спайку нам нужно, – вставил Нарыжный, и в щелках его глаз с какой-то особой проворностью засуетились чертики. – Без спайки жить нельзя!
– Чертовщину городишь! – сказал Артамашов и поднялся так быстро, что опрокинул стул. – Какая тебе нужна спайка?
– А такая… своя. – Нарыжный придвинул тарелку и принялся за курятину.
– Алексей, сядь. – Федор Лукич посадил Артамашова рядом с собой. – Ты, Алексей, его не слушай… Вот послушай то, что я скажу…
– Федор, и к чему завели такой скучный разговор? – вмешалась Марфа Семеновна. – Поговорили бы о чем-нибудь веселом…
– Марфуша, ты в мужские дела не вмешивайся… Да, так вот что же, Алексей, дальше?
– А почем я знаю? – буркнул Артамашов и покосился на Нарыжного.
Федор Лукич снова покачал головой и тяжело вздохнул.
– В районе творятся такие безобразия, что тут надо, – Федор Лукич положил кулак на стол, помолчал, – тут надо, пока не поздно, обращаться в высшую власть, чтоб комиссию для проверки выслали…
– И спайку, спайку, – проговорил Нарыжный, обсасывая косточку.
– Почему в районе идет такое самочинство? – продолжал Федор Лукич, не слушая Нарыжного. – Думал ты об этом, Алексей? Да потому, что там, на верхах, истинного положения дел не знают. А мы видим!
– Что ж мы видим? – настороженно спросил Артамашов.
– А то мы видим, – отвечал Федор Лукич, вытирая лоб полотенцем, – то мы видим, что уборка на носу, момент политический, страна ждет хлеба, а руководство района задумало природу переделать да станицы обновлять. Да тут ежели умным людям разобраться во всей этой затее, то кое-кому не поздоровится, и дюже не поздоровится. Ишь ты, природу решили переделывать – это же смех и горе! Веками люди жили – и ничего, нравилась природа!.. Сидят себе в кабинете, любуются собой и думают, какую бы еще идею изобрести. Да так можно черт его знает до чего дойти! Тут, Алексей, нужна сила такая, чтоб смогла она остановить…
Артамашов наклонил голову и молчал, и теперь уже не тоска, а зло распирало ему грудь, но он только сжимал под столом кулаки и крепился. «Дурак старый, – думал он, комкая в кулаке конец скатерти. – Нашел место для разговора!»
– А я об чем? – отозвался Нарыжный. – Спайку, спайку нужно…
– А конюху, как я понимаю, пора и к лошадям, – со злой усмешкой сказал Артамашов, не поднимая головы.
– Верно, верно, – подтвердил Федор Лукич. – Иди себе, Евсей, время позднее…
Нарыжный, не сказав ни слова, встал, распрощался и вышел. Марфа Семеновна пошла его проводить. Оставшись вдвоем, Артамашов и Хохлаков долго сидели молча. Федор Лукич ел картошку, а Артамашов, все так же низко склонив голову, казалось, дремал. Потом резко встал и, заложив руки за спину, неслышно прошелся по комнате.
– Федор Лукич, – сказал он, остановившись у окна, – ты или уже с ума выжил, или черт тебя знает!
– Это ты о чем? – встревожился Федор Лукич.
– Об чем? А о том самом, – раздраженно сказал Артамашов. – К чему ты завел этот разговор в присутствии Нарыжного? Кто он такой, этот твой Нарыжный? Сегодня он тебе сапоги снимает, подхалимничает, а завтра продаст тебя за грош… А жена?
– Алексей, так это же люди свои, – виновато улыбаясь, проговорил Федор Лукич. – И Нарыжный и Марфушка… Да и ничего я такого не говорил… Нам надо собраться и написать в Москву, а разве кто запрещает писать? Я и Кондратьеву скажу, что буду писать жалобу. Надо собраться и написать.
– Кто соберется? Кто напишет? – резко спросил Артамашов. – Ты, Нарыжный и еще такие ж, как вы? А кто вам поверит? Обиженным и обозленным не верят. Спросят: кто такой Нарыжный?
– Что ж по-твоему? – спросил Федор Лукич.
– Если писать, то не нарыжные, а настоящие люди должны написать такое письмо… На кого опирается Тутаринов? В чем его сила? – Артамашов подошел к столу. – Нужно, чтобы написали Рагулин, Прохор Ненашев, Несмашная, Савва Остроухов… Или Хворостянкин – тоже человек с весом. Да еще бы десятка два колхозников – из тех, что самые передовые… Вот это сила, а не этот твой дурак с кошачьими глазами.
– Трудное дело, – как бы про себя сказал Федор Лукич. – Те люди, как я понимаю, нас забыли.
– А! Забыли! Так какого ж черта языком треплешь! – Артамашов прошелся к окну и обратно.
Вошла Марфа Семеновна. Артамашов, улыбаясь хозяйке, сказал:
– Ну, Марфа Семеновна, спасибо вам за курятину, еду в станицу.
– В ночь? – удивилась Марфа Семеновна. – Да оставайся, Алексей, до утра. Я уже и постель приготовила…
– Нет, нет, мне надо ехать…
Федор Лукич молчал, точно и не слышал этого разговора. Артамашов попрощался, а когда сел в седло, сказал Хохлакову:
– Федор Лукич, ежели ты мыслишь все иначе, то лучше прикуси язык.
За мостом, свернув на дорогу, ведшую в Усть-Невинскую, Артамашов пришпорил коня и понесся по степи галопом. «Нет, таким надо умирать – пень сгнивший и только. И этот туда же – «спайку, спайку»… Эх ты, сатана бесхвостая!..»
Степь под звездным небом, прохлада, идущая от реки, дробный стук копыт, свежий ветер, лезущий под рубашку, – все это было так привычно и мило сердцу, что Артамашов сразу повеселел и, пуская коня на шаг, негромко запел: «По яру, да по глубокому…»
Вскоре по берегу, на черном фоне Верблюд-горы, показались частые огни Усть-Невинской.
22– Иринушка, входи, дорогая! Дай тебя поцелую! Эх, смотрю на тебя и вижу свою молодость. Хоть и давненько это было, а не забывается… Не-ет, не забывается…
Так говорила Наталья Павловна Кондратьева, приглашая в дом Ирину Тутаринову. Она взяла гостью под руку и повела в небольшую комнату с одним окном, которое выходило в палисадник и было снизу доверху оплетено хмелем. Зной сюда не проникал, и от этого в комнате всегда было прохладно, пахло свежестью листьев и мятой, росшей за окном.
Наталья Павловна усадила Ирину на диван, а сама села на стул. Они смотрели друг на друга и думали каждая о своем: Наталья Павловна о том, что когда-то и она была такая же красивая и цветущая, как Ирина; вот так и ей любое платье было к лицу; вот так и у нее блестели молодые карие глаза… А Ирина думала о том, что придет время – и она станет такой, как Наталья Павловна, о том, что у нее со временем округлятся в оборке морщинок глаза; о том, что и у нее с годами седина вплетется в косу…
– Иринушка, угощу тебя чаем с вареньем…
– Тетя Наташа, не нужно беспокоиться… Я к вам на одну минутку. Дело у меня…
– А я тебя так сразу не отпущу… Варенья непременно отведай.
Наталья Павловна вышла из комнаты, а через некоторое время на столике появились чайник, ваза с вареньем и тарелка с удивительно пышными ватрушками. Наталья Павловна сама наложила на ватрушку клубничных ягод, сваренных так осторожно, что казалось, они были только что сорваны с куста, твердые, темно-коричневые, точно пропитанные медом. Разливая чай, Наталья Павловна спросила:
– Ну, что там у тебя за спешное дело?
Ирина тяжело вздохнула:
– Не знаю, как и начать. – Ирина наклонила голову. – Наталья Павловна, я получила письмо… без подписи… Гадкое, противное письмо. – Протянула Наталье Павловне потертый конверт. – Вот оно…
На клочке плотной бумаги было написано: «Ирина жалко мине тебя тихо и умно прозследи засвоим муженьком он тебя обманывает ты думаеш чиво он такое часто ездить в Родниковскую там у нево есть уфажорка она вся ученая партиейная и агрономша они смеются над тобой что ты баба дура муж твой делает все очен хитро все как будто они товарищи поработе наблюдай за ними тихо и ты все увидеш сама».
– Безграмотная дура и завистница, – сказала Наталья Павловна, отдавая письмо. – Чужому счастью завидует… Видно, своего не имеет – вот и бесится… Сергею читала?
– Что вы, Наталья Павловна! Разве я могу ему это показать?..
– А почему же не можешь? Непременно прочитай.
– А если правда? – Ирина побледнела.
– От мужа ничего не скрывай. – Наталья Павловна посмотрела на Ирину матерински ласковыми глазами: – Иринушка, а ты знаешь, что такое настоящая жена?
Такой неожиданный вопрос несколько смутил Ирину, и она, не зная, что и как ответить, некоторое время сидела молча.
– Ну, быть верной, любить, – краснея, ответила она. – И вообще, чтобы все было по-хорошему.
– Любить и быть верной тоже, конечно, важно, а только это еще мало. Ты только вступила в обязанности жены, и хорошо то, что и разлука с Сергеем и это глупое письмо тебя уже волнуют, что сердечко твое тревожится, побаливает. Хуже, если оно и не болит и молчит. – Наталья Павловна прижала к губам платок, помолчала, как бы собираясь с мыслями. – Да и что такое и эти короткие разлуки и эти анонимки? Они как тучки на небе: пронесутся – и нет их, и уже снова наступит ясный день. В замужней жизни, Иринушка, доведется всего испытать: и радости, и горя, и печали. Вот к этому ты себя и готовь, заранее сил набирайся, чтобы смогла ты со своим Сергеем пройти жизнь, как равная с равным, и чтобы была ты ему и женой, и матерью детей, и другом самым близким, и помощницей… По себе сужу… Как мы жили? Сперва были на заводе… Время горячее, предприятие росло, расширялось, пришли новые люди, – были такие случаи, когда Николай Петрович и по двое суток не заявлялся на квартиру. Бывало, придет усталый, невеселый, а я его и накормлю, и приготовлю искупаться, и поговорю с ним ласково… Я и там в библиотеке служила, – книжку ему нужно или статью в газете, может, какой журнал, – у меня все это припасено для него. Случалось, что он за всеми журналами уследить не мог, так я ему всегда помогала. Все, все я сделаю для него, потому что иного интереса, кроме того, каким жил он, у меня не было и нету… Потом поехал учиться в Ленинград, и я там жила с детьми и все ему помогала. Вот тут ему книг требовалось много, и я все доставала, находила… А из Ленинграда мы попали прямо на Кубань, назначили Николая Петровича начальником политотдела. Вот с тех пор мы так и кочуем по станицам. Сперва жили в Отрадненской МТС, тут близко, на Урупе. Не знаешь? Большая станица, – куда больше Рощенской. Местность новая, люди незнакомые, и ты думаешь, я жаловалась, что увез он меня и детей из большого города в станицу? Тебе одной сознаюсь: душа болела, тут дети подросли, учиться надо, а все ж таки Ленинград и Отрадная – нельзя сравнить, да только все мои переживания наружу никогда не выходили. Я так рассудила: послала его партия строить колхозы – значит, и меня она послала, и мне такое же задание дала, и одна была и есть у меня забота – все делить пополам… А в станице, сама небось знаешь, какие тогда шли дела – новая жизнь только-только нарождалась. Николай Петрович день и ночь в поле; там с косовицей неуправка, там трактора остановились, там с обмолотом не ладится, там кулаки хлеб подожгли – всякое было. А я его жду, и душою болею, и за детьми смотрю, да еще и помогаю ему. Помню, библиотеку собрала: часть книг в магазине купила, часть своих принесла, а то и по хатам ходила, литературу собирала, и не одна ходила, а с женщинами. Там я с ними и подружилась. Обо всем мы говорили, и то, о чем они не могли сказать Николаю Петровичу, рассказывали мне, и ему через это легче было работать.
Наталья Павловна посмотрела в окно, и по лицу ее, ставшему строгим, было видно, что воспоминания унесли ее в то теперь уже далекое, но еще памятное время. А Ирина не сводила глаз со своей собеседницы и слушала с таким вниманием, точно сама когда-то все это пережила.
– Не знаю, может быть, у вас жизнь будет иная, – продолжала Наталья Павловна, – только все равно, как бы вы ни жили, а мужу ты постоянно помогай. Ты не смотри на то, что он на такой ответственной должности, что есть там у него и секретари и помощники, – то все по службе. Помимо службы есть у него жизнь личная, домашняя, и тут ты ему во всем опора. Радостный он – узнай причину, да и сама с ним порадуйся. Опечален, горе у него – и ты проникнись этим горем, да и приласкай, поговори, развесели, советом помоги. Отдохнуть ему нужно – создай уют, сделай все так, чтобы всегда он уходил на службу в хорошем настроении… И еще: будут у вас дети, – ты не красней, не красней, без детей какая жизнь! – воспитывай их умело, води чисто, – дети, они тоже, как цветы, украшают нашу жизнь. – Наталья Павловна приложила к глазам платок, помолчала. – Хотя и горько бывает потом, когда они разлетятся во все стороны, как оперившиеся птенцы из гнезда, да только что ж тут поделаешь!.. И еще важно, Иринушка, – ни в чем не отставай от мужа. Он учится – и ты учись, он прочтет книгу, а ты ухитрись прочитать две, и хорошо будет, если ты в чем его и обгонишь, а потом и подскажешь, посоветуешь… Правда, Сергей Тимофеевич – парень грамотный, к тому же в молодости довелось ему испытать суровую жизнь, но в теперешней его жизни, Иринушка, все может быть. Может случиться, что и споткнется, и кто ему первый руку подаст, кто поддержит, – жена!
– Спасибо вам, Наталья Павловна, – сказала Ирина. – Такое я впервые услышала…
– Ну, милая, за что же благодарить! – Наталья Павловна начала наливать уже остывший чай. – Нам с тобой обо всем говорить следует: одного мы поля ягоды… А письмо не скрывай от мужа…
Они пили чай и вели такой задушевный разговор, какой могут вести разве только близкие подруги.








