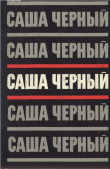Текст книги "Саша Черный. Собрание сочинений в 5 томах. Т.3"
Автор книги: Саша Черный
Соавторы: Анатолий Иванов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 41 страниц)
Валюта, декламация и ложь,
Развязная, заносчивая наглость,
Удобный символ безразличных – «наплевать»,
Помойка сплетен, купля и продажа,
Построчная истерика тоски.
И два десятка эмигрантских анекдотов…
Имя всему этому – эмигрантщина, то есть выставляемый напоказ надрыв, прибыльная эксплуатация подлинной трагедии и отчаяния. Следует заметить, что могущее вызвать душевную изжогу «ресторанное обслуживание тоски по родине» отнюдь не выдумка большевистской пропаганды. Это было. Равно как и «танцевально-кинжальные вечера». Последние сами по себе, вероятно, не заслуживают упрека, если бы… Саша Черный всякий раз предъявлял одну и ту же претензию к соотечественникам, тратящим изрядные суммы на развлечения, но не желающим приобретать русскую книгу и тем более – книгу для подрастающего поколения.
Было еще одно развлечение, вернее, зрелище, попадавшее частенько на зуб сатиры Саши Черного. Это – кинематограф, «волшебный новый яд» – такое определение дал поэт ему еще в дореволюционную пору. Чем же это порождение цивилизации, так настырно втершееся в благородное семейство античных муз и граций, не потрафило Саше Черному? Может, почуял он в этих наивных, невысокого пошиба «оживших картинах» пугающий призрак грядущей мае с культуры:
Серьезная толпа застыла пред экраном:
«Карнавал в Венеции», «Любовник под диваном».
В который раз неприятие, отрицание замыкается у Саши Черного на стадности и пошлости. Обе эти категории оставались таковыми и на Западе, давшем приют беженцам из России. «Великий немой» ориентировался по преимуществу на «сентиментальных прачек и смешливых консьержей». По своему уровню продукция эмигрантско-российских кинофирм («Усть-Сысольск-Париж-фильм») не являлась исключением. Около кинематографа всегда крутились «фильмовые детоубийцы», как называл их Саша Черный, готовые переделать «Войну и мир» в сценарий из жизни ковбоев, либо состряпать нечто захватывающе-пикантное: «Чужой муж и жена под кроватью!»
Словом, с переселением за границу пороки, присущие роду человеческому, равно как и их носители, никуда не исчезли. Было где разгуляться веселому духу Саши Черного, который и в изгнании, в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях требовал выхода. Но обличение («ювеналов бич») постепенно уступает место смеху жизнеутверждающему. Ибо, как справедливо сказано у Спинозы: «Смех есть радость и потому сам по себе благо».
Все так, но худо то, что в эмиграции смеху «некуда было приткнуться». Правда, изредка возникали сатирические издания – например, парижский «Сатирикон» или «Ухват», но век их был до обидного краток. Не потому ли Саша Черный рискнул однажды, дав угол «бездомной сатире и ее младшей сестре, беспечной утешительнице всех, юмористике» в еженедельнике «Иллюстрированная Россия». Так появился в 1925 году постоянный отдел сатиры и юмора «Бумеранг», своего рода журнал в журнале, возглавляемый профессором филологии Фаддеем Симеоновичем Смяткиным. Это был очередной розыгрыш Саши Черного, который, подобно Пигмалиону, вдохнул жизнь в героя своего давнего стихотворения «Городская сказка» – молодого филолога, влюбленного «по пятки» в медичку. Постаревший на четверть века, он перекочевал вместе с автором за границу и вот, оторвавшись от стихотворного образа, занялся редакторской деятельностью. Для пущей убедительности в журнале был помещен даже портрет профессора, который давал о себе знать в объявлениях такого рода: «Редактор „Бумеранга“ принимает по понедельникам и четвергам от 4 до 5 часов утра в Люксембургском саду (пятая скамья от голубя, гуляющего обычно на дорожках вблизи статуи Весны)». В периоды летних отпусков, когда Саша Черный отдыхал на берегу Атлантического океана, соответственно передислоцировался и Ф. С. Смяткин, спешивший известить всех, что «по делам редакции он будет принимать на пляже в „La Boul – suz – Мег“, в часы между приливом и отливом, кабинка № 13». Шутливая интонация как бы вовлекала читателей в атмосферу игры. Для них истинное лицо чудаковатого редактора было, по всей видимости, секретом полишинеля. За несколько «юморизованным» образом филолога Смяткина (как выяснилось, он был еще и острословом, сочинителем «домашних афоризмов») без особого труда угадывался Саша Черный.
Присущая Саше Черному склонность к игре, лицедейству, пародии нашла наконец наиболее полное и яркое разрешение. Недаром, видимо, именно в «Бумеранге» вновь всплывает Turdus – памятный нам «дрозд-пересмешник», сменивший здесь, правда, свое былое поэтическое амплуа на перо прозаика.
Из знакомцев в отделе, возглавляемом Ф. С. Смяткиным, встречаем А. Черного и Сандро. Однако гораздо больше имен новых, доселе неслыханных, большинство из которых, едва возникнув, исчезают.
Впрочем, не всем суждена участь однодневок. Из тех, кто примелькался, можно отметить некоего Scriba (т. е. «пишущий»). Невольно задумаешься: Turdus да Scriba – два сапога – пара, не в родстве ли они, часом? Можно присовокупить к ним еще одного «пишущего» – И. Канаус. Что-то латинское слышится в этом имени и одновременно смахивает на русское «каналья». Нет, не думайте – он не какой-нибудь там шаромыжник: тут же и аттестация прилагается: «Юрисконсульт „Бумеранга“, бывший архитектор бывшей Житомирской городской управы».
Упоминание Житомира должно остановить наше внимание, равно как и упоминание таких названий, как Вильна или Рим, являющихся этапами в биографии поэта. Конечно, появление их в «Бумеранге» можно посчитать случайным совпадением. Но когда в этом эмигрантском журнале набредаешь еще и на Белебеевский уезд Уфимской губернии, то, право, трудно усомниться, что здесь не обошлось без участия Саши Черного. (К слову: когда-то именно в этот уезд выезжал гимназист 6-го класса А. Гликберг на борьбу с голодом.)
Вернемся, однако, к костюмированному балу «Бумеранга», организованному Сашей Черным. Не раз и не два возникает желание воскликнуть: «Ба! Знакомые все лица!» Вернее сказать, где-то мельком виденные. Ну как же! В стихах и прозе Саши Черного – и Капцан, и Некто в сером, и Рундуков, и Хрущ, и Степан Лось… Иные слегка загримированы, но при некоторой фантазии несложно распознать. Так, к примеру, Флит, по всей видимости, отпочковался от Ван-дер-Флита (из «Хрюшки»), либо от Фан-дер-Флита (из «Бала в женской гимназии»). Или вот еще одна запоминающаяся фамилия – Опопонаксов, отсылающая опять-таки к Саше Черному – к его «Кумысным виршам»:
В окно влетающий навоз
Милей струи опопонакса…
Неважно, что эта духовито-парикмахерская фамилия стоит не под произведением, а включена в текстовую ткань. Ибо все эти имена, названия и словечки, несущие на себе как бы «фирменное клеймо» Саши Черного и по отдельности немногого стоящие, будучи собраны в так называемый «литературный конвой», свидетельствуют в пользу данного автора-исполнителя – единого во всех лицах. Этому театру одного актера, этакому «человеку-оркестру» долженствовало явить миру не столько индивидуальные черты солистов, сколько некую обобщенную физиономию современной прессы.
Нечто похожее, помнится, уже имело место в судьбе Саши Черного – в пору его литературного дебюта. Тогда поэт-лирик, репортер-фельетонист вынужден был, ввиду малости штатов редакции, стать тем, что называется «и швец, и жнец», по собственному признанию, порой полемизируя сам с собой, выступать под разными псевдонимами. Но то была цель чисто утилитарная.
На сей раз стояло качественно иное задание. Отделу сатиры и юмора долженствовало скопировать в миниатюре журнал (или газету) – трафаретное, устоявшееся сочетание из передовицы, хроники, фельетона, рекламных объявлений, писем в газету… То был пародийный образ газеты, причем газеты сугубо эмигрантской.
Правда, эмигрантская печать по своим традициям и формам мало чем отличалась от дореволюционной российской периодики. Изменилось другое: подход сатирика к своим задачам. Ранее Саша Черный стремился исправить мир, пребывавший во зле. Теперь, в изгнании, его «улыбки и гримасы» преследовали иные цели – в основном игровые, рекреативные. Ибо для поднятия и укрепления духа соотечественников, как воздух, был нужен беззлобный юмор. Не сарказм, не злое отрицание, а здоровый, непринужденный смех, выявляющий комическую суть предметов и явлений.
Обильную пищу для потехи, шутки, озорства предоставлял как раз газетный мир, известный Саше Черному не понаслышке. Такой пестрый, вечно спешащий и в то же время косный, упорно держащийся за стертые штампы, он давал возможность «дрозду-пересмешнику» проявить в полной мере свои способности к имитации, розыгрышу и другим шутейным выкрутасам. Похоже, бумеранговским маскарадом Саша Черный утолил жажду веселого лицедейства, сыграв единовременно десятки ролей.
Когда идея себя изжила (это случилось на 12-м номере «Бумеранга»), он отправляет редактора – Ф. С. Смяткина в кругосветное плавание, а потом сообщает о его скоропостижной кончине. Все было исполнено в традициях «Сатирикона». Точно так же разделались когда-то А. Аверченко и В. Князев со своими надоевшими или исчерпавшими себя масками-двойниками – Фомой Опискиным и В. Теткиным. Отдел сатиры и юмора в «Иллюстрированной России» продолжал существование, возглавляемый новым редактором – Псоем Сысоевичем Куроцаповым де Ляперуз (под этим псевдонимом скрывался, по-видимому, В. Клопотовский, известный под сатирическим именем «Лери»). Но это был уже другой «Бумеранг», без Саши Черного.
* * *
Мы приблизились к книге, занимающей особое место в творчестве Саши Черного да, пожалуй, и во всей русской словесности. Это «Солдатские сказки». Отдельные произведения печатались в эмигрантской периодике порознь, но собранные воедино уже после смерти автора, они составили именно книгу, отличавшуюся редким стилевым единством.
Прежде, однако, о другом объединительном моменте – главном герое: простом русском солдате, шествующем из одной небывальщины в другую под разными именами и обличьями – рядового, денщика, вестового, раненого на излечении… По виду и не скажешь, что он герой. Чаще – невидный, сложения мизерного, словом – «михрютка». Диву даешься, как умудряется он вывернуться из любой, казалось бы, безвыходной ситуации. Причем не только самого себя спасти, но выручить из беды и однополчан, и командира, а то и самого царя-батюшку.
…Как-то, беседуя с писателем и фельетонистом А. Яблоновским, Саша Черный поделился с ним своими наблюдениями и умозаключениями касательно излюбленного героя русских сказок: «Это, конечно, вор, ловкач, плут, человек удачи и счастья, который всех околпачил, всех надул и сух из воды вышел. Народ, который сказки создает, относится к вопросам морали с полным равнодушием. Нравственный облик героя для него безразличен. Но некоторая жуликоватость и во всяком случае „ловкость рук“ обязательна. Тот и хорош, кто надул барина, околпачил купца, обманул попа. Почитайте сказки Афанасьева и вы сами увидите, что здесь нет никакого преувеличения. Жулика народ действительно любит и любуется его умом, его веселостью, его ловкостью и его удачей. Жулик всегда умнее всех. А что он плюет на мораль, тут греха большого нету. Так даже смешнее выходит».
Странное утверждение, не правда ли? Особенно в устах Саши Черного. Но несомненно одно: Саша Черный, которого нельзя упрекнуть в заемности и неоригинальности сюжетов, тем не менее воспользовался уже сложившимся в народных сказках образом, который можно считать одним из архетипов русского характера. В его сказках служивый отличается сметкой, удалой хваткой и хитроумной изворотливостью. Однако плутоватость тонет в целом море добродушного лукавства, наивного ребячества, светлого, радостного юмора и выдумки. Автор любуется своим героем и заставляет любоваться им читателя. Нет ни малейшего сомнения в его порядочности, внутренней чистоплотности и опрятности, понятии о должном и недолжном, что искони составляло нравственную основу «кодекса чести» русского простолюдина. С каким самоуважением и достоинством держится он с сильными мира сего! Уважительность (не забудем, что он – рядовой, подчиненный) никогда не переходит в угодливость и подобострастие.
«А дрянненькое мещанство, – говорится в рецензии М. А. Осоргина, – выпадает на долю барскую (в сказках чаще – королевскую)». С придурью и самодурством коронованных особ либо всяких начальников и злыдней обоего пола да еще со всевозможной нечистью служивый справляется отнюдь не с помощью волшебства, а исключительно благодаря находчивости и прочих достоинств, поименованных выше.
При этом невольно вспоминается – кто же? – ну конечно Иван Чижик. Тот самый, что с простодушным лукавством выставлял в смешном свете дурь и дичь окружавшей его действительности, одерживая верх над силами зла. Именно эта литературная маска позволяет перекинуть мостик от домашнего маскарада, интеллигентных междусобойчиков, двойничества и писательских переодеваний сатириконской прозы поэта к праздничному, карнавальному разгулу «Солдатских сказок», к амбивалентности народного смеха – смеха снижающего и поднимающего, убивающего и возрождающего (по Бахтину). Проступавший в Иване Чижике дух, звонкий и неунывающий, искал своего воплощения и слияния с неким идеалом, «до конца во всем свободным, умным, смелым и живым». И вот в конце концов, похоже, нашел то, что искал. «Иван Чижик» – имя это, право, было бы как нельзя кстати на обложке «Солдатских сказок», ибо повествование ведется от лица солдата-балакиря, неистощимого на шутку и бойкое, меткое слово.
При всем при том «Солдатские сказки» ни в коей мере не стилизация. Скорее всего, их следует отнести к сказу – редкостной и сложнейшей разновидности повествования, ориентированной на устные, внелитературные речевые формы. С помощью средств художественного воплощения сказ можно рассматривать как лингвистическую маску, дающую возможность автору говорить от другого лица. Рассказчика, отделенного лексической дистанцией от автора, легко представить одним из персонажей, развлекающим своими байками и побрехушками солдатню где-нибудь на привале, в казарме или госпитале: «За синими, братцы, морями, за зелеными горами…»
Вслед за своим предшественником – автором «Левши» Саша Черный любит до чрезвычайности вставить затейливое словечко, относящееся к так называемой «народной этимологии»: Антигной, к примеру, или денатуральный спирт, живорезная палата, портманетка, чиркуль, вертисмент… Впрочем, такого рода слово-творчество – лишь частность, одно из украшений самобытного письма «Солдатских сказок». Главнейшее достоинство – это исключительный такт и редкое чувство меры, с каким используется в сказках простонародная молвь. Ведь ничего не стоит скатиться в этакую прянично-сусальную завитушечность. Но нет: словесный ряд «Солдатских сказок» ровен, как частокол. Ни одно фальшивое слово (типа «анадысь» или «инда») «не выпрет из общего лада».
Язык солдатских сказок бесконечно прихотлив, сочен, залихватски-шаловлив. То зачастит раешником, то рассыплется дробью поговорок, да таких, что ни в одном словаре не сыщешь. Здесь не хватит места, дабы продемонстрировать все потешные и фасонистые речения, коими уснащена речь рассказчика и персонажей. Не лишне заметить, что говор их отнюдь не калька с традиционного языка русских сказок. В нем явственно ощутим привкус современности. Солдат в изображении Саши Черного «не вахлак» какой-нибудь. Коли надо, может «умственное разъяснение по всей форме сделать». Почему, положим, музыканты ремешками не затягиваются? Есть для этого свои резоны: «…и форс не допущает, и для легкости воздуха в подтяжках способнее: ежели брюхо поперек круто перетянешь, долгого дыхания тебе, особливо на ходу, не хватит. Обязательно себя в штанах, как в футляре, содержать надо, чтобы правильная перегонка нот из грудей в повздошную скважину шла». Вишь, как витиевато все разобъяснил! Видать, не только всю армейскую премудрость превзошел, но и у господ кой-чего перенял. «Грубый казарменный дух вентилируется писарской словесностью». А купеческий сын Петр Еремеев, «напяливая вместо портянок штатские носки», изъясняется следующим образом: «Хочь и не видно, а все же деликатность и внутри оказывает». Или вот как аттестует денщик барыниного мопса Кушку: «Голландской работы собачка простого молока не трескает». За всем этим смешением стилей, высокого и низкого, таится добродушная усмешка автора. И еще: при желании можно уловить присутствующую в латентной форме тонкую издевку и чувство превосходства простого люда над господами и властителями.
Не будет преувеличением сказать, что другим главным героем «Солдатских сказок» является язык. В сущности, родная речь была тем богатством, которое вывез с собой каждый беженец, и единственное, что продолжало связывать с лежащей за тридевять земель отчизной. Недаром писатели эмиграции так упорно держались за русское слово – ему посвящены лингвистические эссе А. Куприна, М. Осоргина, Н. Тэффи… Последняя заканчивает один из своих филологических этюдов о языке ностальгическим вздохом: «Но не услышим уж мы на чужбине тонкого его плетения. А вот вспомнилось, и то отрадно».
Таким образом, в своем обращении к национальным истокам Саша Черный был не одинок. Он публикует русские исторические народные песни о Петре Великом. Из хроники известно, что он читал в Париже доклады об апокрифах Лескова и о русских народных песнях по записям Гоголя. Вот как ответил писатель на новогоднюю анкету: «Если Деду Морозу не тяжело, – пусть принесет мне „Толковый словарь Даля“ (старое издание)».
Любопытно другое. Ни один из собратьев Саши Черного по перу не отказался от своего индивидуального, уже сложившегося стиля. Никто из них не достиг, пожалуй, такого слияния с народным духом, такого растворения в стихии родной речи, как автор «Солдатских сказок». Феномен поистине загадочный. Ведь Саша Черный в общем-то городской человек. Да и по происхождению разве можно сравнивать его родословную хотя бы с С. Клычковым – автором «Чертухинского балакиря», вышедшим из российской глухомани, не чувствовавшим себя пришлым на деревенских посиделках. Право, откуда это у уроженца Одессы, выходца из еврейской семьи? Ответ следует искать, по-видимому, опять же в парадоксальности натуры и судьбы Саши Черного.
У О. Мандельштама есть пронзительное и поэтически емкое выражение: «Тянуться с жалостью бессмысленно к чужому…» Не это ли странное чувство было свойственно Саше Гликбергу с рождения? Даже не столько крещение и поступление в гимназию (что было все-таки в большей степени родительской инициативой), сколько побег из дома, отказ от «сыновнести» (М. Цветаева), от потомственной фамилии стало, быть может, полуосознанным, но тем не менее непреложным выбором будущего поэта в пользу русского сознания и русской культуры. И все же, как далеко от этого шага до «Солдатских сказок», появившихся на склоне жизненного пути. Можно попытаться выявить хотя бы некоторые промежуточные вехи.
Впервые вплотную с простыми людьми Саша Черный соприкоснулся, когда был призван на срочную службу в армию. Был он вольноопределяющимся, то есть фактически тянул лямку нижнего чина. Много лет спустя он кое-что поведал об этом Б. Лазаревскому: «Мне было поручено обучать грамоте солдат в учебной команде, что я и делал с большим удовольствием – целых два года. А в свободное время слушал их рассказы, часто своеобразные, а иногда будто наивные, многие из них запомнились так, что я их использовал почти через 25 лет…» Сохранилось еще одно свидетельство поэта о той поре – документальный рассказ «Случай в лагере», повествующий о чудодейственном происшествии, случившемся с ним. Сейчас такого рода необъяснимые явления получили название «полтергейст». Но на заре века… Первое, что приходило в голову, – проделки нечистой силы. Видимо, неспроста слова «солдат», «армия», «воинская служба» ассоциативно связались в сознании Саши Черного со всякого рода чертовщиной.
В дальнейшем, однако, контакты поэта с «низовыми» слоями и прежде всего с крестьянами носили эпизодический, случайный характер. Обычно попытки его, «тайного соглядатая», разгадать «загадочную русскую душу» наталкивались на стену недоумения, недоверия, даже враждебности. Редко-редко удавалось растопить лед отчужденности. И тогда (о чудо!) приоткрывались поистине бесценные и чудесные свойства русской души – будь то удивительные народные песни, исполняемые деревенскими девушками, или вышитое орловское полотенце, которое он спешит послать в подарок Горькому на Капри. Хотя – повторю еще раз – подобные сближения, радостные прикосновения к истокам «этой крепкой и выразительной, родной и самобытной красоты» были редки и быстротечны и потому не способны были утолить жажду до конца.
Общая беда – первая мировая война вновь свела его с многоликой массой простого люда, с Россией, облаченной в серое солдатское сукно. Почти три года санитар А. Гликберг бок о бок, с глазу на глаз общался со своими подопечными – со смертельно раненым ли, жаждущим излить душу на смертном одре, либо с выздоравливающим, которому охота отвести душу, покалякать, загнуть забавную байку, приправив ее для пущего форса щегольским словечком. Казалось бы, только успевай записывать эти импровизации, бывальщины и небывальщины. Ан нет! Попытался было, и получилась опять сатира в прозе – «Техники», хотя в подзаголовке и означено – «Сказка».
Понадобилось много лет – скитаний по чужим градам и весям, ностальгии, осознания огромности потери и непоправимости свершившегося, прежде чем уклад былой жизни предстал очищенным от обыденщины и скверны. Как будто спала внешняя шелуха, и стало зримо крепкое, здоровое ядро, сущность бытия, духовная подоснова. Издалече оно виднее. И как-то сами собой отошли на второй план литературные ряженья. А тот единственный образ, который так долго чаяла душа Саши Черного, нашел свое наиболее точное и полное воплощение в… «мужицком пустобрехе».
Если угодно, то происшедшую с Сашей Черным художественную метаморфозу можно сформулировать чисто филологически. По складу своего характера Саша Черный тяготел к кинической культурно-языковой системе (отсюда его склонность к бунтарству, новаторству, сокрушению, иронии и абсурдизму). По воспитанию же он принадлежал к логосической герметике, для которой характерна консервативно-охранительная, проповедническая тенденция. Эти две мировоззренческие установки непрестанно боролись в нем, попеременно беря верх и сказываясь в творческих и житейских метаниях и исканиях. Как выяснилось, едва ли не единственным разрешением мучительных противоречий и обретения гармонии явился выход из закрытой и полузакрытой систем на площадь, в толпу, растворение в гуще сниженной, разговорной речи, участие в «пире на весь мир».
Это так. Но все равно остается нечто загадочное и необъяснимое в том дивном преображении, что произошло с художником, в качественном скачке – от «улыбки сквозь слезы» к книге, заставляющей смеяться до слез, поистине вершинном достижении поэта в прозе. Если чтение прозаических «улыбок и гримас» Саши Черного требует определенных усилий, погруженности в проблемы и реалии давно минувшей эпохи, то «Солдатские сказки» – это книга на все времена. Ибо менталитет народа (наиболее полно воплощенный в языке) – то, что почти не подвержено изменению во времени. Здесь века и исторические катаклизмы оказываются бессильны. Не потому ли сегодня, в наше смутное и лихое время, когда мы нередко становимся свидетелями театра абсурда и театра Гиньоль (ужасов), вновь современно и публицистически злободневно звучат строки «Солдатских сказок»: «Аль у нас в России золота под землей не хватит, аль реки наши осокой заросли, али земля наша каменная, али народ русский в поле обсевок? Почему в эдакую прорву лет из решета в сито переливаем, а так до правильной жизни и не достигли?»
* * *
Приведенная выше цитата приблизила нас к области, как бы вынесенной за скобки темы, означенной в заголовке данной статьи, а именно к публицистике и литературной критике – к тем жанрам, где автор предстает обычно в незамаскированном виде. Впрочем, и эти выступления могут быть вписаны в «театр масок» Саши Черного. Их можно уподобить авторским ремаркам к пьесе, либо внедействующему лицу, комментирующему перипетии спектакля.
Талант публициста в творчестве Саши Черного проявился достаточно поздно – уже в послесатириконский период, а вернее сказать – в изгнании. В эмиграции ему довелось печататься преимущественно на газетных полосах или в журнальном еженедельнике; одно время он даже заведовал литературной частью журнала («Жар-Птица») – все это, само собой, не могло не привнести в творчество Саши Черного черты журнализма. Пиком его продуктивности на публицистической ниве следует, очевидно, считать время сотрудничества в «Русской газете». Не обошлось оно, надо думать, без участия А. Куприна. Ибо именно в ту пору, сразу после переезда Саши Черного в Париж, произошло их дружеское сближение, продлившееся до конца жизни, а сам Куприн тогда помещал чуть ли не ежедневно на страницах «Русской газеты» полемически заостренные статьи. Автор «Поединка», захваченный вихрем революции и гражданской войны, вот уже несколько лет как почти совсем забросил беллетристику, сменив «кисть художника на шпагу публициста». В Саше Черном он обрел верного соратника и единомышленника по борьбе с большевизмом.
Не они одни из писателей земли русской вынуждены были в эмиграции обратиться к животрепещущим вопросам общественности. Ибо, как сказано у Ю. Айхенвальда, «когда-то пишущему можно и не быть публицистом; теперь этого нельзя. Во все, что ни пишешь <…> неизбежно вторгается горячий ветер времени, самум событий, эхо своих и чужих страданий». Неудивительно, что публицистические выступления Саши Черного по большей части могут быть отнесены к памфлету – жанру экспрессивному, дышащему гневом и сарказмом, заряженному энергией негодования.
Конечно, сегодня, по прошествии десятилетий, зрима явная тенденциозность и несправедливость многих язвительных инвектив Саши Черного в адрес Советов. Так, эмигранты всячески поносили Советский павильон на декоративной выставке в Париже (1925). Обливали грязью (в переносном и буквальном смысле) выставленные экспонаты. Между тем молодое изобразительное искусство и архитектура Советской России, искавшие новые формы и средства выражения, занимали тогда авангардные рубежи в мире (Лисицкий, Родченко, Малевич, Мельников, братья Веснины…).
Ненависть всегда «слепа и непродуктивна». Однако не стоит судить Сашу Черного и его зарубежных соотечественников за отсутствие объективности и аналитичности. В их пафосе отрицания, в едкости злоречия и презрения была своя правота. В одночасье был потерян родной дом, привычный образ жизни, все, к чему предрасположена душа, отнята надежда на будущее. В чем, в чем, а в неискренности их не упрекнешь.
Следует заметить, что публицистический дар Саши Черного обнаружился много раньше, и обратил на него внимание не кто иной, как Леонид Андреев, чьи политические статьи о войне и революции составили золотой фонд отечественной журналистики. Из письма С. П. Мельгунова известно, что еще в 1911 году Леонид Андреев готовил к печати сборник публицистических статей, куда в числе прочих авторов собирался включить и статьи Саши Черного. Не оставляет он свою затею и в 1914 году. И вновь среди литераторов, которых он намеревался привлечь к сотрудничеству, – Саша Черный, о чем идет речь в письме А. Н. Тихонова к Горькому: «…он (Л. Андреев. – А. И.) очень за Черного и против Блока, говорит гнилое полено, которое ничем поджечь нельзя».
Были ли написаны уже в ту пору Сашей Черным статьи? Неизвестно. Возможно, Л. Андреев просто предугадал в Саше Черном публицистический талант, исходя из хлесткости его сатир в прозе и стихах, а может, на основании тех огневых филиппик, которыми разражался поэт во время их совместных ночных бесед. Заметим, что блески этого дара памфлетиста разбросаны в эпистолярном наследии Саши Черного. Иные его убийственно беспощадные оценки могут рассматриваться как фрагменты какой-то ненаписанной статьи или рецензии на литературные темы: «Вообще, в одной части русской словесности наступил лупанарно-лакейский период и все растет: издают во вкусе выигравшей 200 000 кухарки, крадут псевдонимы, переделывают „Войну и мир“ для сцены, комментируют предсмертную икоту Толстого, выискивая то, что он написал на клякс-папире, хотя бы это была „тарарабумбия“… А рядом В. Тихонов угрожает толстым ежемесячником „Круговорот“, где он будет с Баранцевичем и другими равноапостольными „хранить святые заветы русской литературы“, как гласит объявление. В. Тихонов – провесной балык русской литературы, один из создавших „коллективный роман“ в „Синем журнале“ – и рядом „святые заветы“!» (Из письма Саши Черного к А. М. Горькому. 1913.)
До поры до времени подобные отклики и оценки современного литературного процесса не выходили за рамки частной переписки Саши Черного, либо, облеченные в стихотворную форму, пополняли цикл «Авгиевы конюшни». Как литературный критик Саша Черный проявился в основном в эмиграции. Хотя основополагающие принципы и требования, предъявляемые им к собратьям по перу, определились много раньше, еще до революции. Ничего общего они не имеют с обывательским улюлюканьем толпы, которым извечно встречается все новое, необычное. Претензии Саши Черного лежат скорее в нравственной сфере, нежели эстетической, они основаны на традициях классики и заповедях гуманистической морали человечества. Их, в конечном счете, можно свести к пастернаковскому высказыванию: «Неумение найти и сказать правду – недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть». Каждой своей рецензии Саша Черный придавал значение некоей общественной функции, долженствующей воздать добру и злу по справедливости. Он и здесь оставался прежде всего поэтом. Среди литавров дружеских рецензий его отзывы звучали явным диссонансом, отличаясь категоричностью и максималистской неуступчивостью:
У поэта только два веленья:
Ненависть – любовь.
Отрицание либо утверждение. Без полутонов. С безоглядной решимостью «рыцаря без страха и упрека», бросавшегося в бой на мельницы, Саша Черный оружием сарказма пытался бороться со снобизмом и «скверной игрой в литературу для посвященных». На его рыцарском щите впору начертать в качестве девиза слова Фауста: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой».
В своей ригористически проповеднической позиции Саша Черный смыкается с Буниным, публично высказавшим свои антимодернистские взгляды в знаменитой речи 1913 года: «Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота, и морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый».