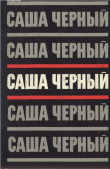Текст книги "Саша Черный. Собрание сочинений в 5 томах. Т.3"
Автор книги: Саша Черный
Соавторы: Анатолий Иванов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 41 страниц)
– Куда ж спешить. Бура от вашего благородия никуда не уйдет. А допрежь того я вам всех тараканов в одночасье выведу, за полверсты от госпиталя ни одного не найдете.
Кинулся к нему смотритель, как к родному племяннику, чуть с копыт не сбил. Да ах ты, да ох ты… Да не жестко ли ему, Лушникову, спать, да не охочь ли он до приватной водочки?
Лушников лисьи эти хвосты отвел, сразу к делу приступает. Угодно, мол, от тараканьей пехоты избавиться, сделайте снисхождение, на три дня увольте, – хочь гласно, хочь негласно, – семейство свое повидать.
– Да ты не надуешь ли, яхонт, насчет тараканов? Нахвал денег не стоит… Ослобони, а там и разговоров не будет.
Лушникову что ж… В каком, говорит, помещении у вас главный завод.
Повел его смотритель в продуктовый склад, дверь распахнул, а там – как майские жуки под тополями, – так черная сила живым ключом и кипит. Смотреть даже смрадно. Солдат огарок черный, который ему мордвин в придачу дал, из рукава выудил, чиркнул спичкой, подымил корешком… Так враз все тараканы, будто сонное наваждение, и сгинули, – мордвин не какой-нибудь оказался.
В тую же минуту у смотрителя на личности желток румянцем так и заиграл.
– Ах ты, орел! – говорит. – Выведи на скорую руку по всем этажам, а там вали на все три дня. На свой страх тебя увольняю. Глаза у тебя ясные русские, не подведешь, вернешься.
Сует на радостях Лушникову сала да чаю, тот, конешно, деликатно отказывается, да в рукав халатный прячет. Призадумался, однако, смотритель:
– Ты, братец мой, вижу я, дока: обмозгуй уж, присоветуй, как бы этак отлучки твоей никто не приметил… А то в случае чего жилы из меня главный наш вымотает да на них же и удавит.
Усмехается Лушников.
– Зачем же этакое злодейство. Жилы кажному человеку нужны… Есть у меня в Острове, рукой подать, миловидный брат. У купца Калашникова по хлебной части служит. Близнецы мы с ним, как два полтинника одного года. Только он глухарь полный, потому в детстве пуговицу в ухо сунул, так по сию пору там и сидит, – должно предвидел, – чтобы на войну не брали… Вы уж, как знаете, его в Псков предоставьте, – заместо меня в лучшем виде три дня рыбкой пролежит и не хухнет. Чистая работа…
Взвился смотритель. Пока солдат по ночным палатам в тайности корешком дымил, отрядил он помощника своего на интендантском грузовике в Остров. Версты кланяются, встречные кобылки на дыбки встают. Спешно, секретно, в собственные руки… Ночь знает, никому не скажет.
* * *
Ходит главный врач журавлиным шагом по госпиталю, обход производит. Часовому у денежного ящика ремень подтянул, во все углы носком сапога достигает. Хочь бы один таракан для смеха попался: красота, чистота. Утренний свет на штукатурке поигрывает, на кухне котлы бурлят, кастрюли медью прыщут, хозяйственная сестра каклетки офицерские нюхает, белые полотенца на сквознячке лебедями раздуваются…
Взошел главный в выздоравливающую палату. Почему халат в ногах конвертом не сложен? Почему татарин у стенки рукавом нос утирает? С какой радости туфли под койкой носками врозь? Голос, однако ж, сдобный, строгости еще настоящей в себя не вобрал, шутка ли, от такой тараканьей язвы госпиталь избавился… Дошел до Лушникова, приостановился…
– Ты в какое место, сокол, ранен? Запамятовал я.
Лушников-близнец на койку сел, белыми ресницами хлопает:
– По хлебной, – говорит, – части…
– Что такое? Откудова дурак такой мухобойный объявился?
Сестра востроглазая тут в разговор врезалась, удобрилась, как мачеха до пасынка:
– Не извольте, г. доктор, беспокоиться. Он с раннего утра все невпопад отвечает, заговаривается. Надо полагать, по семейству своему скучает.
– А, энто тот, что на три дня на побывку просился… Заговаривайся, друг, да не очень…
Глянул он тут в историю болезни, велит палатному надзирателю обернуть солдата дном кверху. Перевернули его, главный очки два раза протер, глазам не верит – ничего нет, прямо, как яичко облупленное.
– Ловко, говорит, у меня в госпитале работают. Надо бы тебя, красавца, сею же минуту на выписку, да уж оставлю до ревизии. Пусть санитарный генерал сам поглядит, как чисто у нас в образцовом ранения залечивают.
Больше и смотреть не стал, с сестрой пошутил, веселой походкой из палаты вышел и пошел в канцелярию требования на крупу-соль подписывать.
Работа, меж тем, кипит. Смотритель с лица, как подгорелый солод, стал. В команду новые медные чайники из цейхгауза волокут, а то из жестяных заржавленных пили. Санитаров стригут, портрет верховного начальника санитарной части чистой тряпкой протерли, рамку свежим лаком смазали, – красота. На кухне блеск, сияние. Кашеварам утром и вечером ногти просматривают, чтобы чернозема энтого не заводилось, дежурного репертят насчет пробы пищи, да как отвечать, да как полотенце на отлете держать.
Три дня пролетело, – нет санитарного генерала, – не извозчик псковской, – к любому часу не закажешь. Измаялись все: одну чистоту наведут, готовь вторую. Свежих больных-раненых подсыпят, опять скобли да вылизывай, – пустой котел блестит, полный – коптится.
Про Лушникова смотритель и не вспомнил, не такая линия. Однако ж, он в обещанный срок, как лук из земли, в вечерний час перед смотрителем черным крыльцом вырос. Личико довольное, бабьим коленкором так от него и несет. Вестовой доложил. Вызвали потаенно близнеца-брата, сменились они одеждой, поцеловались троекратно, – и каждый на свое место: глухой на вокзал, Федор на свою койку. Пирожок с луком исподтишка под подушку сунул, грызет – улыбается. Угрели его, стало быть, домашние по самое темя.
Только утром он из сонной мглы на белый свет вынырнул, слышит, парадные двери хлоп-хлоп. Махальный, сквозь дверь видать, знак подал. Дежурный ординатор с главным врачом шашками сцепились, чуть с мясом не вырвали. Один рапортует, другой сладким сахаром подсыпает. Ведут… А в дальних покоях по всем углам сестры сосновым духом прыскают, чтоб лазаретный настой перешибить.
Обернулся генерал, выбрал себе точку, в выздоравливающую палату направление держит.
Ну, главный врач сообразил, конечно, ежели первый блин густо намаслит, другие легче в горло пойдут. Подводит санитарного начальника к лушниковской койке, на два шага позади в позицию встал, докладывает.
– Случай, Ваше Превосходительство, необыкновенный… Солдат Лушников в сидячее место ранение имел, до того здорово у нас его залечили, что и швов не видать. Будто кумпол гладкий, до того красиво вышло. Муха и та не усидит. Изволите взглянуть.
Генерал, само собой, интересуется. Перекувырнули Лушникова, оголили ему Нижний Новгород, главный врач так и ахнул. Не крой лаком, завтра строгать… Рубец пунцовый во всю полосу, будто сосиска, вздулся. Опасности никакой, а знак отличия полный, лучше не надо.
Вот тебе и намаслил… Нахохлился генерал, хмыкнул в перчатку и бессловесно в коридор вышел. Главный за ним, – только кулак за спиной Лушникову показал. Сестрица валерьяновую пробку нюхает… Подбелил солдат щи дегтем, нечего сказать…
Что там дальше было – Лушникову неизвестно, а только через малое время крестный ход энтот назад потянулся: генерал кислый, шашку волочит, главный врач за ним халатную тесемку покусывает, – сладка, надо быть. Смотритель в самом хвосте, – будто два невидимых беса под мышки его в котел волокут…
Обедать, однако ж, надо, – и святые закусывают. Только это выздоравливающие за перловый суп принялись, сестрица впархивает да прямо к Лушникову с сюрпризом: «Собирайся, милый человек, на выписку. Главный врач распорядился перышко тебе немедленно вставить, – нечего лодырей держать, которые начальство почем зря морочат».
Встряхнулся солдат, ему что ж. Рыбам море, птицам воздух, а солдату отчизна – своя часть. Не в родильный дом приехал, чтобы на койке живот прохлаждать… Веселый такой, пирожок свой с луком – почитай восьмой – доел, крошки в горсть собрал, в рот бросил и на резвые ноги встал.
– Спасибо, сестрица, за хлеб, за соль, за суп, за фасоль. Авось Бог не приведет в другой раз белое тело живопырным швом у вас зашивать… Слушок есть, что к Рождеству немцу капут, женщин у них уже будто малокровных в артиллерию брать стали. А с бабами много ли настреляешь…
Однако сестрица от койки не отходит, вертится. Очень ей по ученой части интересно, как так солдат то гладкий был, то вдруг рубец у него наливным алым перцем с исподу опять засиял. Как, мол, такое, Лушников, могло произойти.
Ему что ж скрывать, не католик какой-нибудь.
– Ничего, – говорит, – денатурального, сестрица, в том нет. Третьего дня, как меня ваш главный обернул, я по – деликатности воздух в себя весь вобрал, вся кровь в меня и втянулась, ни швов, ни рубцов. А сегодня запамятовал, вот ошибочка и вышла. Уж не взыщите, сестрица. Корова быка доила, да все пролила. Всякое на свете бывает…
<1930>
АНТОШИНА БЕДА *Пала ночь на город… Звезды не спят, ветер по кустам бродит, а солдатам в мирное время в ночную пору спать полагается. Спит весь полк, окромя тех, кто в карауле да по дневальству занят. Собрались солдатские Ангелы-Хранители в городском саду, за старым валом. Подначальники ихние, по койкам свернувшись, глаза завели, – не сидеть же до белой зари у изголовьев ихних… Ходят Ангелы по дорожкам, мирно беседуют, – лунный свет скрозь них насквозь мреет, будто и нет никого. Только крыло, словно парус хрустальный, кое-где над кустом загорится – и опять в темных кустах погаснет.
Кажный Ангел со своим солдатом схож, – который солдат в плечах широк, лицом ядрен, – и Ангел у него бравый; который замухрышка незадачливый, – Ангел у него тихонький, уточкой переступает, виду у него настоящего нет… Однако все между собой в светлом согласии, в ладу, – не по ранжиру же им, Ангелам, равняться, звание не такое.
Все боле поротно они собирались, кругами. Потому кажный своей частью интересуется, все солдатики своей роты до донышка им известны, – беда ли какая, либо заминка, совместно обсудят, авось чего и придумают.
Шестой роты Ангелы коло пруда расположились. Ангела первовзводного командира обступили, ласково ему выговаривают: что-де твой воин-унтер разбушевался, – спокоя от него нет, молодых солдат сверх пропорции жучит… Какой-де овод укусил? Начальник был справедливый, а теперь – будто козел на бочку, так на всех дуром и наскакивает.
Смутился Ангел, поясок шелковый подергивает. «Эх, братцы, и самому мне обидно. Письмо он с деревни получил, – невеста евонная за волостного писаря замуж вышла, – вот он с досады и озорует. Уж я его как-никак успокою… Свое горе сам и перетерпи, на подчиненных не перекладывай…»
Про инспекторский смотр поговорили, – кажись, в роте все исправно, без боя, без крика репертички идут… Сойдет гладко, солдатам облегчение.
Помолчали Ангелы, стали камушки в лунный пруд метать. С чего же им печалиться: войны не предвидится, в роте штрафованных нет, кажный солдат себя соблюдает, – кажись, у Ангелов-Хранителей и забот-то никаких нет.
Затянул было с правого фланга светлокрылый один любимую их солдатскую:
Ранным рано на рассвете
Господь солнышко послал,
Чтоб на ротное ученье
Солдат жаворонком встал…
Подхватили Ангелы бестелесными соловьиными голосами, – от ясного дыхания рябь по пруду прошла. Прижались друг к дружке для угрева, покачиваются. Ан тут ктой-то из них и спрашивает:
– А что ж это Антошкиного голоса не слыхать? Он всех знаменитей поет, куда ж он сподевался? Кажись, солдат его не в наряде…
Переглянулись они справа-налево, – нет Антоши. А звали они так Ангела одного Хранителя, – потому имена у них кажному по своему солдату идут.
Туда-сюда глянули, на легкие ножки встали: нет Ангела и следа, будто облако, растаял.
Бросились они по кустам, видят, поодаль, у самой воды, сидит под лозой Антоша, плечики у него вздрагивают, крылами лицо прикрыл, навзрыд рыдает.
– Что с тобой, лебедь? Кажись, твой и здоров и не на замечанье… С чего плачешь-то, ангельский лик свой туманишь?
– Ах, братцы, беда… Поди сами знаете, – мой-от в роте всех тише, всех безответнее… В иноки б ему, а не в солдаты… Портняжил он все между делом, по малости. То вольноопределяющему шинельку пригонит, то подпрапорщику шароварки сошьет… То да се, – десять целковых и набежало… Хотел матери убогой к празднику послать. Старушка в слободе под Уманью живет, только тем и дышит, что от сына ей кой-когда перепадает. Ан вот сегодня и прилучилось; скрали у моего солдата всю выручку, и звания не осталось…
Всполошились тут Ангелы, кругом обступили, крылами, как ласточки в грозу, так и шелестят…
– Да кто ж у него мог скрасть, милая ты душа, когда он из роты-то и не отлучался? Что говоришь-то, подумай…
Опустил Ангел еще ниже голову, тихо ответ подает:
– В роте и скрали. Простите на горьком слове, – да что же и скрывать-то…
Насупились Хранители, друг на дружку и не взглянут. Кто же взять-то мог? Нет у них в роте такой темной души, чтобы у своего брата-солдата воровским манером последнее огребать.
Спрашивает тут первовзводного командира Ангел:
– Доложил твой, что ль, по начальству?
Антошин Ангел резонно ему докладывает:
– Не таковский мой, чтобы жалиться… Да еще перед самым смотром катавасию заводить. Что ж срамоту на шест вывешивать. Шестая наша рота, как орешек, ужели мы же ее под каблук… Честь не десять целковых стоит, а ежели бы на кого мой солдатик подозрение и имел, уши бы себе заткнул, рот завязал. Я от вас со своим огорчением в сторонку деликатно ушел, а вы меня сами нашли, да распатронили…
Ведь вот какой Ангел понимающий оказался.
Разошлись крылатые кто куда. Луна за облако скрылась, кусты вурдалаками принахмурились… Отличилась шестая рота, что и говорить…
Выступает тут из-за темного дуба чернявый Ангелок, из себя не ахти какой, щуплый да хмурый. Коло Антоши наземь сел, к плечику его прикоснулся:
– Не кручинься, голубь. Узел крепко завязан, да авось я развяжу. Деньги-то ведь мой скрал, – Брудастый…
Антоша так на него крылами и замахал:
– Что ты, что ты! Ветер слышал, ночь унесла… Снежок подпал и следок застлал. Чего же зря расковыриваешь?
Однако ж, Ангелок свою ниточку разматывает:
– Хочешь не хочешь, а я этого дела так не оставлю. Тебя мне и ненадобно. Сраму и на воробьиный клюв не будет… Только ты мне своего чистого покрепче усыпи, пока я дуботолка моего в смягчение приведу… Тоже и я препорученную мне черную душу выполоскать-то должен.
Так строго сказал, что встал Антошин Ангел, низко чернявому поклонился и со смирением ручки скрестил.
– Делай, что хочешь. А уж мой до зари камушком пролежит…
* * *
Не спит Брудастый. На локоть облокотился, все на Антошку посматривает, что супротив на койке в носовую жилейку высвистывал, – в печени у него, Брудастого, так и саднит.
– Ишь, дрыхнет, – будто и не у него украли… Дите стоеросовое. А тут сдуру в чужой сундучок раскатился, – благо, открыт был. Вот теперь сам себя на вертеле и поворачивай. И зачем крал, бес его кривой знает! Ни светило, ни горело, да вдруг и припекло… Попросить у Антошки, как следовает, – он тебе рубашку последнюю с крестом отдаст, лампадная душа… Не пожалился ведь никому, Чистоплюй Иванович. Молчан-травку проглотил, только с лица побурел. Поди, и не себя он теперь жалеет, а того, кто себя потерял, – на убогое солдатское добро позарился. Ведь вот этакая-то вещь более всего и пронзает…
Не спит Брудастый, поворачивается. А над ним будто темное крыло ходит, слова острые навевает:
– Что, солдат, сам себя накаливаешь? Кто тебе чехол на балалайку ко дню Ангела сшил? Антошка. Кто на маневрах, как ты притомился, винтовку твою на себе пер? Антошка… А он ведь и сам, как лучинка… Кто за тебя, темного, письма домой пишет, обалдуй ты безграмотный? Кого ограбил?.. Антошка простит-стерпит, да тебе же еще штаны задарма залатает, – а что же ты мамашу его хлеба к празднику лишил? Что ж я с тобой делать буду, ежовая твоя голова? Хочь бы откомандировали к другому, – тошно мне с тобой, нет никакой возможности…
Скрипнул Брудастый зубом. И не спит будто, – откуда ж голос такой занозистый.
– Вставай, вставай… Чего кряхтишь-то, как святой в бане… Умел в яму лезть, умей и выкарабкиваться.
Не видно пылинки, а глаза выедает… Терпел он, терпел, однако ж не чугунный, – долго ли вытерпишь. Видит, дневальный, к нему спиной повернувшись, сам с собой в шашки за столиком играет. Скочил солдат на пол. По-за койками в угол пробрался, десятку из-под половицы выудил, да тихим маневром, подобравшись к Антошиной койке, под подушку ему и сунул.
Сразу ему полегчало, будто чирий, братцы, вскрыл. Завел он глаза, одеяльце на макушку натянул. Только уснул, – ан и во сне хвостик-то остался: «Деньги-то я, – думает, – отдал, а надо будет утром Антошке по всей форме спокаяться. Срам перед ним приму, – он добрый, ничего… А то уж больно дешево отделался: украл, – воробей не видал, назад сунул, – будто наземь сплюнул…»
Только подумал, а перед ним будто его брат родной, только с крылами да в широкой одежде, как небесному воину полагается… Топнул он на Брудастого ножкой:
– И думать не смей!.. Оченно Антошке твое покаяние нужно. Только смутишь его, тихого, занапрасно… Я тебе форменно воспрещаю.
Оробел Брудастый, в струнку вытянулся:
– Да как же так?.. Хочь наказание какое на меня для легкости души наложите…
– А ты без покаяния походи, вот это тебе настоящее наказание и будет.
Задумался тут чернявый Ангелок и начальственно прибавляет:
– Да еще, ежели пострадать хочешь, – воспрещаю я тебе с энтого часа солдатскими словами ругаться. Понял?
Смутился тут Брудастый совсем, спрашивает своего Ангела:
– На время или окончательно воспрещаете?
– Окончательно. Ведь вот же Антоша не выражается. Стало быть, можно…
– Да ему ж без надобности… Вздохом из него всякая досада выходит. А обнакновенному солдату, посудите сами. Скажем, я винтовку чищу. Паклю на шомпол навертел, смазкой пропитал, в дуло сгоряча загнал, – а назад шомпол-то и не лезет… Как тут, Ваше Светлородие, не загнуть? Дверь рывком дернешь, – и то она рипит, а солдат…
– Это до меня не касаемо. Наворачивай паклю в пропорцию, вот и не заест… А будешь рассуждать, я тебя и курева лишу.
Вздохнул тут Брудастый, на голенища свои покосился.
– Ладно. Попробую… Только, в случае чего, ежели осечку дам, – уж вы того, не прогневайтесь.
Улыбнулся Ангел. «Ничего, – говорит, – главное, чтобы прицел был правильный, а осечку Бог простит».
* * *
Так-то оно, братцы, все и обошлось. Антошке – возврат имущества, Брудастому – эпитимья, шестой роте – ни суда, ни позора, Ангелам-Хранителям – беспечный спокой.
<1932>
«ЛЕБЕДИНАЯ ПРОХЛАДА» *Случай был такой: погорело помещение, в котором полковая музыкальная команда была расквартирована. Вот, стало быть, пока ремонт производился, полк снял под музыкантов у купеческой вдовы Семипаловой старый дом, что на задворках за ее хоромами на солнце лупился.
Дом крепкий, просторный. Прежде всего в нем сам купец с семейством квартировал, а как помер, вдова с отчаянной скуки себе новые хоромы взгромоздила, а старый дом так и стоял без надобности, паутинкой-пылыо замшился, – мышам раздолье.
Перевезли, значит, кавалеры свои сундучки на нестроевой двуколке, костылей в стены наколотили, трубы поразвешивали, – живут. Воздух, конечно, затхлый, однако, как махоркой его провентилировали, – жилым духом пахнуло.
С утра до вечера цельный день трубы курлычут, флейты попискивают. Потому команда, помимо своей порции, еще и в городском саду по вольной цене по праздникам играла. А тут еще и особливый случай привалил: капельмейстер, прибалтийский судак, хочь человек вольнонаемный, однако по службе тянулся, – вальс собственного сочинения ко дню именин полковой командирши разучивал. «Лебединая прохлада» – на одних тихих нотах, потому в закрытом помещении у командира нельзя ж во все трубы реветь…
А в том дому, братцы, еще с турецкой кампании, домовик поселился, на чердаке себе место умял, стружек сосновых понатаскал, – прямо перина. В новые хоромы не переехал, – старый деревянный дом куда способнее, что ж камень своими боками обсушивать… Да и домовые они вроде кошек – к своему стародавнему месту до того привычны, что и с кожей не оторвешь.
Харч был готовый – на помойке, за банькой, завсегда либо мозговую кость, либо пирога испод подгорелый добудет. Дворовый барбос до этих лакомств не достигал, потому домовой еще с вечера помойку обшаривал, пока собачку с цепи не спущали.
В лунные вечера ему, красноглазому, раздолье: по пустым покоям похаживает, мутным баском рявкает, – стекла по всем концам так и отзовутся. Либо на рундучок в прихожей ляжет, патлы свесит и давай по-мышиному поцыкивать… Набежит мышей прорва, он им сладкий сухарик скормит, да на две партии и распределит: которые мыши пешком – пехота, которые на крысах верхом – кавалерия. Хлопнет пяткой о притолоку – знак подает, – пошла война. Грызутся, кувырком о пол шмякаются, а он, шершавый, и рад – по рундучку катается, сам себя лапами по пузу барабанит… Удовольствие.
Зато и мышиную свою команду уж он не выдавал, – ни одного кота в дом нипочем не допустит. Чуть который мурло из-за ободранной доски покажет, чичас его домовик кочергой по усам, кот так и вскинется. Попал шар в лузу да и выскочил.
Да и на крыше ему, кудластому, лафа… Зимой белые шмели над трубой попархивают, в ставне у купеческой вдовы красное сердечко мерцает. Тишина кругом до чрезвычайности. Дальний лес в мутном молоке дремлет… Дура-ворона сбоку на крышу подсядет, слепит домовой снежок да в зад ей пальнет, – лети, милая, не загащивайся!.. И летом не плохо: звезды, Божьи глаза, над кровельным коньком играют. Сопрет домовой из колодца бутылку пива. Пьет, ногой по желобу стучит. Остатки дворовому псу на башку сплеснет, – не смотри, обормот, на луну, не для тебя выплыла… В саду сторож у шалаша груши-опадки печет. Чуть глаза заведет, домовой свою порцию свистнет, с руки на руку перекидывает и к себе на чердак. Знатно жил, что и говорить…
Особливо ж он весну обожал. Черемуха округ всей крыши кольцом цветет, миндальным мылом ноздри лоскочет. Соловьи над малинником гремят, звонкий раскат-пересвист из сада того густо наплывает, что не то что домовой – бревно разомлеет. Вытащит он из-за водосточной трубы своей работы жилейку, да как начнет соловьев подбадривать, аж прачка Агашка на дворе на белых пальчиках лебедью закружится…
И вот тут, нежданно-негаданно, – загнали ему, под самый, можно сказать, май месяц шип под ноготь. Понаперло этой музыкальной солдатни во все покои, прямо дом трясется. Днем не заснешь, – а когда ж и соснуть домовому, как не днем… Почитай, с зари гундосят черные дудки, флейты до такой пронзительности достигают, аж в глазах режет, басы в подкладку мычат-раскатываются. Хочь башку в стружки зарой, хочь паклей из-под бревна уши законопать, нипочем тишины не добьешься. Марши да польки – будто медные козлы через стеклянный забор скачут… Вальс «Лебединая прохлада», правда, на одном пьяном шепоте шел, да что толку, ежели капельмейстер через кажный такт музыку обрывал и такими прибалтийскими словами солдат камертонил, что домовой с тоски в трубу голову засовывал. Не любят они, домовые, когда кто по-русски неправильно ругается…
Да и ночью не легче было. Строевой солдат, когда он не дневалит, да на посту с ружьем не стоит, ночью обязательно дрыхнет, а эти бессонные какие-то оказались. Чуть капельмейстер на свою фатеру через дорогу вонзится, чуть старший унтер-офицер, сверхсрочный старичок, – мундирчик с шевронами над койкой повесит, – сейчас кто куда. В саду шу-шу, шу-шу: мало ли беспризорных куфарок да мамок… Полковому музыканту после пожарного, можно сказать, первая вакансия. Из окон сигают, в кустах масло жмут – всех соловьев, самозабвенных пташек, к собачьей матери поразогнали… Сирень снопами рвут, – на пятак попользуются, на рубль поломают. Ох, сволочи!
Нырнет домовой, как солнце сядет, под жимолость, к помойке своей серым катышком продерется, ан и тут обида: квартирант богоданный, музыкантская собачка Кларнет-пистон, все как есть приест, – хоть мосол обглоданный после нее прохладным языком оближи… На чердак вернется, – портки музыкантские на веревках удавленниками качаются, портянки, хочь и мытые, на лунном свете кадят-преют, никакая сирень не перебьет.
Даже мыши и те сгинули. Капельмейстер, чистоплюй, во все углы носом потыкал, – приказал в мышиные щели толченого стекла насыпать. Тварь Божия ему, вишь, помешала. Ну и ушли все скопом в лабаз соседний, не по стеклу ж танцевать. Лапки свои – не казенные. Совсем домовому обидно стало, как своей последней компании он решился. Ишь, хлуп гусиный, – на малое время до лагерного сбора с командой втиснулся, а распорядки заводит, будто он тут и помирать собрался.
Вылез как-то домовой о полночь на крышу, к трубе притулился, лунный дым скрозь решето стал сеять, а сам свою думку думает: как бы охальную команду с места сжить? Не самому ж со стародавнего гнезда сниматься… Хоть дом сожги, – в золе под порогом ямку выкопает, никуда не подастся. Кой-чего и придумал. Начал он тихо, вроде «Лебединой прохлады», а дальше все круче: поострей толченого стекла дело-то вышло.
* * *
Утром, чуть ободняло, полез барабанщик на чердак, бельишко в охапку собрал, – все как есть на месте. А чуть на свет вынес, так и заверещал:
– Ох ты, гусь с яблоками! Глянь-ка, братцы… Никак черт на нашем белье трепака плясал.
Сбежались музыканты, – вот так постирушка. По всем порткам, рубахам жирной сажей следки понатоптаны. Да и следки какие-то несуразные: то ли селезень с медвежонком сажу на белье месили, то ли обезьяна заморская, из трубы вылезши, на передних лапках по белью краковяк танцевала…
Подкатился тут старший унтер-офицер, подковками затопотал:
– Что ж, энто, до-ре-ми-фасоль вам в душу, за оказия?! Как так не доглядели? Почему такое?
Догляди-ка тут, – не часовых же к подштанникам ставить… Капельмейстер на крик из своей фатеры поспешает. Скрозь очки глянул, чуть дневальному голову не отгрыз. А что ж с дневального в таком разе и спросишь, – ведь эдак его и за лунное затмение под винтовку ставить-то надо…
Ну, кой-как дело обмялось. Собралась команда в верхнем помещении. Впереди флейты, за ними кларнеты, у стены геликон-басы, – самые пучеглазые да усатые кавалеры. Дал капельмейстер знак, чтобы, значит, «Марш-фантазию» спервоначалу для разгону музыки. Набрали солдатики полную порцию воздуха, понатужились, дунули в мундштуки, – как прыснет из всех раструбов мелкой пылью керосин, – так всех с морды до подметок и окатило. А более всех капельмейстер попользовался, потому он завсегда перед командой, палочкой своей выкомаривает…
Затрясся он, раскрыл было рот, чтобы всю команду в три тона обложить, ан слов-то и не хватило… Выплюнул он с пол-ложки, – с висков течет, мундирчик залоснился, с голенищ округ ног жирный прудок набегает. Залопотал он тут, как скворец, – и слов других не нашлось:
– Что значит? Что значит?! Что значит?!
Ничего не значит. Помет на полу, а птички и видом не видать.
Призадумались тут и музыканты, а уж на что народ дошлый. Флейтист один мокроротый, весь, как сорочье яйцо, веснущатый, кинулся к керосиновой жестянке, что в углу стояла: пусто. А вчерась полная ведь была, – вот в чем суть!
Стали солдатики шарить, про капельмейстера и забыли, – хочь и начальник, совсем он ошалел с перепугу, чихал в сенях да старшему унтер-офицеру бока свои мокрые под тряпочку подставлял. Стали шарить. Глядь-поглядь, такие же следки, как на белье, только керосином смоченные, на чердак вели… Заскучали тут многие…
Однако ж, опомнился кое-как прибалтийский судак энтот, приказание дал, чтоб чердак до последней балки обследовать. Музыканты, ежели присяга потребует, народ храбрый: в самый бой впереди всех с музыкой идут. Ан тут человек с 5 охотников-то набралось. Фонарь зажгли, барабанщик наган свой против неизвестной нации неприятеля из кобуры вытянул, поперли на чердак. Тыкались, тыкались, все закаблучья друг дружке оттоптали, – хоть бы моль для смеха попалась. Только с дюжину пустых пивных бутылок у слухового окна нашли, – как кегли были расставлены. Да за-место шара чугунная бомба, что к лампе подвешивают, рядом лежала. Ох ты, Господи! То-то вчерась ночью над головами гудело-перекатывалось. Потоптались музыканты, никто и слова не сказал.
Делать нечего, – стали они задом с лестницы спускаться, а вдогонку им из-под дальней черной балки стерва какая-то подлым голосом огрызнулась:
– Ку-ку! Шиш съели?..
Загремели солдатики вниз, аж лестница затряслась. Доложили капельмейстеру, бухнул он с досады в турецкий барабан колотушкой, чуть шкуру не прорвал.
– Чепуха на барабанском масле! Голые потемки разве сами разговаривать могут? Промывайте струменты, ну вас всех к подноготному дьяволу…
Обнакновенно немец, – и выразиться по-настоящему не умел. Поманил он старшего:
– Займись тут пока с ними. А я пойду переоденусь, потому я весь фатогеном провонялся. Фитиль в меня вставить – и лампы не надо…
* * *
Отрепертились солдатики к вечеру, аж губы набрякли. Дело спешное: завтра утречком к полковой командирше в полном составе являться, супризный вальс играть. Проверили они инструменты, да заместо верхнего помещения внизу их над койками поразвешали, – при лампочке да при дневальном никакой сукин бес не накеросинит.
Сели в кружок, – кто в картишки, кто ноты подшивает, кто из черного хлеба поросят лепит… И вдруг все враз к фортке головы повернули: из-за колодца, из садовой чащобы невесть на чем, – ни дудка, ни окарина, невесть кто «Лебединую прохладу» высвистывает…
Да с такими загогулинами да перекатцами, что капельмейстеру хочь лицо закрыть. Он, минога, гладко сделал, будто наждачной бумагой отшлифовал, а тут стежок за стежком золотом завивается, сам из себя звонкие ростки дает… Кому ж играть? Все на местах. Экое ведь дело!
Пошушукались кавалеры. Расползлись по углам. В сад, конешно, ни один не сунулся, – место неладное: взамен знакомой куфарки еще такое, – тьфу, тьфу, – облапишь, что и рот набок сведет… Тихо-мирно по койкам своим завалились, подводные жуки в ушах зашуршали – уснула команда.
Один щеголек-флейтист у окна сидит, хозяйство свое налаживает. Утром в экстренной суматохе со всем не управишься… Поясок лакированный лампадным маслом протер, на вороненую бляху подышал, тряпочкой прошелся – так павлиньим глазком и прыснуло. Фуражечку встряхнул, – не блин армейский, своя собственная, – края пирожком загнул. Соколом на голове сидит… Полосатые оплечья слюнкой освежил. – Эх, вы, Дашки-канашки, прилипай к рубашке… Оплечья энти, братцы, у них, форсунов-музыкантов, как у селезней хохолок в хвосте. Так девушки пачками и дуреют…
Музыканты они, черти фасонистые, писарям не уступят. Потому завсегда на людях: то в городском саду в сквозном павильоне над публикой гремят, – кажный сапог на виду, – то на парадных балах мазурку расчесывают. Михрютками в голенищах разинутых не вылезешь, не тот табак. А ежели кой-что себе сверх форменной пригонки и дозволяли, адъютант не подтягивал. Ему тоже, поди, лестно: такая команда, хочь в Париж посылай…