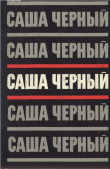Текст книги "Саша Черный. Собрание сочинений в 5 томах. Т.3"
Автор книги: Саша Черный
Соавторы: Анатолий Иванов
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 41 страниц)
Служил в учебной команде купеческий сын Петр Еремеев. Солдат ретивый, нечего сказать. Из роты откомандирован был, чтобы службу, как следует, произойти, к унтер-офицерскому званию подвинтиться.
Рядовой солдат, ни одной лычки-нашивки, однако амбиция у него своя: у родителя первая скобяная торговля в Волхове в гостиных рядах была. Само собой, лестно унтер-офицерскому званию галун заслужить, папаше портрет при письме послать, – не портянкой, мол, утираемся, присягу сполняю на отличку, над серостью воспарил, взводной вакансии достиг. И по Волхову расплывется: ай да Петрушка, жихарь. Давно ли он на базаре собакам репей на хвосты насаживал, в рюхи без опояски играл, а теперь на-ко, какой шпингалет! А уж Прасковья Даниловна, любимый предмет, – отчим ее по кожевенной части в Волхове же орудовал, – розаном-мальвой расцветет. Вислозадым Петрушку все ребята на гулянках дразнили. Вот тебе и вислозадый: знак «за отличную стрельбу» выбил, а теперь и до галунов достигает. Воробей сидит на крыше, ан манит его и повыше.
Все бы ладно, да вишь ты… Ждучи лосины, поглотаешь осины. Невзлюбил Еремеева фельдфебель, хоть второй раз на свет родись. Сверхсрочный, образцового рижского батальона, язва, не приведи Бог. Из себя маленький кобелек, жилистый, да вострый, на Светлый Христов Праздник и то вдоль коек гусиным шагом похаживает, кого бы за непорядок взгреть. Язык во щах ест, – порцию ему особую выделяли, – уж на что сладкая пища. Трескает, а сам из-за перегородки по всей казарме, как волк в капкане, так и зыркает. Одним словом, ерыкала. К команде не снисходит. Во сне и то специальными словами обкладывал, – знал себе цену. Только тогда зубки и скалил, когда на рысях к ротному подбегал, папиросу ему серничком зажигал.
А тут, вишь, купеческий сын завелся. Ручки, гад, резедой-мы-лом мылит. Часы в три серебряные крышки с картинкой – мужик бабу моет, – у подпрапорщика таких не водилось. Загнешь ему слово, сам тянется, не дрыгнет, а скрозь морду этакое ехидство пробивается: «лайся, шкура, красная тебе цена до смертного часу четвертной билет в месяц, а я службу кончу, самого ротного на чай-сахар позову, – придет». С вольноопределяющимися за ручку здоровкался, финиками их, хлюст, угощал. Неразменный рубль и солдатскую шинельку посеребрит. В полковой церкви всех толще свечу ставил, даром что рядовой.
Начал фельдфебель Еремеева жучить. То без отлучки, то дневальным не в очередь, то с полной выкладкой под ружье поставит, – стой на задворках у помойной ямы идолом-верблюдом, проходящим гусям на смех. Все закаблучья ему оттоптал. А потом и сверхуставное наказание придумал. Накрыл как-то Еремеева, что он заместо портянок штатские носочки в воскресный день напялил, – вечером его лягушкой заставил прыгать. С прочими обломами, которые по строевой части отставали, в одну шеренгу, на корточках с баками над головой – от царского портрета до образа Николая Угодника… «Звание солдата почетно», – кто ж по уставу не долбил, а тут на-кось: прыгай, зад подобравши, будто жаба по кочкам. Кот, к примеру, и тот с одной амбицией прыгать не стал. Да что поделаешь? Жалобу по команде подашь, тебя же потом фельдфебель в дверную щель зажмет, писку твоего родная мать не услышит… Не спит по ночам Еремеев, подушку грызет, – амбиция вещь такая: другой ее накалит, а она тебя наскрозь прожигает. Еловая шишка укусом не сладка.
* * *
Прослышал купеческий сын от соседской прачки, будто в слободе за учебной командой древний старичок проживает, по фамилии Хрущ, скорую помощь многим оказывает: бесплодных купчих петушиной шпорой окуривал, – даже вдовам и то помогало, – от зубной скорби к пяткам пьявки под заговор ставил. Знахарь не знахарь, а пронзительность в нем была такая: за версту индюка скрадут, а ему уж известно, в чьем животе белое мясо урчит.
Улучил время Еремеев, с воскресной гулянки свернул к старичку. И точно, – откуль такой в слободу свалился: сидит килка на одной жилке, глаза буравчиками, голова огурцом, борода, будто мох конопатый… На стене зверобой пучками. По столу черный дрозд марширует, клювом в щели тюкает, тараканью казнь производит.
Воззрился Хрущ, слова ему солдат не успел сказать, бороду пожевал и явственно этак спрашивает:
– Заездил тебя рижский-то, образцовый?
Крякнул Еремеев, языком подавился.
А тот дальше:
– На море, на окияне сидит бес на диване, малых собак грызет, большим честь отдает… Сел ты, друг, в ящик по самый хрящик. Ничего, вызволю. Как звать-то?
– Петр Еремеев, первого взводу учебной команды, второй гильдии купца сын.
– Экий ты, братец, вякало… Гильдия твоя мне нужна, как игуменье шпоры. Встань! Чего на дрозда уставился? Он этого не любит. Пособи, Господи, Петру Еремееву, первого взводу учебной команды, а прочим, как знаешь… Скорое средство тебе дать либо с расстановкой?
Встрепенулся солдат, вскинулся:
– Да уж нельзя ли как-нибудь залпом! За нами не пропадет… Пристал он ко мне, как слепой к тесту. Почему, говорит, на казенную фуражку сатиновую подкладку подшил? Я, – говорит, – тебя рассатиню. Вырвал подкладку, харкнул в нее да меня же по личности…
– Скрипишь ты, солдат, будто старую бабу за пуп тянут. Не елозь, дай крючочек вынуть. Колбасу с водкой фельдфебель твой трескает?
– Так точно… Ах, ты ж Господи, как это вы в самую точку! Взводные с вольноопределяющими им завсегда по праздникам в складчину бутылку с колбасой в шкапчик потаенно ставят. Будто сюрприз. Для укрощения звериного естества, чтобы они по воскресным дням меньше рычали-с.
– Вот и расчудесно. Дам я тебе, друг, своей колбаски. Особливой. Только ты ее в праздник ему не подсовывай, – действует она на короткий срок, пока она в человеке ворочается. А чуть выйдет наружу – шабаш. Подсунь ее в будни, когда у вас занятия происходят. Понял?
Переступил Еремеев подковками, дрогнул.
– А они, то есть фельдфебель, от вашей колбасы, извините, не подохнут? Присягу я принимал, и вообще неудобно.
Хрущ глаза поднял, нацелился в купеческого второй гильдии сына, неловко тому стало. И дрозд тоже тараканов своих бросил, смотрит на солдата: каждый, мол, день чистые гости ходят, а такого абалдуя еще не бывало. Пососал скоропомощный старичок язык, сплюнул.
– В унтер-офицеры метишь, а сам дурак. В чужой пазухе блох ищешь. Я, сынок, не убивец и тебе не советую. Потому за самую паршивую душу ответ держать придется. Ступай к свиньям собачьим, ничего тебе, халява, не будет.
Взмолился Еремеев, еле упросил, колбаску за рукав шинельный сунул, будто пакет казенный. Поднес знахарю трешницу, а тот рукой в ящик смахнул, даже и не удивился. Старичок был не интересующийся.
– Чего ж с этой колбасой ожидать-то?
Хрущ в оконце уставился, будто сам с собой разговор ведет:
– На море, на окияне сидит баран на аркане, никто его не отвяжет, пока дело себя не окажет… Ветер-ветерок, тонкий голосок. Подуй на хату, выдуй солдата, – баба у меня там секретная еще в анбарчике дожидается.
Повернулся Еремеев на носках, подошвой хлопнул и через выгон – направление на дом с красной крышей, – замаршировал в свою учебную команду.
Подивился фельдфебель. В будний день колбаса в шкапчике оказалась. Должно, вольноопределяющий Лихачев посылку домашнюю не в очередь получил, с начальником поделился.
Сгрыз он ее дочиста, до веревочки, скус, как скус, чуть-чуть мышиным пометом припахивает. Да ведь даровая, не соловьиным же пахнуть. Вытер усы, в струнку их выправил, выходит, стало быть, на занятия. Рыгнул, как полагается. То да се, – «подымание на носки и плавное приседание». Не успел он руки на бедрах проверить, Еремеева за пояс потрясти, ан тут дневальный дверь настежь, кирпич на веревке кверху птичкой: начальник команды пожаловал. Дежурный рапортует, дневальный около шинели, как моль, вьется. Поздоровкался ротный, гаркнули солдаты, аж кот с окна слетел.
Стоит рота, не шелохнется, а штабс-капитан Бородулин плечики поднял, сапожки в позицию поставил, глянул вбок на фельдфебеля и спрашивает:
– Ты чего ж, это, Игнатьич, ухмыляешься. Попову кобылу во сне доил, что ли?
Пошутил, значит.
Фельдфебель ладонь ребром к козырьку, грудь корытом, воздуху забрал да как резанет:
– Смешно уж больно, ваше высокоблагородие. В команде вы, можно сказать, Суворов, чисто лев персидский. А с бабой совладать не можете. Рожа у вашего высокоблагородия поперек щеки вся поцарапана. Денщик сказывал, будто за картежную недоимку супруга вам вчерась здорово поднесла…
Отчетисто этак выговорил, будто его черт за язык дернул, а сам с перепугу телескопы выпучил, тянется, – вот-вот пояс на брюхе лопнет.
До того опешил ротный, что и перебить не успел. Да как вскинется:
– Ты, что ж, еж тебе в глотку, очумел? Каблуки вместе! Ты что это такое сказал?! Га!
Рота не дышит, прямо в пол взросла. Фельдфебель еще пуще тянется, дисциплина из него так и прет, а язык свое:
– Да, почитай, всему городу, ваше высокоблагородие, известно, что супруга вашего высокоблагородия на вашем высокоблагородии верхом ездит.
Мать честная! Ну тут пошло, действительно…
– С кем разговариваешь?! Перед кем стоишь?! Да ты, пуп моржовый, ума решился? Под суд хочешь? С утра нализался?..
– Никак нет. Сроду пьян не был. С утра к мамзели вашего высокоблагородия, что за баней живет, сходил. Гитарку у них починял, для своего же начальника старался… Занапрасно обижать изволите…
А сам все тянется, аж посинел весь… Хочь язык вырви. Стоит купеческий сын Еремеев на правом фланге, зубами со страху лязгает, – ишь чего колбаса-то делает…
Ну тут у ротного и слов не стало, – случай уж больно непредвиденный. Потряс фельдфебеля за грудки, перчатку собачьей кожи в шматки порвал. Полуротный, само собой, подскочил, на голову показывает: спятил, мол, фельдфебель, в мозги вода попала. Как прикажете?
Нечего сказать, – крутая каша, хочь топором руби. Махнул ротный рукой: «убрать его, лахудру, пока что», – и сам за ворота. Вся рота слыхала, не потушить, надо дело по всей форме разворачивать.
А фельдфебель стоит осовевши, усы обвисли, пот по скуле змейкой. Взяли его взводные под вялые локти, поперли в канцелярию, посадили на койку. Сопит он, бормочет: «Морду-то хочь поперек рта башлыком мне обвяжите, а то и не то еще наговорю…» Обвязали, – уж в такой крайности пущай носом дышит. Заступил на его место временно первого взвода старший унтер-офицер. Известно: коня куют, жаба лапы подставляет. Кое-как занятия до обеда дотянули.
* * *
Не успели солдаты кашу доскрести, стучит-гремит полковая двуколка. Фершал фельдфебеля легкой рукой обнял, повез в госпиталь на испытание, – достались Терешке черствые лепешки.
Доктор ему чичас трубку в сосок. – Дыши, – говорит, – регулярно. Правый глаз закрой, посвисти ухом… Какой у нас теперича месяц-число?
– Месяц, – отвечает фельдфебель, а сам трясется, – апрель, Чпсло третье. Да вы б и сами, вышескородие, должны знать, потому у вас завсегда в апреле весенний запой начинается.
Затопотал доктор ногами, плюнул, дальше и спрашивать не стал. Что с полуумного возьмешь?
Дежурный офицер из каморки вышел, – поинтересовался.
– А, Игнатыч? Что это, братец, с тобой?.. Меня знаешь?
– Так точно. Подпоручик Рундуков, шестой роты. Вас, ваше благородие, по всей окрестности знают: квартирной хозяйке крестиками капот вышивали, все стряпухи смеются… Вам бы, ваше благородие, в кокошнике мамкином ходить, не то что с шашкой…
Обжегся подпоручик, крякнул, с тем и отъехал.
На другой день штабс-капитан Бородулин заявился в госпиталь, сел на койку к фельдфебелю, а у того уже колбасная начинка на-скрозь прошла, – лежит, мух на потолке мысленно в две шеренги строит, ничего понять не может. Привскочил было с койки, ан ротный его придержал:
– Лежи, лежи, Игнатыч. Что ж мне с тобой, друг сердечный, делать? Служил, служил, в жилку тянулся, и вдруг этакая осечка… Под суд тебя отдавать жалко. Да по всему видать, накатило это на тебя с чего-то.
– Так точно, ваше высокоблагородие! Под усиленный арест посадите, либо морду набейте, только чести не лишайте, дозвольте в команду вернуться.
– Не могу, друг. Послезавтра комиссия, а там, что Бог даст.
Привстал было штабс-капитан, а фельдфебель его по госпитальной вольности за кителек с почтением придержал, докладывает:
– Дозвольте, ваше высокоблагородие, доложить, запамятовал. Рядовой Еремеев первого взвода, как в город последний раз отлучался, неформенный, лакированный пояс надел, – не успел я его наказать. Уж вы его своей властью взгрейте, покорнейше прошу. Нечего ему, хахалю, с писарей пример брать…
Усмехнулся начальник команды, до чего, мол, фельдфебель старательный, – в мозгах вода, а службы не забывает.
Доктор тут подкатился. «Ничего, – говорит, – он сегодня вроде человека стал. По всей форме отвечает, как следовает. Спал, должно быть, при открытом окне, лунный удар его хватил, что ли. В комиссии разберем»…
Лежит фельдфебель на койке, халат верблюжий посасывает. Супчику поглотал. Будто кобылу – овсянкой, черти, кормят. Фершал, пес, совсем вроде псаломщика, – доктор обход производит, а тот за ним не в ногу идет, еле пятки отдирает… Дали бы его Игнатычу в команду, сразу бы обе ножки поднял. Что-то там без него делается? Небось, рады мыши, – кота погребают. Ладно, – думает. – По картинке-то праздник мышам боком вышел… Соснул Игнатыч с горя и во сне Петра Еремеева за ржавчину на винтовке заставил ружейную смазку есть.
Тем часом, милые вы мои, купеческий сын, который этот кулеш заварил, сбегал к скоропомощному старичку в слободу. Как дальше-то быть? И фельдфебеля жалко, а себя еще пуще. А вдруг тот, в казарму вернувшись, за свой срам всю команду без господ офицеров на вечерних занятиях источит.
Поймал старичок таракана, лапки оборвал, отпустил, – жалостливый был, гадюка.
– Забота не твоя. Пошли ему перед самой комиссией утречком вторую порцию, а там все, как на салазках, покатится.
И колбаску ему сует дополнительную.
Поскреб Еремеев в затылке, – один глаз злой, другой – добрый.
– А может, не давать? Вишь, его как с нее разворачивает…
– Эх ты, вякало! На море, на окияне стоит дурак на кургане, – стоит не стоится, а сойти боится… Передумкой сделанного не воротишь. Письмо-то ты от папаши вчера получил? Ты колбасу письмом и осади. Ах, да ох – на том речки не переехать. На половине, брат, одни старые бабы дело застопоривают.
Подивился Еремеев: откуда он, змей, про письмо дознался. Вздохнул, колбаску за обшлаг – и на улицу.
А перед самой комиссией принес фершал фельдфебелю пакетец, – из учебной команды гостинец, мол, прислан. Схряпал Игнатыч колбасу мало что не с кожей, госпитальное довольствие известно какое. За столом старший доктор сидит, да лекарь помоложе, да адъютант батальонный, да штабс-капитан Бородулин.
Поиграл доктор перстами, глянул в окно.
– А ну-кась, Игнатыч. Человек ты трезвый, вумственный. Погляди-ка в палисадник. Какой это куст перед окном растет?
– Черная сморода, вашескородие. Вишь, на ней, почитай, все почки ощипаны, как не узнать. Вы ж завсегда по весне черносмородинную водку четвертями настаиваете.
Позеленел старший доктор. Комиссия ухмыляется, а батальонный адъютант свой вопрос задает:
– Два да пять сколько, к примеру, будет?
Вопрос, можно сказать, самый безопасный.
– Ничего не будет, ваше благородие.
– Как так, ничего?..
– А очень просто. Потому как вы в приданое две брички да пять коней получили, – ничего у вашего благородия и не осталось. Все промеж пальцев спустили.
Нахмурился адъютант.
– Ну и стерва ты, Игнатыч, даром что больной!
Тут, само собой, младший лекарь вступился:
– Испытуемых ругать по закону не дозволяется. Скажите, фельдфебель, сколько у меня на ногах пальцев?
– У настоящих господ десять, а у вашего благородия одиннадцать. Через банщиков всем известно, – правая-то нога у вас шестипалая. Потому-то вам дочка протопоповская тыкву и поднесла, даром что рябая…
Сгорел прямо лекарь: правда глаза колет.
А уж штабс-капитан и вопросов никаких не задает; видит – опять лунный удар в фельдфебеле разыгрался, лучше уж его и не трогать.
То да се, порешили коротко. Наказанию не подвергать, потому человек не в себе, по нечетным дням будто белены объевшись. К военной службе не годен, – сапоги под мышку, маршируй хоть до Питера.
Вертается на короткий час фельдфебель в учебную команду сундучок свой сложить-собрать. Солдаты по углам хоронятся, бубнят. Неловко и им: был начальник, кот и тот от него под койку удирал, а теперь вроде заштатной крысы, которой на голову керосином капнули.
Прибирает Игнатыч за перегородкой свое приданое, пинжачок вольный в гостиных рядах купил, глаза б не глядели, – а тут купеческий сын Еремеев вкатывается.
По-старому каблучки вместе:
– Здравия желаю, господин фельдфебель!
– Тебя-то, помадная банка на цыпочках, за коим хреном сюда принесло.
Ничего, проглотил Еремеев, не подавился. Перешел на другую линию, повольнее:
– Да вы, Порфирий Игнатыч, занапрасно серчаете. Оченно об вас сожалеем, такого начальника, можно сказать, и днем в погребе не найдешь… В гвардию б вас, и то б не осрамили…
– Лиси, лиса! Мало я тебя еще причесывал.
– Действительно, маловато-с. Родную мамашу заменяли. Должен я, следовательно, и вас обдумать. Папаша вот письмо прислал. Старший наш приказчик помер, угрызение грыжи с им приключилось, царство небесное. Человек был еж, младшим холуям не потакал, первая рука после родителя. Беспокоится папаша, кем бы заменить. Мово совету спрашивает. Человек вы еще жилистый, с перцем. Куда пойдете? На гарнизонное кладбище бурьян на могилах полоть… Не желаете ли в Волхов на вакансию заступить старшим? Жалованье правильное, харч с наваром, власть во какая… Не то что лягушкой, кузнечиком прыгать заставите – не откажутся… Папаша одряхлел, после службы я все дело в свои руки принимаю. Как вы об этом полагаете?
Скочил фельдфебель на резвые ноги, сообразил. А купеческий сын сел, – аж сундучок под им хрястнул… Солнце заходит, месяц всходит.
– Покорнейше благодарим, господин Еремеев. Я что ж, я послужу… Уж будете благонадежны-с. На правом плечике мундирчик у вас замарамши, дозвольте почистить…
Еремеев, само собой, дозволяет.
– Почисть, почисть. Ты, Игнатыч, смотри дома про меня не ври. Насчет наказаньев, как ты меня под ружье к помойной яме ставил, и прочее такое… Невеста там у меня, неудобно.
Фельдфебель аж ногами застучал:
– Да помилуйте, Петр Данилыч, – отечество даже, хлюст, вспомнил. – Да что вы-с! Вы ж в команде первейший солдат были, как такого можно наказывать. Да вам бы, ежели на офицерскую линию выйти, и цены б не было. Только что ж вам при капитале за такими пустяками гоняться…
– То-то.
Встал это Еремеев, полтора пальца фельдфебелю сунул и пошел к своей койке переобуваться: взамен портянок носки напяливать. Хочь и не видно, а все же деликатность и внутри оказывает…
Кряхтит, ногу, как клешню, выше головы задрал, сам про свое думает, – правильно это волшебный старичок насчет письма присоветывал. Ежели этих подчиненных, чертей-сволочей, на короткой цепочке не держать, голову они тебе отгрызут с косточкой… Доволен папаша будет: во всем Волхове такого громобоя, как Игнатыч, не сыскать. Подопрет, – не свалишься.
1930
КАТИСЬ ГОРОШКОМ… *Укатила барыня, командирова жена, на живолечебные воды, на Кавказ, нутренность свою полоскать. Балыку в ей лишнего пуда полтора болталось. Остался муж ейный, эскадронный командир, в полку один. Человек уж немолодой, сивый, хоша и крепкий: спотыкачу в один раз рюмок до двадцати охватывал. Только расположился на полной свободе развернуться, от бабьего гомону передохнуть, глядь-поглядь, на двор барынина мамаша на пароконном извозчике вкатывает. Перья на шляпке лопухом, скрозь увальку глазищами, словно вурдалак, так и лупает. Барыня ей, стало быть, секретный наказ послала: «Приезжай, последи за моим сахарным. А то без меня дисциплину забудет, – либо обопьется, либо с арфянками загуляет. В дом наведет, из приданых моих чашек лакать будут». Отдохнул, значит.
Высадил он мамашу, грузную старушку. Ус прикрутил, глаза вбок отвел и под ручку ее на крыльцо поволок. – «Прошу покорно, заждались! Эй, Митька, тащи чемодан, дорогая мамаша приехамши, – крыса ей за пазуху»…
И хошь бы одна заявилась: пса с собой привезла закадычного. Голландской работы по прозванию мопс Кушка. Личность вроде как у ей самой, только помельче.
Отвели ей с псом самолучший покой. Расположились, квохчут. Не поймешь, кто с кем разговаривает: барыня ли с собачкой, собачка ли с барыней.
Ходит ротмистр вокруг стола, шпорами побрякивает, ус книзу тянет. Кипит. Денщика кликнул.
– Продышаться пойду… Какие мамашины приказания будут по буфетной части, сполняй. А ежели она начнет под меня подкоп домашний рыть, выспрашивать, – смотри у меня, Митрий!
– Слушаюсь, ваше высокородие. Промеж дверей пальцев не положу.
Денщик, что ж. Человек казенный. Самовар раздул, мягкие закуски для старой барыни на стол шваркнул. В чашку надышал, утиральником вытер, из варенья муху горсткой выудил, обсосал, дело свое знает.
Отдохнула старушка. В столовую вкатывается, коленкор ейный гремит, будто кровельщик по крыше ходит. Сзади Кушка хрипит, по сторонам, падаль, озирается, собачью ревизию наводит.
Заварила она чаю, половину топленых сливок себе в чашку ухнула, половину Кушке. Голландской работы собачка простого молока не трескает.
Денщик Митька стоит у окна, мух на стене подавливает, ждет, что дальше будет.
Старушка на блюдечко дует, невинную речь заводит:
– Что ж ты, друг ананасный, барином своим доволен?
– Так точно. Командир натуральный. Дай Бог кажному.
– Гости у вас часто бывают?
– Батюшка полковой заворачивает. Странники кое-когда, проходящие… Хозяин дома вчерась водопровод проверять приходил. Крантик у нас ослабемши…
– Так. Выпивает командир с ними, что ли?
– Не без того, выпивают-с. Клюквенный квас у нас отменный после барыни остался.
– Квас, говоришь?.. Ну, а сам он куда отлучается, не примечал ли?
– Примечал, как же-с. В манеж ездят на занятия. В бане третьего дня парились. В парикмахерскую завсегда ходят. Волос у них жесткий, – дома не бреются…
– Так-так. На словах твоих хоть выспись… Ну, а где ж он обедает без барыни? В собрание ходит?
– Никак нет. Я им кой-чего стряпаю. По средам-пятницам – рыбка. А так – либо каклеты, либо телятина под безшинелью.
Вскинула барынина мамаша глазки: из блохи, мол, шубу кроишь, да мне не по мерке.
– Вечерами что ж твой барин делает?
– Псалтирь читают. Другие господа на бильярдах, а они все псалтирь… Либо по тюлю крестиками вышивают.
Харкнула старушка со злости. Ишь, охальник, – руки по швам, язык штопором.
– Кушку моего на променад поведешь. Что сливы-то выпучил? Он уличное гуляние обожает… Через улицу, смотри, на руках переноси – извозчики у вас аспиды. Ты мне за него головой отвечаешь.
– Слушаюсь, сударыня. Собачка первоклассная, отчего ж не ответить… Только для вас спокойнее, чтобы я со двора не отлучался.
– Патрет я с тебя писать буду, что ли?
– Никак нет. Не извольте беспокоиться… А только на прошлой неделе жулики тут у соседей шарили. Ваших, примерно, лет невинной старушке в русской печке пятки прижгли и ограбили. Вам в случае чего помирать – раз плюнуть, а мне и за вас и за Кушку отвечать… Больно много наваливаете.
Испужалась она, завякала:
– Ах, страсти какие! Сиди уж лучше на кухне. Кушку я из окна на веревочке по двору вывожу… Матушки-батюшки, город-то у вас какой окаянный!
Денщик руками за спиной поиграл. Кто не слукавит, того баба задавит. Ишь ты, мымра, чего придумала! Чтоб все встречные драгуны да горничные задразнили… «С повышеньицем вас, Митрий Иванович! В собачьи мамки изволили заделаться…»
* * *
Заварила барынина мамаша кашу – ложка колом встанет. Куды командир, туды и она, самотеком. Новоселье ли у кого, орденок ли вспрыскивают, все ей неймется. Не с тем, мол, приехала, чтобы пальцы на ногах пересчитывать… Мантильку свою черного стекляруса вскинет, да так летучей мышью рядом и перепархивает с мостков на мостки. Резвость двужильную обнаружила, – злость кость движет, подол помелом развевает.
Сдаст ее командир в гостях хозяевам на руки, сам в дальнюю комнатку продерется – по графинам пройтись, в банчок перекинуться, либо дамочку встречную легким словом зарумянить, – ан старушка контрольная тут как тут. Карты из рук валятся, водка мимо рта льется. Шершавость у ей в глазах такая была непереносная. Прямо как скаженный он стал. А не брать нельзя, в чулан мамашу не спрячешь. Жалованье командирское известное: на табак да на щи. Способия она ему из пензенского имения высыпала, – то мундир обновить, то должок заплатить, то копченого-соленого с полвагона. Отянешь ее за хвост, – банку мухоморов пришлет, прощай, зятек, постучи о пенек…
И денщику тошно. Известно, барину туго – слуга в затылке скребет. Принесешь – криво, унесешь – косо. Хоть на карачках ходи. Да и Кушка-пес одолевать стал. Небельные ножки с одинокой скуки грызть начал, гад курносый. Денщику взбучка, а пес в углу зубы скалит, смеется – на него и моль не сядет, собачка привилегированная. Ладно, думает Митрий. Попадется быстрая вошка на гребешок. Дай срок.
Поводил-покрутил командир мамашу, как кобылку на корде, невмоготу ему стало. Стал дома рейтузы просиживать. Придет с манежа, чай пьет, бублик промеж пальцев на пол крошит, приказы прошлогодние с досады читает. А она супротив. Как ячмень на глазу. Лопочет, разливается. Разговорная машинка у нее лихо работала. Хошь не отвечай, хошь на крыльцо выйди на луну сплюнуть, она знай жернов о жернов точит. Почему попадья перестала в баню ходить, да сколько ветеринар лошадиного спирта незаконно вылакал, да к какой гувернантке корнет Пафнутьев на будущей неделе в окно лезть собирается… Командир аж побуреет. «Угу» да «угу», – только и ответов.
Дошло и до денщика. Раз барин дома сидеть стал, ей не страшно насчет жуликов, которые в печке невинных старушек жгут.
– Ступай, ступай, – говорит, – Митрий, Кушку моего по улицам выводи. Что ж ты его все по двору таскаешь. Этак ты его до водного ожирения доведешь.
Насупился Митрий, стакан, который мыл, в руках у него хрястнул. Ужели от срамоты этакой так и не отвертеться?
Пошел на кухню, покрутился там, вертается веселый, с ремешком энтим кобельковым.
– Пожалуйте на променаж, прошу вас покорно! – На сахарок Кушку в переднюю выманил… Однако слышит – рычит Кушка, упирается, аж дверь трясется. Что такое?!
– Не хотят на улицу. Прямо морду им чуть не оторвал. Изволят упираться…
Попробовала старушка: может денщик-черт нарочно ожерелок потуже затянул? Грех клепать. Все как следовает. Потянула: за ней идет, похрюкивает, животом пол метет. За Митрием – ни с места! Лапы распялил, башкой мотает, будто его в прорубь водяному на закуску тащат.
Глянул ротмистр, задумался. Ведь вот денщику судьба послабление какое сделала. А мамаша-то пензенская сидит, как приклеенная. Не вырывается…
* * *
Дальше да больше. Дарья кухарка, через забор жила, кой-когда к денщику забегала – часы в темном углу проверить, мало ли дел по соседству. Известно: стар хочет спать, а молодые играть. Уследила барынина мамаша, на дыбы встала. «Ступай, ступай, шлендра! Подол в зубки, кругом марш… Нечего чужие стены боками засаливать…» И в сахарнице куски с той поры пересчитывать стала. Денщик только серьгой потряхивает, дюже его забрало. Барин бывало придет из собрания через край хлебнувши, сам себя не видит. В карты ему случаем пофартит, червонцы из кармана на стол брякнет – не считано, не меряно. Никогда Митрий дырявой полушкой не попользовался. А тут, на-кося, – сахар!.. Присыпала перцу к солдатскому сердцу.
Ладно. Стала она по-иному со скуки выкомаривать, откуль что берется. Сидит это вечером, на блюдечко толстой губой дует, самовар попискивает. Ротмистр из спичек виселицу строит: кому – неизвестно.
– Чтой-то, – говорит старушка, – двери у нас скрипят нынче. К дождю это беспременно. Смажь, Митрий, маслом, – мне завтра в гостиные ряды, ужель мокнуть.
Денщик человек казенный. Смазал. Язык бы ей смазать, авось бы тоже прояснило.
А она наддает:
– Ты, Митрий, вчерась опять каклетки оставшне с буфета не убрал?
– Виноват. Тараканов на кухне морил, запамятовал.
– Виноват… А знаешь ты, что это означает? Ежели мышь неубранное после ужина поест, у хозяина зубы разболятся.
Ротмистр под столом шпорами: дзык.
– Чепуха это, мамаша. На нетовую нитку бабьи вздохи нанизаны.
Старушка указательной косточкой по столу постучала.
– Скаль зубки. Конечно, есть приметы серые: нос чешется – в рюмку глядеть. Другие ротмистры и без этого выпивают… Наши пензенские приметы тонкие, со всех сторон обточены. Не соврут… Скажем, конь ржет – всякий дурак знает – к добру. А вот ежели вороной жеребец в полночь на конюшне заржет – беда! Пожар в этом доме в ту же ночь жди. Хоть в шубе-калошах спать ложись.
Денщик к стенке отвернулся, сухую ложку мокрым полотенцем трет, плечики у него так и ходят. Старушка серку в ухе поковыряла и опять свой варганчик завела.
– Либо поп дорогу перейдет, – отплеваться завсегда можно. А ежели он мимо перешедши остановится да табачку из табакерки хватит, да, не приведи Бог, чертыхнется, – уж тому черной воспы не миновать. Я батюшек знакомых, которые нюхающие, за полверсты всегда обхожу… Опять же, собака воет. Случай серый. В какую сторону воет, вот в чем аллигория. На север – неблагополучные роды; на юг – потолок на тебя завалится; на восток – от грыжи помрешь; а коли на запад – молоко тебе в голову беспременно бросится. Приметы без промаху.
Командир виселицу свою спичечную раскидал, встал из-за стола, ноги ножницами раззявил. Голос мягкий, а под ним так смола и пробивается.
– Вы бы, мамаша, Кушку своего отравили, что ли. Больно много от него, стервы, опасностев. Это ж все равно, что на ручных фанатах польку плясать. Спокойной ночи. Пока молоко в голову не бросилось, пойду пасьянц Наполеонову могилу перед сном разложу.
Смолчала старушка. Драгунский обычай известный: все смешки. Погоди, Изюм Марцыпанович, с судьбой шутить, не барьеры брать…
А Митрий – у буфета он все крутился, – этаким сладким кренделем подкатывается:
– Оно точно-с. Которые благородные, сумлеваются. Мужицкий пустобрех. А я верю-с. У нас тоже свои приметы имеются орловские. Выдающие…
– Расскажи, дружок, расскажи. Пирожок, который оставши, можешь себе взять…
– Покорнейше благодарим, закусимши уже. Ежели, к примеру, пробка в графине не тем концом воткнута, значит, гость в дому загостился, пора ему, значит, на легком катере к себе собираться.
Глянула она на графин, – поперхнулась, аж глаза побелели.
– Пошел вон, глуздырь! Скажу вот завтра командиру, чтоб тебя на хлеб на воду посадил за приметы свои дурацкие…
Пробку, как следовает, перевернула, сахарницу в буфет замкнула и поплелась к себе с Кушкой на покой – в сонное царство, перинное государство.