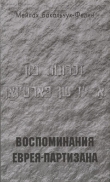Текст книги "Повести, рассказы"
Автор книги: Самуил Гордон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
Когда Лина с Рафаилом вышли из ресторана, ночное звездное небо выглядело, как и вечером, прозрачно-голубым, и как-то трудно было поверить, что встретивший их холодный дождь шел с этой же прозрачно-голубой звездной высоты. Дождь настиг их недалеко от ресторана и загнал под широко разросшийся платан, но скоро проник и туда, осыпая их холодными крупными каплями. В небе по-прежнему мерцали звезды и по-прежнему не было видно ни одного облака.
– В небесах, видимо, происходит то же самое, что и на земле: облака приспосабливаются, – заметил Рафаил.
Кого это из них двоих, подумала Лина, Рафаил сравнил с маскирующимися облаками? Разве она сегодня не была такой, как всегда? И себя он не мог сравнить с маскирующимся облаком. Сегодня он был таким, каким казался ей, когда она искала его на пляже после внезапного исчезновения.
– Который теперь час? Почему не видно такси? – Рафаил взглянул на ручные часы, позолоченные стрелки и цифры которых даже в ясный солнечный день были едва различимы.
Было около двенадцати. Несколько промчавшихся мимо такси шли с погашенными фарами. Словно следуя их примеру, начало гаснуть небо, и стало так темно, что Лина почти перестала видеть Рафаила. Она лишь чувствовала, как его губы приближаются к ее лицу...
– Нет, нет...
Лина прошептала это уже после того, как Рафаил привлек ее к себе и страстно целовал.
– Нет, нет, – и, опьяневшая от его поцелуев, подставляла ему лицо, шею, не отворачиваясь, когда его дрожащие губы искали ее слегка обнаженную грудь...
Дождь немного притих. Рафаил взял Лину за руку, и они пустились бежать к троллейбусной остановке. Но ни один троллейбус не шел отсюда в направлении санатория и городского парка, все они шли через центр на вокзал. Из центра уже не так далеко до санатория.
Когда Лина и Рафаил вышли из троллейбуса в центре города, дождь лил уже как из ведра и стал их гнать от одного прикрытия к другому, пока не загнал под густые, насквозь промокшие кипарисы.
– Это надолго. – И, помолчав немного, Рафаил тихо и неуверенно добавил: – Ко мне отсюда ближе... Переждем дождь у меня...
Перепрыгивая через лужи и бегущие потоки, они вбежали в парк и боковой аллеей добрались до деревянного одноэтажного домика, где Рафаил Евсеевич снимал комнату.
В маленькой комнатке с занавешенным окошком все было пропитано запахами ранней осени. Пахло опавшей листвой, переспелыми яблоками, прохладной сыростью. Дождь словно злился, что они от него сбежали, и все сильней барабанил по крыше, стучал в стекла – вот-вот он их выбьет.
– К сожалению, я не смогу вам ничего предложить, кроме мужского костюма. А впрочем, это сейчас в моде. Снимите туфли и чулки и прилягте на диван. Дождь так скоро не перестанет. Укройтесь хорошенько, чтобы не простудиться. А может быть, выпьете немного коньяку? Сразу согреетесь.
Он достал из шкафа бутылку и налил ей и себе по рюмке.
Лина села, взяла рюмку и, чуть прищурив глаза, спросила:
– Скажите правду, что вы обо мне думаете? Только правду. – Она закрыла глаза. – Не знаю, что сегодня со мной. Я никогда в жизни столько не пила. И совсем не опьянела.
– А я пьян. Я еще никогда не был так пьян...
Лина открыла глаза, они у нее странно блестели.
– Разве адвокаты тоже пьянеют? Адвокаты ведь самые трезвые люди на земле, люди, не имеющие дела с луной. Так, кажется? Ну, какой же тост вы предлагаете?
– Если хотите, выпьем за луну, да, за луну, чтоб она оставалась прежней.
– Романтической и таинственной?
– Таинственной она сейчас уже не может быть.
– Что это сегодня со мной? Налейте мне еще... Нет, нет, не надо. Дайте мне, пожалуйста, туфли... Я пойду...
– Куда? Разве не слышите, что делается на дворе?
– Я не предупредила моих соседок по комнате. Скоро час. Они будут беспокоиться, бог знает что подумают. Я пойду.
Рафаил понял, что не его она боится. Она испугалась, что у нее нет внутренней защиты, что ей некуда спрятаться от себя самой. Пустота, которую тогда оставило в ней письмо Генриха, не может ее защитить.
– Я пойду, – повторила Лина, как во сне.
– Прилягте, – Рафаил укрыл ее пледом. – Как только кончится дождь, я провожу вас. Соседки поймут, что вас задержал ливень.
– Боюсь, как бы я не уснула.
– Я вас разбужу.
– Обещаете?
Стоя у занавешенного окошка, Рафаил услышал Линин уставший, сонный голос:
– Знаете, я часто возвращаюсь к тому, что вы мне сказали на обрыве. Помните? Иногда я, кажется, готова согласиться с вами, что единственная и настоящая любовь лишь та, которую человек сам придумывает для себя, и эта призрачная любовь, как мечта, всю жизнь следует за ним. А иногда я думаю, что любовь, если она настоящая, не может оставаться только мечтой...
Вскоре Лина уже спала. Рафаил выключил свет и снова подошел к окошку, прислушиваясь к шумящим под дождем деревьям. И вдруг тьма в комнате обрела неимоверно страшную силу. Она оттащила его от окна, повернула лицом к дивану. Последние два-три шага, словно пропасть, отделяли его от Лины. Кружилась голова, а сердце стучало так громко, что казалось, сейчас проснется весь дом.
– Лина!
Он не знал, вслух ли он произнес ее имя или про себя, но хотел, чтобы она проснулась.
Темнота в комнате уже не отпускала его от себя. Она склонила его над диваном... Еще мгновение... И вдруг он увидел себя во дворе под ливнем, не понимая еще, как он здесь очутился, кто его сюда привел.
Теперь, подумал Рафаил, на суде он не будет так часто ссылаться на то, что чувства руководят человеком. Какими бы сильными ни были чувства, человек все же руководит ими. И этой победой над собой он сохранил для себя любовь, настоящую и единственную, которая отныне будет следовать за ним, как мечта.
И, словно все еще боясь темноты в комнате, Рафаил уходил все дальше и дальше от дома, подставляя пылающее лицо холодному проливному дождю.
18
С тех пор как Лина проводила на аэродром грустного, задумчивого Рафаила, прошло несколько лет, но она хорошо помнит, как ей не хватало тогда его на пляже, в парке, в кипарисовой аллее, на обрыве, над которым висела луна, та самая луна, что и раньше, – все видит, все знает, но никого не выдает.
Лина дважды отдыхала на том же курорте и в том же санатории, но Рафаила больше не встречала. Возможно, что и он не раз проводил там свой отпуск и, конечно, тоже разыскивал ее, хотя, простившись на аэродроме, они знали, что больше никогда не встретятся, и не скрывали друг от друга, что встретиться боятся.
И вот однажды – было это осенью, субботним утром, когда Генрих ушел в филармонию, а Ира в институт, – тихо и как-то неуверенно зазвонил телефон. Лина сняла трубку и чуть не выронила ее из рук.
– Где вы? Не слышу, дорогой мой. Откуда ты звонишь?
Голос Рафаила слышался издалека, доходил до нее с трудом. После каждого слова голос его обрывался, исчезал, но она слышала его дыхание, тяжелое, отрывистое, как у человека, который от кого-то бежит, за которым гонятся.
Из всего того, что Рафаил ей рассказал, Лина поняла лишь одно: в городе, где он живет, недавно установили телефон-автомат, откуда можно звонить сюда, и кончилось это тем, что он завлек Рафаила к себе в кабину и не выпускал, пока тот ей не позвонит. Вот Рафаил и звонит. Он не забыл, что она сказала ему тогда: если он захочет позвонить, пусть звонит ей домой в субботу утром, она в это время одна, – муж по субботам работает, дочь учится. О себе ему рассказывать нечего. Жизнь идет своей торной дорожкой, наверно так же, как и у нее. Позвонил он, чтоб услышать ее голос, и, если можно, пусть сыграет ему сонату, которую она играла тогда, в новогоднюю ночь. Он помнит, что она ему однажды сказала. У них телефон – аппарат с длинным шнуром, его можно переносить из комнаты в комнату. А то, что соната длинная, неважно. Он запасся монетами.
Лина рассмеялась:
– Никто, кажется, еще так дорого не платил за то, чтобы послушать «Лунную сонату» Бетховена.
– Сыграйте, прошу вас, очень прошу тебя.
Лина придвинула к пианино стул, положила на него телефонную трубку, и все, что в эту минуту ее окружало, исчезло во мраке ее сомкнутых глаз. Она сейчас видела перед собой высокий обрыв и на самой его вершине, под светлой пыльной луной, – себя и Рафаила.
С этого дня Лина по субботам ждала звонка Рафаила, как ожидала в детстве наступления праздника. И когда, бывало, услышит в трубке его далекий прерывающийся голос, Лине было достаточно притронуться к клавишам, чтобы увидеть возле себя Рафаила, увидеть, как они стоят над обрывом, оглушенные волнами разбушевавшегося моря...
1972
ПЕРЕУЛОК БАЛШЕМА
1
На ступеньках крыльца выкрашенного в голубой цвет дома со стеклянной верандой, около которой выставлена старая мебель для продажи, сидит Ита, полноватая пожилая женщина, и варит на треноге варенье. Между Итой и ее внуком Давидкой, укрывшимся с аккордеоном под тенью густо разросшейся вишни, все время идет как бы скрытая игра. Давидка то и дело пытается украдкой сыграть между этюдами, заданными ему учителем, мелодию какой-нибудь песенки. Но бабушка начеку и не спускает с внука глаз, дирижируя время от времени поварешкой и отбивая музыкальные такты: «И раз, и два, и три, и четыре... и раз, и два, и три...»
Но не проходит и минуты, как на весь переулок раздается укоризненный хрипловатый голос Иты:
– Давидка!..
А Давидка как ни в чем не бывало устремляет на бабушку удивленные глаза и невинно спрашивает:
– Что, бабушка?
– Опять? Ты опять принялся за свое? Кого, хотела б я знать, ты хочешь обмануть? Думаешь, подсунешь мне: «Шагаю по Москве» или «Два берега у реки», и я подумаю, что это этюд? Ошибаешься. Ты у меня будешь играть только по нотам, как наказал учитель Рефоэл. Еще раз услышу «Шагаю по Москве», и ты у меня заново переиграешь все гаммы и этюды, все до одного.
От гамм и этюдов Давидку на этот раз спасла высокая, худощавая соседка Йохевед, появившаяся в переулке с двумя ведрами воды в руках.
– Добрый день вам, Ита-сердце! – еще издали возвестила о себе Йохевед. – Как вам нравится наша веселенькая новость?
– Неужели правда? Моему Боруху не очень-то верится Мой Борух говорит, что этого не может быть.
– То есть почему не может быть? Веревочник Йона сам видел, как этот бандит, пропади он пропадом, пешком шлепал на рассвете к местечку, чтоб его на веревке тащили!
– Вот мой Борух и спрашивает: «Неужели этот разбойник не знает, что у нас в местечке опять живут евреи? И почему вдруг пешком?»
– А вы хотели, чтобы он к нам приехал барином в золотой карете? Боже мой, как только носит земля на себе такого злодея?
– Ну, а реб Гилел знает уже?
– Реб Гилела, кажется, нет дома, поехал со своей Шифрой в Летичев, чтобы договориться с тамошней капеллой. Шутка ли, в таком возрасте женить сына, да еще единственного.
– Если, не дай бог, правда, что этот ирод заявился сюда, то можно себе представить, что за свадьба будет. Реб Гилел, наверно, захочет ее отложить. Что вы скажете, Хевед?
– Как отложишь свадьбу, если жених с невестой и сваты уже в пути? Сколько, по-вашему, езды сюда из Ленинграда? Ой, чего я стою? Скоро прибудет ремонтная бригада, а я еще не приготовила раствора.
Схватив ведра, Йохевед исчезла в ближайшем дворе. Вскоре она появилась у обитой дранкой стены своего дома. Заткнув подол юбки выше колен, она ступила босыми ногами в раствор глины с кизяком и принялась старательно месить, напевая полуеврейскую-полуукраинскую песенку.
– Такая напасть на нашу голову! – заговорила Ита, ни к кому не обращаясь. – Откуда он взялся, чтоб его лютая смерть взяла, боже праведный! А ты, Давидка, вижу, опять принялся за свое? – неожиданно набросилась она на внука, который успел сыграть несколько песенок. – Ну что ты себе думаешь?
– Бабушка, я же этюд играю.
– С каких это пор, хотела бы я знать, «Пусть будет солнце и пусть буду я» стало этюдом? Забываешь, кажется, что твоя бабушка уже знает наизусть все гаммы и этюды не хуже, чем, прости господи, кантор знает молитвы.
Лишь теперь Ита заметила невысокого пожилого человека с кожаным чемоданчиком в руке, стоящего на углу переулка. Он улыбался, и его улыбка говорила о том, что человек этот стоит здесь довольно долго, наблюдая уловки Давидки, затеявшего игру с бабушкой.
– Скажите, пожалуйста, что мне делать с этим неслухом, – пожаловалась Ита незнакомцу. – Учитель музыки Рефоэл, то есть Рафаил Натанович, наказал мне следить за этим сорванцом, чтобы он не играл на слух, так как это, говорит учитель, гибель для ребенка. Игра на слух точно алкоголь, говорит реб Рефоэл, то есть Рафаил Натанович. Сами видите, как он слушается. А кто, думаете, остается потом в ответе? Бабушка, конечно. В наше время во всем, о господи, виновата бабушка.
– Сколько вашему молодому человеку? – спросил незнакомец, подойдя к вишне, под которой стоял Давидка.
– Десятый пошел, не сглазить бы. Казалось бы, достаточно того, что на мне лежат все заботы по дому, по огороду и все остальное, так нет же, следи еще, чтобы дорогой внучек не пропустил, упаси боже, утреннюю физкультуру, как когда-то, прости господи, нельзя было пропустить утреннюю молитву, и помоги ему – смехота, да и только! – уроки делать. И к кому, думаете, бежит он со своими шарадами, загадками и пионерскими делами?
– А родители где?
– Родители? Днем они на заводе, а вечером бегут на «самодеятельность». Не знаете современных пап и мам?
– Ну да, у меня примерно тоже так. Я ведь тоже, можно сказать, дедушка.
– Одним словом, работы у меня, слава богу, предостаточно. Казалось бы, с меня хватит. Так на́ тебе – новая напасть. Пошла мода записываться на пианино в кредит. Половина Меджибожа – да что я говорю! – не половина, а почти все местечко и многие колхозники стоят в очереди за пианино. А пока суд да дело, в магазине раскупили все аккордеоны, баяны, гармоники, и музыканты загребают денежки...
– Вот как! А много их, музыкантов, у вас в Меджибоже?
– Да что вы! Даже Липовец, Липовец знаменитого Столярского, остался, говорят, без капеллы. Я просто не знаю, что было бы, если бы реб Рефоэл, то есть Рафаил Натанович, не бросил скорняжить и не взялся бы снова за музыку. Знаете, просто жаль человека – его же разрывают на части... Ах, разговорилась и даже забыла предложить вам сесть! Давидка, вынеси гостю стул!
– Спасибо, мне сидеть некогда. Скажите, пожалуйста, где живет Гилел Дубин?
– Портной реб Гилел? Вот тут у нас, в переулке Балшема, живет он, напротив слесарной, вон там, где точило стоит.
Незнакомец посмотрел в ту сторону, куда показала Ита, и увидел два домика-близнеца с высокими цоколями, красными ставнями и стеклянными дверьми. На двери ближайшего домика был нарисован сифон, у крыльца соседнего домика стояло точило с прикрепленной к нему жестяной кружкой, куда бросали деньги.
– Что вы так странно смотрите на меня? – спросил вдруг незнакомец.
– Кто, я? – спохватилась Ита. – Просто хотела спросить, зачем, собственно, вам нужен реб Гилел? Вы его родственник?.. Ваш выговор не очень-то похож на наш. У нас на Подольщине говорят иначе.
– А как говорят у вас на Подольщине?
– Что значит как? Вот так, как я говорю. Откуда же вы приехали?
– Из Москвы.
– Ой, из Москвы! Борух! Борух! Пойди сюда! Чтоб вы были здоровы! Знаете, о чем я вас попрошу? Может, возьмете две-три баночки варенья для моего сына? У меня там сын, женатый, работает у Лихачева, на ЗИЛе... Брысь, злодейка! Она, кажется, уже нашкодила, эта воровка! – крикнула вдруг Ита и бросилась во двор за удирающей кошкой.
Приезжий обратился к Давидке:
– А ну, маэстро, покажи-ка, что ты умеешь. Не бойся, твой дирижер занят теперь кошкой.
Не успел Давидка прикоснуться к клавишам, как появилась Ита. В одной руке она держала курицу, а в другой – небольшую разделочную доску.
– Еще секунда – и нечем было бы справлять субботу. – Она села на крылечко и принялась разделывать курицу. – Вы, я вижу, присматриваетесь к мебели. Если хотите купить, мы слишком торговаться не будем.
– Вы собираетесь выехать отсюда?
– Выехать? Мы за свою жизнь, благодарение богу, достаточно наездились. Это наш московский сын, работающий у Лихачева, прислал нам новый гарнитур. Вот мы старую мебель и выставили для продажи.
– И вы здесь ждете покупателя? Не лучше ли отвезти мебель на базар?
– Ой, чтоб вы были здоровы! Вы думаете, здесь вам Москва? У нас, если надо продать какую-нибудь громоздкую вещь, ее выставляют на улицу перед домом. Скорей избавишься от всех напастей, чем найдешь покупателя!.. Борух! Борух! – снова крикнула она мужу. – Нашла на человека блажь корчевать, никак не оторвешь его. Так вы мне окажете добрую услугу и возьмете для моего сына варенье? Борух!
Наконец появился Борух с заступом в руке. Увидев незнакомого человека, он протянул ему руку и, обратившись к жене, спросил ее:
– Ита, ты меня звала?
– Разве его дозовешься?! Только и знает, что копаться в земле. Стоит ему увидеть свободный клочок земли, как он тут же принимается за него. Тебе что, мало своего огорода и садика, что ищешь новых поместий?
У Боруха тихий, мягкий голос, даже когда он сердится.
– Не люблю, когда говорят глупости. Я, что ли, ради наживы делаю это? Перед войной, – обратился он к незнакомцу, – у нас, как и во всех еврейских местечках, дом на доме стоял. Пришли гитлеровцы, будь они прокляты, и снесли дома – золото искали...
– Чтоб их смерть искала!
– Чем же я виноват, что не могу равнодушно смотреть на осиротелую землю? Она, земля, как вам известно, не бесплодна. Даже если не засеешь ее, она все равно что-то родит. Но важно ведь, что именно. Если б я не развел кругом несколько садиков и огородов, тут вырос бы такой лес крапивы и бурьяна, что не видно было бы домов. Дай бог, чтобы сегодня же появился бульдозер и оставил меня без моих поместий.
– Боюсь только, что, пока бульдозер доберется до твоих поместий, они высосут из тебя все соки. Ты совсем забываешь, что уже вышел из игры, что ты уже пенсионер, дай бог тебе жить до ста двадцати лет! Ты так увлекся землей, что даже не спрашиваешь, откуда этот человек приехал. Они ведь из Москвы!
– В таком случае еще раз шолом-алейхем вам. Мы с Москвой в довольно близком родстве.
– Я им уже рассказала.
– Так зайдемте, будьте добры, в дом. Какие бы вы хотели: три на четыре, четыре на шесть или, может, кабинетные вам сделать?
– Что ты морочишь человеку голову своей фотографией? Они спрашивают о портном Гилеле.
Борух растерялся.
– Зачем вам, к примеру, нужен реб Гилел? Порадовать новостью? Его нет дома, уехал...
– Какой новостью?
– Не слыхали разве?
– Откуда мне слыхать, если я только что приехал? Что-нибудь случилось?
Борух помолчал, разглаживая густую, жесткую бороду, словно советуясь с ней: сказать или не сказать?
– Мы, собственно, еще сами не знаем точно. Мало ли что могло показаться нашему Йоне.
– Все же...
– Если это, не дай бог, правда... – начала было Ита, но Борух перебил ее:
– Как ты думаешь, если б Алешка остался жив, неужели он за двадцать лет не дал бы о себе знать? У него ведь живет здесь родная сестра. А кроме того, как он не побоялся вернуться сюда? Нет, его наверняка давно уже нет на свете.
– Но Хевед говорит, что Йона сам видел его сегодня.
– Слепой видел, как хромой бежал! – Борух махнул рукой и спросил приезжего: – Так зачем же вам нужен реб Гилел? Хотите что-нибудь пошить?
Ита не дала гостю ответить:
– И взбредет же тебе такое на ум. Человек приехал из столицы, а ты его спрашиваешь, не собирается ли он у нас пошить. В Москве что, уже перевелись портные?..
Тем временем Давидка начал потихоньку наигрывать отрывки мелодий, попурри из разных песен. Никто, кроме приезжего, кажется, не заметил этого.
– Послушайте, чего вы стоите? За те же деньги можно и присесть! – воскликнул Борух, вынося из дому стул. – Гилел, наверно, еще не скоро вернется. Летичевский автобус должен прибыть не раньше пяти вечера, к тому же может случиться, что он часика на два опоздает.
Присев, гость обратился к Боруху:
– Вы, кажется, сказали, что Гилел еще работает? Но, как я слыхал, ему уже за восемьдесят.
– Что же тут такого? Вот есть у нас бондарь Йосл... Ита, сколько ему лет?
– Кому? Бондарю Йослу? Около девяноста, не сглазить бы.
– И все же он каждое воскресенье выносит на базар бочоночек, а иногда даже два. На одну пенсию прожить трудновато, и почти все наши пенсионеры подрабатывают понемногу.
– А что говорит по этому поводу ваш фин?
– Фининспектор? Теперь, слава богу, другие времена. Фининспектор смотрит на все это не так, как раньше. Что от того, если я, Борух Гриц, сфотографирую за день двух-трех человек или, скажем, реб Гилел сошьет костюм кому-нибудь? Фабрик и заводов, где такие пенсионеры, как я или как реб Гилел, могли бы поработать два месяца в году, как полагается по закону, во многих местечках пока еще нет. А жить, друг мой, надо.
– И на всех хватает работы?
Борух даже подскочил:
– Извините, вы живете в столице, но жизни, как я вижу, не знаете. Вам известно, как живется в наше время колхознику?
Тут в разговор вмешалась Ита, еще возившаяся с курицей:
– Я б желала всем нашим друзьям такую жизнь. Село никогда еще так хорошо не жило.
– А это уже давно известно, – продолжал Борух, – когда оживает село, оживает и местечко. Кто, по-вашему, первый раскупает в магазинах нейлон, «болонью», джерси и тому подобное? И если брюки, не дай бог, шире на какой-нибудь сантиметр против моды или пиджак не так сидит, думаете, наденут? Боже упаси! И к кому идут с такой работенкой? Ателье у нас так загружено, что раньше чем за месяц вам не сделают. А реб Гилел сделает за один день. То же могу сказать и о себе: кому срочно нужна фотокарточка, тот идет ко мне. Я до пенсии тоже работал в ателье, и меня знают. Дорогу ко мне все находят, хотя, как видите, вывески у меня нет и витрины тоже.
– Борух, – отозвалась Ита, – а ну-ка сфотографируй их, интересно, что скажет Москва. Сделай цветную.
– С удовольствием!
– Отложим на другой раз. Я еще не уезжаю.
– А почему не сегодня? Денег я ведь у вас не требую. – И Борух направился в дом за фотоаппаратом.
Приезжий, наблюдавший все время за Давидкой, положил руку ему на плечо и спросил:
– Ну, а еврейские песни играешь?
– Что за вопрос! – вмешалась Ита. – Дайте ему волю играть на слух, и он вас угостит такими вещицами, которых теперь и не услышишь.
– А «фрейлехс моей матери» ты умеешь играть?
Но тут из дома вышел Борух со своим древним, громоздким фотоаппаратом на штативе.
– Пейзаж, – заметил он, как бы извиняясь, – не совсем здесь подходящий: с одной стороны – таз с вареньем и выставленная мебель, с другой – разделанная курица...
– Дедушка, – отозвался Давидка, – сфотографируй их в садике под грушей.
– Неплохая мысль. Как говорится в наших священных книгах: «Нет ничего красивее дерева». Ита, идем тоже с нами.
– Смотри, Давидка, – наказала ему, уходя, Ита, – как бы кошка не вздумала полакомиться курятиной.
– Знаешь что, бабушка, я ее запру в доме. Кись-кись-кись...
Не успели Ита, Борух и приезжий скрыться в садике, а Давидка с кошкой войти в дом, как в переулке поднялся шум. Женщина в пестром платке, спустившемся ей на самые глаза, всеми силами вцепилась мужу в полу пиджака умоляя его:
– Йона, не ходи, прошу тебя!
– Ципа...
Но Ципа не давала ему слова вымолвить и твердила свое:
– Не пущу! Пожалей хотя бы меня. Не надо с ним связываться, это же разбойник, он может тебя и ножом пырнуть.
– Плевать я на него хотел. Связанного волка нечего бояться.
– Послушай меня, Йона, не ходи! Разве, кроме тебя, больше некому идти?
Иона рассердился:
– И ты можешь такое говорить! Иди домой! Я скоро вернусь. Пока реб Гилел в Летичеве, нужно, чтобы этот бандит убрался отсюда ко всем чертям.
– Так он тебя и послушает.
– Увидим.
– Один ты не пойдешь, я позову людей.
– Прошу тебя, не шуми, иди домой! Ничего со мной не станется. Связанного волка бояться нечего.
Йона вырвался из рук жены и быстро зашагал огородами к речке.
– Ой, несчастье мое! – вскрикнула Ципа. – Тот еще, не дай бог, убьет его. Йона! Йона! – кинулась она за мужем. – Подожди, я иду с тобой! Йона! Йона!..
Плотно прикрыв за собой дверь, Давидка уселся на крыльце и заиграл. Начал он с этюдов, но, услыхав жалобное мяуканье кошки, он перешел на какую-то мелодию, напевая: «Колодец, колодец и кошка...»[12]12
Песенка из оперетты «Суламифь».
[Закрыть]
Из садика вернулись Ита, Борух и приезжий. Последний как бы оправдывался перед ними:
– Я разве скрывал от вас? Разве вы меня спрашивали, кто я, что я, а я вам не ответил?
– Что вы, реб Манус, никто вас не упрекает. Так вы, оказывается, музыкант?
– Тысячу раз извините меня, милая, я не просто музыкант, а оркестрант оперного театра.
– Оркестрант, говорите? Пусть будет оркестрант.
– Ита, дай же слово сказать. Все-таки не понимаю, – спросил Борух, – послали вас сюда, говорите вы, родители невесты? Но они ведь живут в Ленинграде, а вы живете, кажется, в Москве.
– Оркестранта театра Станиславского и Немировича-Данченко знают также и в Ленинграде.
– Вы, я вижу, богач, не сглазить бы, точно как наш Йона, – сказал Борух, поглядывая на ордена и медали Мануса.
– Не жалуюсь. Этот орден я заслужил в театре, а вот звездочки и медали принес с фронта. Только не на скрипке и не на кларнете, а на гармате[13]13
Гармата – пушка (укр.).
[Закрыть] я там играл, как сказано у одного нашего поэта.
При этих словах Мануса Давидка начал декламировать:
– «Играешь на барабане? – Нет, генерал! – Ну, а на флейте? – Нет, генерал! – На чем же играешь, скажи, солдат! – На пушке играю, – ответил солдат».
– Парнишка ваш, вижу, знает еврейский!
– А почему ж ему не знать?
– Так вот, тридцать лет проработал я в театре. Теперь я уже на пенсии, но два месяца в году играю там. А остальные десять месяцев делаю почти то же, что и вы. Имею, так сказать, собственную капеллу. Играем на свадьбах, на юбилеях, на всяких торжествах. Я играю на четырех инструментах. Четвертый инструмент, скрипку, я оставил дома. Хотите знать, как я попал сюда? Отец невесты, Матвей Арнольдович, вызвал меня из Москвы в Ленинград, чтобы я со своей капеллой играл на свадьбе его дочки...
Ита удивленно глянула на Мануса:
– На чьей, вы сказали, свадьбе?
Манус, словно не заметив, как Борух с Итой переглянулись, продолжал:
– После свадьбы Матвей Арнольдович говорит мне: «Съездите к моему свату в Меджибож на несколько дней и разучите с местными музыкантами современные мелодии – скажем, «Семь сорок», танго «Суббота», «Билет в детство», твист... Одним словом, заказал целую программу для дубль-свадьбы...
– Ничего не понимаю, – перебила его Ита, – разве они уже справили свадьбу? И что это за дубль-свадьба?
– Ну, так говорится. Вот я и приехал.
– Послушайте, – схватил Борух Мануса за руку, – может, вы насовсем останетесь у нас? Вас тут озолотили бы.
– Так они и бросят Москву ради переулка Балшема и Гершеле Острополера. Скажите мне лучше, каков этот сват. Он приличный человек?
– Матвей Арнольдович? Да, видимо, очень приличный человек. Говорят, он занимает в Гостином дворе довольно высокое положение.
Борух скривился:
– Не очень-то почтенное занятие. Не знаю, как у вас там, но у наших здесь торговля не в большом почете. Знал бы реб Гилел, чем занимается сват, то навряд ли породнился бы с ним. Ох, сколько этот Гилел настрадался! Ему одному из всех жителей прежнего Меджибожа чудом удалось спастись.
– Посмотрите только, как силен человек, – отозвалась Ита. – Реб Гилел перед войной был уже дедушкой. И вот пришли фашисты, и все, кто не успел эвакуироваться, лежат в земле. Каким же сильным должен быть человек, чтобы после такого несчастья, на седьмом десятке, пойти под венец в надежде снова стать отцом и дедом! И реб Гилел, как видите, удостоился этого счастья. Посмотрели бы вы, какой у него наследник – рослый, красивый, крепкий!
– Реб Гилел не единственный у всевышнего. Я недавно был в нескольких местечках и видел, что люди даже старше реб Гилела спешили заново создать семью, чтобы оставить наследника. Очевидно, везде так. Речь ведь идет о жизни, о том, чтобы оставить кого-нибудь после себя.
– Борух, смотри-ка, – перебила Ита мужа, – могу поклясться, что это Ципа там стоит. Она, кажется, чем-то расстроена.
У одного из домиков-близнецов, куда направлялись люди с сифонами за сельтерской водой, – день, правда, был не очень-то жаркий, но шла суббота, – стояла высокая женщина в пестром крестьянском платке на голове и все время бормотала про себя:
– Как я его просила: Йона, не ходи, Йона, не ходи...
– Ципа, что там у вас случилось? – спросил Борух, приблизившись к ней.
От неожиданности Ципа вздрогнула:
– А? Ничего. – Увидев во дворе Боруха незнакомого человека, она кивнула на него: – Кто это у вас?
– Музыкант Манус, приехал на свадьбу.
– Да, нам теперь только музыкантов не хватает. Ох и заварилась у нас каша! Мой Йона, горе мне, ведь теперь у него...
– У кого?
– У злодея, чтоб он провалился!
– А что, он действительно вернулся? Раз так, я тоже пойду к нему.
– Не надо, вы только хуже сделаете. Мой Йона хочет уговорить его, чтобы он убрался отсюда еще до возвращения реб Гилела из Летичева. Мой Йона боится, что, если реб Гилел застанет здесь Алешку, он этого не перенесет.
– Кто еще пошел с вашим Йоной?
– Никто.
– Я возьму с собой «алхимика», и мы тоже пойдем туда.
– Боже вас упаси! Йона взял с меня клятву, чтобы я никому не говорила. Этим можно только испортить. Ой, реб Борух, реб Борух, как я боюсь!
– Что вы, Ципа! Ваш Йона был, если не ошибаюсь, солдатом. А учить солдата, как себя вести, не надо. Как там сказано в наших священных книгах: зверя в клетке бояться нечего.
– Зверь все же остается зверем. Как я его просила: Йона, не ходи! Не ходи, Йона!
– Что там у нее случилось? – спросила Ита мужа, когда тот вернулся.
– Ничего.
– А все же?
– Я же тебе говорю, ничего.
Борух взял заступ, собираясь уйти, но Ита его задержала:
– Борух, пятак есть у тебя?
– А что?
– Так будь добр, заточи нож. Я уже не в силах мучиться с ним – совсем затупился.
– Бабушка, наточить нож стоит гривенник.
– Как вам нравится мой контролер? «Точило», Давидка, должен мне пятак. И по дороге заряди уже заодно у «алхимика» сифон.
Манус от удивления широко раскрыл глаза:
– У кого, сказали вы, зарядить сифон?
– Человек делает, можно сказать, из воды золото, вот его и прозвали «алхимиком». Настоящее имя его – Кива. – И Борух, захватив с собой нож и стеклянный сифон, направился к домикам-близнецам с высокими цоколями.
– Не забудьте запастись кассетами – ленинградцы, чтоб вы знали, любят фотографироваться! – крикнул ему вслед Манус и обратился к Давидке: – Так на чем мы с тобой остановились, маэстро?
– На «фрейлехс матери».
– Да, на «фрейлехс моей матери», – вздохнул Манус. – Кроме этой мелодии, которую мать мне часто пела в детстве, у меня больше ничего не осталось от нее. Даже не знаю, где находится яма, в которой фашисты ее расстреляли. Я назвал эту мелодию «фрейлехс моей матери» и играю ее на всех свадьбах, праздниках. Она для меня как бы поминальная молитва по погибшей. Теперь ее играют, кажется, везде и всюду. Как это случилось, что она до вас не дошла?