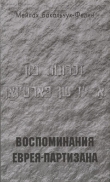Текст книги "Повести, рассказы"
Автор книги: Самуил Гордон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Три года назад – война только окончилась – симфонический оркестр, в котором Генрих играл, приехал в Буковину на гастроли.
В тихом чистом городке, где оркестр, заканчивая турне, давал последние концерты, хозяин квартиры, в которой Генрих остановился, узнав, что его квартирант холостяк, стал его уговаривать жениться, сказав, что есть для него невеста, милая, хорошая девушка, правда, не совсем молодая, но из очень состоятельной семьи. У отца ее до войны, то есть до советской власти, был ювелирный магазин, и надо полагать, что после всех реквизиций и эвакуаций у него еще что-то осталось, и, возможно, больше чем что-то... Одним словом, девушка, с которой он хочет его познакомить, – невеста с приданым. А кроме того, у нее в Аргентине богатая бездетная тетка, и это тоже что-нибудь значит, особенно сейчас.
Оркестр приехал в Буковину как раз тогда, когда местные жители могли, при желании, получить разрешение на выезд в Румынию, и родители девушки, которую ему сватал хозяин, собирались подать документы на выезд. Если Генрих женится на ней, то и он сможет вместе с ними поехать. Конечно, не обязательно оставаться в Румынии. Мир велик. Он сможет оттуда поехать, куда захочет, хотя бы в Аргентину. И почему такому красивому молодому человеку действительно не поехать в Аргентину к богатой бездетной тетке? Такой парень, как он, сможет через несколько лет собрать собственный оркестр и кататься в собственной машине. Что он здесь теряет?
Кто думал тогда о счастье и богатстве, когда негде было приклонить голову и часами приходилось простаивать в очередях в магазинах и столовых. В городе, в котором он жил, не осталось ни одной уцелевшей улицы. Пустыри примыкали к пустырям, развалины к развалинам. Он себя не оправдывает, нет! Он хочет только, чтобы Лина поняла, почему он поддался на уговоры и пошел посмотреть на девушку. И как произошло, что меньше чем через месяц он оставил оркестр и пошел с этой девушкой в загс и был убежден, что будет с нею счастлив, – он сам себе не может на это ответить. Во всяком случае, невеста его ни в чем не была виновата. Она его полюбила, но на шею ему не вешалась, по пятам за ним не ходила. Теперь, спустя три года, трудно сказать, но и он, кажется, был в нее влюблен. Одинокому человеку не мудрено влюбиться, а он был тогда очень одинок. Все его родные погибли во время войны – легли в широких рвах, вырытых за городом. Но одно он может сказать Лине определенно: он не пошел с Фридой в загс для того, чтобы попасть в «большой мир». Отец Фриды подал бумаги на всех, но, получив разрешение на выезд, Генрих загрустил, загрустил по всему тому, что он здесь оставляет, и, как ни уговаривала его молодая жена, как ни убеждали его ее родители и родственники, он ехать не согласился. Единственное, что он им ответил: если Фрида не может расстаться с родителями, то пусть она едет с ними, а он останется пока здесь. Он немного еще подождет. Кончилось это тем, что родители ее уехали, а она, Фрида, осталась.
И вот уже третий год живет он на Буковине, в тихом маленьком городке, где он, бывший скрипач симфонического оркестра, стал музыкальным лектором. Местная филармония время от времени посылает его с лекциями в другие города, и он забрел даже однажды туда, где Лина учится. Жена его, Фрида, почти всюду ездит с ним, но она, как бы его ни любила, никогда бы не осталась, если б не была уверена в том, что переубедит его. Она бы уехала с родителями, которые давно уже в Аргентине и забрасывают ее письмами, умоляя приехать к ним. Рано или поздно это кончится тем, что в один прекрасный день они разойдутся. Он сделал бы это и сейчас, но сейчас невозможно – недавно умер их первый ребенок, годовалый мальчик. Жена все надеялась: когда Генрих станет отцом, ей легче будет его уговорить. Не допустит же он, чтоб она увезла его ребенка!
Неожиданно он сказал Лине:
– Теперь я знаю, почему я тогда не уехал. И вы тоже это знаете.
– Я?..
– Сказать? – Он притянул ее к себе и поцеловал.
– Генрих Зиновьевич!..
Он словно пробудился от сна и смущенно опустил голову:
– Извините.
Шел теплый дождик, просеивался сквозь облака, как сквозь сито.
– Вы промокнете, – сказал Генрих, – простудитесь.
– Ничего, я не изнеженный ребенок.
Не это, видимо, ожидал он услышать от нее. Теперь Генрих уже всю дорогу будет молчать, а Лине хотелось, чтобы он ей все же ответил, почему он думает, будто она знает, что́ его тогда задержало. Лина замедлила шаг, но ворота неотвратимо приближались. Когда же они выйдут из парка, она уже не спросит его. И Лина остановилась.
– Вы, кажется, хотели мне сказать...
Его уставшие глаза смотрели на нее рассеянно.
– Я уже не помню...
– Могу вам напомнить, – Лина удивлялась, что так разговаривает с ним, но иначе уже не могла. – Вы сказали мне, что вам теперь понятно, почему вы тогда остались. И что мне тоже понятно.
– Я суеверный. Я верю в свое предчувствие. Я знал, что встречу вас. Хотя до этого я вас никогда не видел. Не знаю, когда мы с вами вновь встретимся. В жизни всякое бывает. Задержитесь еще на несколько дней. Прошу вас. Только на несколько дней. Послезавтра я читаю здесь лекцию о Шопене, я буду читать ее только для вас и только для вас буду играть. Не уезжайте. Прошу вас, останьтесь!
И Лина осталась.
6
На письма, которые Лина продолжала получать от Генриха уже после того, как просила забыть ее, она ему не отвечала. Но не проходило недели, чтобы на столе для корреспонденции, стоявшем в вестибюле института, не ожидало ее письмо, а иногда и два. Каждый раз Лине хотелось отослать их обратно не распечатывая, но мешало девичье любопытство, желание узнать, что еще нашел он в ней, этот уже немолодой, бывалый Генрих Зиновьевич, который, как утверждает, полюбил ее с первого взгляда и, где бы он теперь ни выступал, он мысленно выступает перед ней и, как бы полон ни был зрительный зал, всюду видит ее, одну ее.
Каждый раз, получив от Генриха письмо, Лина ловила себя на том, что в ней пробуждается чуть ли не такое любопытство, как при покупке лотерейных билетов. Знает заранее, что не выиграет (и она действительно еще ни разу не выиграла), но все равно продолжает покупать билеты и внимательно просматривать таблицы. Нет, она не отошлет ему письма обратно, пусть думает, что она их просто не получает, что они пропадают, и Генрих рано или поздно перестанет ей писать. Пройдет немного времени, и он, как она писала ему в своем первом и единственном письме, ее забудет. Иначе быть не может и быть не должно. Это ведь безумие, то, о чем он ей пишет. Она никогда на это не согласится, как бы она ни была влюблена. Может быть, он совсем по-иному воспринял эти ее слова и потому продолжает писать?
Тем не менее Лина знала, хоть и не признавалась себе в этом, что без его писем бесконечно долгими и скучными станут для нее студенческие вечера и ей будет совершенно безразлично, с кем она пойдет в кино или просто прогуляться. Недавно с ней такое уже случилось: гуляя с одним из парней, постоянно ее окружавших, она вдруг назвала его Генрихом. До сих пор не может она освободиться от мелодий, которые он тогда играл на хорах в музее. Они звучат у нее в душе и не дают ей забыть его. Но она его забудет, должна его забыть!
Но вот прошла неделя, и на столе в вестибюле Лина не увидела конверта с продолговато-округлыми буквами, похожими на ноты.
Лина не ожидала, что это так ее испугает, что она с нетерпением и страхом будет ждать каждый день письма. Но писем больше не было. Как Лина ни была к этому подготовлена, она все же боялась, что не сможет устоять и напишет ему. Нет, ему она не напишет. Она узнает у своей тети, с которой пошла тогда на его лекцию. У тети должны быть знакомые в соседнем буковинском городе, где живет Генрих. Уже одно то, что Лина не знает, где он, должно убедить тетю, что она прекратила знакомство с Генрихом, а спрашивает о нем только потому, что их институт хочет пригласить его прочитать лекцию и просто нужен его адрес. Как еще оправдаться перед тетушкой, которая, подобно родителям, предубеждена против музыки как профессии и, даже не зная Генриха, сравнивает его с местечковыми музыкантами, о которых рассказывают истории одну страшней другой? Откуда тетушка знает столько историй о местечковых музыкантах, если ни она, ни ее родители никогда в местечке не жили? Разве только от деда наслушалась она их и смотрит на музыкантов, как и дед. И ее, Линины, родители ведь точно так же смотрят...
В один из таких дней, когда Лина все еще не решалась – опустить или не опустить в почтовый ящик письмо к тете, она, выйдя из института, вдруг увидела Генриха. Он стоял у входа в сквер. Лина хотела замедлить шаг и не смогла. Но все-таки у нее хватило сил не выдать своего волнения. И, подойдя к Генриху, сдержанно поздоровалась, рассеянно при этом оглянулась, точно ждала здесь встретить другого. Только голос ее выдавал. Генрих, наверное, заметил это, иначе бы не спросил:
– Вы хотели, чтобы я приехал?
Лина взглянула на него и промолчала. Теперь она уже ничем не выдаст свою растерянность.
– Я еду на Урал. Не знаю, как долго там пробуду. Пока я здесь остановился на два дня. – Он сказал это так, словно должен получить от нее разрешение.
Они вышли из сквера и свернули на тихую улицу.
– Днем, насколько я понимаю, вы заняты в институте, а вечерами? У вас играет ленинградский филармонический оркестр. Я уже взял на сегодня два билета.
Она сама не предполагала, что так обрадуется.
– С удовольствием! – вырвалось у нее.
Провожая Лину домой, Генрих сказал, что сейчас едет на Урал только читать лекции, но, возможно, со временем переедет туда совсем. Для этого, конечно, есть причины.
Лина чувствовала – Генрих ждет, чтобы она спросила об этих причинах, но она молчала, и он перевел разговор на другое.
На вокзале, перед самым отходом поезда, Генрих спросил:
– Теперь вы будете отвечать на мои письма?
– Зачем? – Но ответила она ему уже не так уверенно, как ответила бы еще вчера или позавчера.
Прошло несколько недель, и так же неожиданно, как в прошлый раз, Лина, выйдя из института, снова увидела Генриха в том же скверике и, кажется, возле той же скамейки. Она и теперь попыталась скрыть от него свое удивление. Ведь уже второй год, как он, человек, в кого, как она себе представляет, влюбляются, наверно, все девчонки, бегающие на его лекции, продолжает писать ей письма, на которые она не отвечает, письма, от которых у нее кружится голова и не хватает дыхания, как на высокой горе под самыми облаками. Даже руку ему подала так же сдержанно, как тогда. Но через несколько минут она почувствовала себя такой ослабшей, что присела на скамейку. От охватившей ее слабости у нее закрылись глаза.
– Что с вами? – Генрих откинул с ее лба витой каштановый локон, которым играл весенний ветерок, и, нагнувшись, еще раз спросил: – Что с тобой, Лина?
Она уже точно не помнит, где и когда, там ли, в институтском скверике, или назавтра, в другом месте, он сказал ей, что развелся с женой. Показывая решение суда, Генрих сказал, что ему следовало бы развестить со своей женой сразу же после того, как понял, что никуда не уедет. И еще он ей сказал: то, что случилось сейчас, наверно, случилось бы раньше, намного раньше, если бы ее тетя жила в том же буковинском городе, где и он, и если бы Лина раньше приехала к своей тете погостить. Возможно, что тогда с ним не произошло бы то, что вообще не должно было с ним произойти. Нет, он никогда не отрицал и не отрицает, что Фрида ему нравилась. А теперь, после того, что случилось, ему тем более нечего оправдываться, что он женился на Фриде не потому, что Фрида – единственная наследница богатой аргентинской тети. Но по-настоящему, видимо, он ее никогда не любил.
Настоящая любовь, сказал он тогда Лине в весеннем сквере, ничего общего не имеет со сватовством, а ведь он, Генрих, женился по сватовству...
Рассказами о мелочности своей бывшей жены при разделе имущества Генрих спустил Лину с подоблачной высоты, где она только что пребывала, в глубокое темное ущелье.
Зачем он ей все это рассказывает? Зачем ей знать, когда и куда его бывшая жена уезжает?
И снова на вершине высокой горы, где не хватает дыхания и голова идет кругом, Лина почувствовала себя тогда, когда Генрих сказал, что переехал сюда, в город, где живет и учится она, Лина, и что она, Лина, знает, почему он сюда переехал. Если она хочет, чтобы он ей сказал, он ей скажет.
Лина крепче закрыла глаза, она боялась и в то же время хотела услышать это. Генрих взял ее руку и шепотом произнес:
– Меня привела сюда моя большая любовь к тебе, милая.
Кажется, и она в тот весенний вечер сказала ему впервые «ты». Он заставил ее. Генрих снова поднял ее на высокую гору под самые облака, и, пьянея от головокружительной высоты и его поцелуев, она вместе с ним повторяла – ты, ты, ты... Назавтра Генрих снова затеял с ней ту же игру, но на этот раз Лина уже почти не сопротивлялась. На третий или четвертый день ей вообще показалось, что она уже давно с Генрихом на «ты», и что она его впервые увидела не в темной сырой башне средневековой крепости в сопровождении женщины с ниточкой жемчуга на длинной белой шее, нет, она впервые увидела его здесь, в этом сквере, и что с тех пор, выходя из института, она его здесь всегда заставала, и что, кроме него, никто не провожал ее домой, и только с ним, с ним одним, она танцевала на студенческих вечерах, ходила в кино, на концерты, гуляла.
В веселом шуме весенних ручьев, игравших с яркими звездами опрокинутого в воду неба, было что-то общее со звуками фисгармонии, той, что в пасмурное летнее утро наполнила музыкой музей и до сих пор звучит в ее душе. Чем он тогда ее удержал на несколько дней? Своей игрой или тем, что сказал ей, что она принадлежит к музыкальному миру, а его, Генриха, редко когда подводит предчувствие?
Генриха, кажется, действительно редко подводило предчувствие, и, вероятно, поэтому он пришел к Лине домой лишь после того, как поступил на работу в филармонию, получил комнату и смог представиться ее родителям как лектор.
Он словно чувствовал, что родители Лины будут ее отговаривать и сделают все возможное, чтобы их разлучить. Нет, они против него ничего не имели: человек он, как видно, порядочный, вежливый, красивый и ненамного старше Лины. Но он ведь был уже однажды женат. Он-то у нее будет первым, она же у него будет второй, и это настораживает, особенно когда имеешь дело с артистами. И вообще, не понимают они, зачем такая спешка? Лина, кажется, не из девиц, что боятся засидеться в невестах. Точно так говорила ей тогда и тетушка: мужчина по-настоящему любит только первую жену, даже если с нею расходится. Говоря это ей, родители называли знакомых, которые развелись со своими первыми женами, а через какое-то время вернулись к ним, и также таких, для кого жениться и разводиться стало вообще обычным делом: сегодня сошлись, завтра разошлись. Труден первый шаг. При этом родители, как и тетя, не забывали напомнить Лине, что музыка не профессия, а надеяться на то, что случится чудо и Генрих вдруг станет лауреатом...
Однако достаточно было Генриху взять в руки скрипку, как Лина тут же забывала, что говорили ей о нем родители. Звуки музыки снова возносили Лину на вершину высокой горы, откуда Генрих за все восемнадцать лет их совместной жизни ни разу не спускал ее вниз и ни разу не давал ей почувствовать, что она у него не первая любовь. И вдруг она узнает, не от кого-нибудь, а от него самого, что все восемнадцать лет она в нем ошибалась, что родители были правы, когда предупреждали ее об этом.
7
Песчаный берег реки, по которому Лина брела, подвел ее к самой воде. Попадись ей теперь лодка, она переправилась бы на противоположный берег и до утра шла бы там за голубой луной, плывшей над горами, густо покрытыми лесом. Откуда-то справа донеслись голоса. Идут, вероятно, из кино. Михаил Ефимович пошел в кино один или с кем-то? Впрочем, какое ей до этого дело? Михаил Ефимович, наверно, сейчас свернет в гостиницу узнать, что случилось у нее дома, почему ее внезапно вызвали к телефону? Лина хочет вспомнить, что она написала ему в оставленной записке. Кто вызвал ее к телефону, муж или дочь?
Вдруг она услышала за собой быстрые уверенные шаги, они ей показались знакомыми. Еще минута, и она побежит ему навстречу, но словно кто-то преградил ей дорогу. Тот же «кто-то», который не позволил ей остаться в номере и по этим окраинным улочкам привел сюда, к реке, гнал ее сейчас к автобусной станции.
Ехать в соседний город на междугородную было еще рано: если Генрих не улетел к своей «родной и необыкновенной», а его «родная и необыкновенная» прилетела к нему, то они сидят, вероятно, сейчас где-то в ресторане, и раньше чем в двенадцать звонить ему нечего. Но одно она уже решила: сколько бы Генрих ни кричал в трубку свое растянутое «Алло! Алло!», по которому Лина всегда безошибочно узнавала его состояние, она не отзовется. Этим своим «алло» он сразу себя выдаст. Ему и в голову не придет, что это она звонит. Лина ведь писала ему, что здесь, в городке, междугородных телефонов-автоматов нет. Отсюда можно только заказать разговор на междугородной. А может быть, действительно заказать разговор и сказать, что неделю, которую ей осталось здесь быть, она проведет в районе, в постоянных поездках, и чтобы Иринины письма, если они будут, он сюда ей не посылал? Возможно, что она из района, не возвращаясь сюда, вернется домой. Может ли ему после такого разговора прийти в голову, что завтра ночью он вдруг увидит ее дома? Она уже все обдумала. Ровно через час после того, как погаснет свет в их квартире – три крайних окна на седьмом этаже, она поднимется домой, но не на лифте, пешком, и тихо, как можно тише, подойдет к двери квартиры; ключи у нее с собой, она всегда берет ключи, куда бы ни ехала. Генрих и его гостья не услышат, как она войдет. Свет она зажжет лишь тогда, когда распахнет двери, чтобы они не пришли в себя. Что удерживает ее, чтобы позвонить ему отсюда? Она не уверена, не подведет ли ее голос?
Нет, не только это. Ведь может случиться, что он просто не снимет трубку. Если он отзовется, телефонистка ему, конечно, скажет, откуда его вызывают, и в присутствии «той» он уже не сможет обратиться к ней, Лине, с теми же «дорогая, необыкновенная», как обращался всегда. Чем потом оправдаться перед ней, почему он не снял трубку, он найдет, скажет: был испорчен телефон или он не слышал звонка. А из автомата когда звонят, не знаешь, откуда и кто. Звонок из автомата обычный. Генрих никогда не подумает, что это звонит она. Только бы у нее не вырвалось слово, малейший звук. Как только услышит его голос, она тут же повесит трубку, не дожидаясь, пока он повторит свое растянутое «алло», которое ей так нравилось. Теперь ее это не занимает. Ей надо узнать одно: приехала ли «та» к нему, или он поехал к ней? От этого зависит, отправится ли она прямо с аэродрома домой, или ей придется дождаться, пока на седьмом этаже в трех крайних окнах не погаснет свет. Так или иначе, но завтра она летит домой. Она отметит утром командировку и поедет в аэропорт. Гидроэлектростанция оттого, что она уедет раньше времени, не пострадает. Научно-исследовательский институт, в котором Лина работает, пришлет сюда другого инженера. Но что она завтра скажет директору гидроэлектростанции? То же, что она написала сегодня в записке Михаилу Ефимовичу, – у нее дома неприятности и ей надо сейчас же вернуться. Возможно, что она завтра утром сходит в местную поликлинику и возьмет больничный лист: после того, что с ней сегодня случилось в гостинице, врач, конечно, даст ей бюллетень, и у себя на работе не придется ни перед кем оправдываться.
Как Лина ни была занята своими мыслями, она все замечала вокруг, видела, как прошла мимо автобусной станции, мимо насквозь пропыленного цементного завода, большого теплого озера, в которое круглая луна вместе с рыболовами забросила свои серебряные удочки, мимо длинного светлого здания гидроэлектростанции и как направилась оттуда вдоль шлюзов. Она шла все дальше и дальше, не могла остановиться, словно морская волна, взявшая дальний разгон. Если бы Лину здесь встретил сейчас кто-нибудь из знакомых, он бы ее, наверно, не узнал. Кажется, Лина сама перестанет сейчас верить, что это она. Лина никогда себе не представляла, что за несколько минут человек может так перемениться, что за несколько минут кто-то сможет так завладеть ею. Не иначе как этот «кто-то» давно ее подстерегает, возможно, всю жизнь идет за нею, ожидая момента, когда сможет открыться ей и потребовать, чтобы она переоценила все свое прошлое, все, что с ней случилось в жизни, и заранее предупредила дочь об этом, чтобы и Ира смотрела на всех так же, как этот «кто-то» в ней смотрит сейчас на Генриха. Но Лина не уступает, пытается даже найти оправдание для Генриха. Он просто не предвидел, что такое может с ним случиться. Нет, он ее не обманывал, это она сама себя обманывала. Разве родители не предупреждали ее? Сколько раз мама напоминала ей, что она у Генриха не первая, не первая его любовь, а это о многом говорит, хотя бывают исключения. Никто ее не уговорит, что она не была исключением, что кроме нее Генрих еще кого-то называл «дорогой и необыкновенной» и что его занимало, уехала ли его бывшая жена или осталась здесь. Чем он виноват, что случайно встретил ее в одной из своих поездок и ожила его первая любовь, вырвалась у него, как родник, из самых, самых глубин? Могло случиться, что после развода Фрида уехала к своим родителям, а через много лет, влекомая любовью, снова вернулась сюда, разыскала Генриха и на этот раз хочет увезти его с собой. Теперь Лина поняла, почему Генрих последнее время часто жаловался на то, что он не играет в оркестре и этим навсегда потерял надежду увидеть свет. Он говорил это так, словно Лина была виновата. Если бы даже Фрида разыскала Генриха не потому, что по-прежнему в него влюблена, но чтобы просто разлучить его с Линой, разве может Лина винить ее? Женское самолюбие ни с чем не сравнить, и она, Лина, заслужила, чтобы это мучительное чувство так овладело ею. Родители предупреждали ее...
А если эта «дорогая и необыкновенная» не первая его жена, а другая Фрида?
Здесь Лина уже не вмешивалась. Теперь не она, а «тот», который ждал момента, чтобы открыться, требовал переоценить все, что с ней произошло, и заступился за Генриха. Чем виноват человек, что в нем стареет любовь, стареет значительно раньше, чем сам человек, а без любви человек не может жить. Она для него как весна для дерева. У человека, как и у деревьев, свои осени и свои весны.
Лина смотрела на канал, и ей казалось, что она опускается вниз вместе с вошедшими в шлюзы судами и, как на чаше весов, поднимается потом вверх. Луна уже вернулась с озера и вместе с теплоходами ожидала, когда перед нею распахнутся ворота и ее выпустят из шлюза в открытое море.
Лина села в последний автобус, шедший в соседний город.
Стрелки больших круглых часов на междугородной телефонной станции, куда она приехала, приближались к одиннадцати, но Лина не стала ждать и позвонила на час раньше задуманного. И странно. Она обрадовалась тому, что дома никто не отозвался, обрадовалась, что не ошиблась. Они сейчас в ресторане, сидят, вероятно, в отдельном кабинетике. Скоро вернутся домой...
Через час Лина опять позвонила, но опять никто не ответил. Она позвонила через полчаса, через четверть часа, звонила почти каждые пять минут, а на рассвете заказала разговор через телефонистку. И снова никто не ответил.
На обратном пути Лина уже застала в верхнем шлюзе солнце, ожидавшее, чтобы его выпустили с моря к лесистым горам.
В гостинице дежурная вместе с ключом от номера передала ей записку от Михаила Ефимовича. Лина, не прочитав, положила ее в карман.
В тот же день с больничным листом, предписывавшим постельный режим, Лина улетела домой.