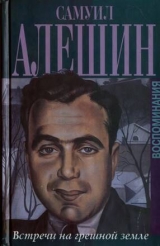
Текст книги "Воспоминания "Встречи на грешной земле""
Автор книги: Самуил Алешин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
Год 1930. Мне 17 лет, брату – 22. В этот год я кончил школу и поступил в Ломоносовский. Однако перед началом занятий полагалось пройти военный лагерный сбор. Вот об этих-то лагерных занятиях и письмо:
Москва. 25.09.1930.
Здравствуй, Нолька!
Приехал 20-го вечером из лагеря. Не писал тебе больше по лени. Муштровали нас там, заставляли чистить старые, испорченные винтовки и трепать собственные подметки. Жили мы сначала в бывшей конюшне, пол которой, наверное, навсегда пропитался лошадиной мочой. Поэтому спать приходилось при открытых воротах, несмотря на холод. Там мы жили три дня. Потом нас перевели в рассадник для клопов, которых мы и откармливали остальные 17 дней. В результате 27 больных, которых пришлось увезти из лагеря, и множество чихающих, сморкающихся, кашляющих, которые оставались до конца. Я, к счастью, не был в числе первых, но оказался среди вторых.
Кроме уроков военной муштры («выше голову, тверже печатай шаг»), были занятия по освоению оружия («чтобы снять головку затвора, надо мякотью большого пальца левой руки надавить на рукоятку стебля затвора и одновременно большим и указательным пальцами правой руки, справа налево отвинчивать головку затвора»).
20 сентября кончился этот рай на земле, 21-го был выходной, а 22-го с 8 утра я начал заниматься в Институте. Больше писать не о чем. Целую.
А вот из письма за 1931 год. Дело близится к летним каникулам.
Москва. 22.6.31.
Дорогому Нолястику привет!
Прежде всего, если я тебе скажу, что в одной моей руке перо, в другой бутерброд с маслом по десять рублей за фунт на рынке, в глазах полное отсутствие всякого выражения, а левый полуботинок жмет в мизинце, то ты вполне сможешь нарисовать себе картину, бывшую в
момент начертания сих строк. Кроме того, мне хочется сообщить тебе, что у меня сейчас настроение, которое можно кратко охарактеризовать так: эх, прокатиться бы по маршруту Москва—Сталинград...
Следующее – ко дню его рождения (23 марта).
Москва. 17.3.32.
Во-первых – с днем рождения поздравляю! А во-вторых... Я представляю себе: Сталинград, Тракторный завод, Верхний поселок, дом 525, квартира 10. На входной двери бумажка: «Инженер Э.И.Котляр». Сбоку карандашом на двери неприличная надпись.
Справа, как войдешь, прямо – уборная. Сбоку – навалено галош, за дверью шумно. Это справляют твой день рождения. Но веселие деланное. Килька на столе грустно капает из жестянки маслеными слезами на газетину. Стены тупо смотрят белыми пятнами от зубного порошка. А причина унынию – отсутствие из Москвы моего письма. И вдруг: «Та-та-та...» Стук в дверь. Все хором: «Войдите!» Это почта. И вот уже конверт бесстыдно слетает, обнажая мой характерный почерк, вызмеившийся на бумаге.
Стоит ли говорить о той радости, которая овладевает всеми? Новорожденный, 24-летней рукой вдохновенно откинув со лба пышную шевелюру, декламирует вслух мои строчки. Все рады. Веселы! И даже килька сладострастно улеглась на бутерброд, истекая маслом. Посылаю к письму 25 шлепков. 24 – так себе, но 25-й – задаток!.. Ну уж ты знаешь, какая у меня легкая рука. Целую...
Через три месяца в Институте наметились перемены, и о них – в письме:
Москва. 20.6.32.
О себе. Расскажу по порядку.
1930 год. Дни бегут, как театральная публика за галошами – в беспорядке. Я – автоконструктор.
1931 год. Слух ползет, как вша по шелку, – в Институте организуют отделение холодной штамповки.
1932 год. Март. Нашу группу переводят в это отделение. Я – холодный штамповщик.
Апрель. 1—5 – подавленное настроение. 5—10 – сугубо подавленное. 10—15 – чрезвычайно подавленное. 15—
20 – просто давленное. 20—25 – бессмысленно неопределенное (чуть-чуть давленное). 25—25 – надеждливое (от слова «надежда»).
Май. Слухи о реорганизации Института в Военную Академию. Вся студенческая масса в детском неведении.
13 мая. Группу опять переводят на автоконструкторское отделение. Я – автоконструктор. Остальную часть мая учимся внешне спокойно, если только не считать нервного подергивания лица и пляски святого Витта конечностей.
Июнь. 2-го на стене приказ о зачислении большинства студентов в Военную Академию. Я – будущий военный инженер. Вот и все, что могу тебе сообщить. Думал отделаться в письме поклоном, но один из студентов сказал: «Это всякий дурак так может. На что я, – говорит, – женатый человек, что с меня взять, и то считаю: надо подробно написать».
После поступления в Академию милитаризовался и стиль письма:
Москва. 1.1.33.
1. Здравствуй.
2. Обстановка. Зачетная сессия начнется с 1.1.33 и до 18.1.33. С 18.1.33 – отпуск. На время отпуска – пребывание в Сталинграде.
3. Приказ по СТЗ, дому 525, квартире 10.
На основании вышеизложенного подготовить встречу на вокзале согласно телеграмме о выезде, своевременно высланной из Москвы. Обеспечить пищевым довольствием и квартирой. Организовать досуг, не лишенный посещения зрелищных предприятий. Директору завода о приезде не сообщать. Ответственность за исполнение вышеперечисленного возложить на инж. Котляра Э.И. По приезде в г. Сталинград инж. Котляру Э.И. об исполнении доложить мне лично. Подпись...»
Отдохнул у него неплохо. Вернулся в Москву на учение. Следующее письмо без даты было послано, очевидно, ближе к лету. Я ему писал редко, но его упрекал в том же. Вот это письмо, подражание древнегреческому:
Внемли, презренный, промыв загрязненные уши,
Благоговейно прислушайся к гласу премудрого брата.
Музы слетелись ко мне, разевая широкие пасти.
В сих неразборчивых строчках скрыты великие мысли.
Есть Сталинград, городишко на берегу Волги,
Грязная Волга течет, испражняясь на берег.
Верст пятьдесят минус тридцать вверх по течению Волги,
Выстроен чудо-завод тракторов-землепашцев.
На сем заводе работают скромные люди,
Их обучил Институт Ломоносова Миши.
Редкие пишут посланья они своим мамам и братьям,
Краску стыда мы не видим на их твердых скулах.
Море волнуется, комкая в панике воды,
Мама и братик волнуются точно как море.
Ну и так далее...
И, наконец, еще одно – ему уже 27, а мне 22.
Москва. 18.3.35.
Если ты ничего не добился до 30 лет, значит, ничего не добьешься. (Английская пословица.)
Привет дорогому брательнику в день его двадцатисемилетия!
Привет и поздравление. 27 лет – это не всякий имеет. И ты добился немалого, но я жду от тебя еще большего. Как говорит другая английская пословица: «Одному удается украсть лошадь, а другой не решается посмотреть на нее через забор». Фигурально выражаясь, лошадь ты еще не украл, но из-за забора на нее уже поглядываешь. А я желаю тебе – табуна. Письмо это пишу в чрезвычайно напряженной обстановке. С ближних позиций кинжальным огнем трещит какая-то певица по радио. С дальних позиций (из другой комнаты) раздаются залпы мамочкиных окриков на тему, что раз я долго пишу, то вряд ли что-то путное. (Замечание, впрочем, резонное.)
В апреле у меня последняя зачетная сессия, а затем дипломная практика. Тогда напишу подробнее. Крепко тебя целую.
А летом 1936 года я поехал к нему, и далее произошло то, после чего дураковаляние в письмах кончилось. Об этом – позже.
3. Имени Ломоносова. И погоныНо вернемся к тому времени, когда я, продолжая традиции семьи, поступил в Автотракторный институт.
1930 год и впереди... О, впереди бесконечность. Вокруг меня новые люди, и хотя учение продолжается, но все это уже совсем другое, и педагоги иные, и обстановка – все другое.
И, прежде всего, я едва ли не самый молодой на курсе. Мне всего 17, а среди студентов нашей группы есть даже женатые. Или, во всяком случае, имеющие кого-то более или менее рядом, и менее или более постоянное.
Что до умения, есть предметы обычные – начертательная геометрия, английский язык, но начались и специальные. А педагоги отличаются от школьных тем, что никакого оттенка воспитательности в их отношении к тебе нет. Педагог вызывает, ты отвечаешь, и все. И у него складывается твоя репутация. Но он вовсе не уговаривает ее улучшить. Ему, строго говоря, на тебя наплевать. Ему важно изложить предмет, ответить на вопросы и проставить отметки, выявляющие усвоение. Ну, разумеется, он заинтересован в понимании, но вообще, а не в частности тобой. И никаких Коля, Петя, Миша. Всех по фамилии.
Есть, конечно, исключения. Например, преподавательница английского Александра Григорьевна Милашевская. Весьма миленькая и кокетливая женщина. Она сразу установила с нами особый, личный контакт. Добиваясь от нас правильного произношения, она бесспорно выделила некоторых из нас, заставляя складывать губы и прикладывать язык к нёбу так, а не иначе. И очень симпатично показывала – как. Некоторых она даже приглашала к себе домой (группой, само собой, человека три-четыре), где это произношение мы и отрабатывали. Я было подумал: чего это она, ведь старуха – ей уже 36 лет. Но это только для меня она была старухой, а кое-кто воспринимал ее совсем иначе и млел, когда она подходила к нему.
Так или иначе, но занятия английским у нас выделялись успешностью. В частности, я им обязан тем, что когда потом ездил в Англию и США, то сравнительно свободно понимал и говорил. И даже теперь, хотя уже давно нет никакой практики, с грехом пополам, а как-то по-английски могу балакать.
Были у нас, разумеется, и такие предметы, как диамат и истмат, которые я тянул, при моей тупости к политике и философии, только с помощью зубрежки. А на политбоях – была тогда такая форма вовлечения студентов в общественную жизнь, когда две группы публично шпыняли друг друга вопросами из текущей политики, – так вот на этих политбоях я бывал неизменно «убит». Зато по прочим предметам, в том числе и специальным, даже самым сложным, как, например, сопромат, столь же неизменно имел отличные оценки. И действительно, они давались мне легко.
Ну, а как личная жизнь, спросите вы меня? Или, если не спросите, так подумаете. А она шла своим чередом. Нет, это были не некоторые наши студентки – они почему-то воспринимались как бесполые. По той же, возможно, причине, по которой танцор, крутя перед собой балерину, подкидывая или вообще волоча до седьмого пота, перестает видеть в ней женщину. Пример, может, не абсолютно точный, ибо случались и у нас романы, но все же достаточно верный.
Спрашивается, так кто же? Сейчас, по прошествии длительного времени затруднюсь ответить.
А, вот вспомнил. Одну заметил на отдыхе. В волейбол играла. После игры – то-се, разговорились, ну и встречались некоторое время. Потом, через несколько лет встретил и подумал: что я в ней тогда нашел?
Другую увидел в трамвае. Очень хорошенькая. Но ехал по делу, надо было выходить, и потом всю дорогу досадовал: мимо носа этакое проехало. А на обратном пути сел в трамвай и гляжу – она! Ну, сами понимаете, такое пропустить было нельзя, тем более и она в тот раз меня приметила, ждала дальнейших шагов, а я вдруг вышел. Подплыл к ней и был принят снисходительно. Ну и опять это длилось какое-то время, пока слишком энергичный
напор с одной стороны (ее) не вынудил другую сторону (меня) постыдно смыться, ссылаясь на занятость. Хотя, кстати, ссылка была справедливой.
Дело в том, что где и чем бы я ни был занят, институтом или не институтом, но в голове всегда гвоздем торчала дума об очередном рассказе. Я все время что-нибудь да писал. Почти все из написанного я потом, к счастью, уничтожил. Но иногда замыслы требовали осуществить их в новом варианте, который, как мне казалось, будет наконец «то самое». Вот для этого тоже нужно было время. Я написал «тоже», но по своему личному ощущению, это было не «тоже», а самое что ни на есть аппетитное время. И его жалко было расходовать даже на весьма привлекательные создания с гибкой фигуркой и вроде бы загадочными глазами. А ничего загадочного, как приглядишься. Просто бьют в одну точку и, пропуская мимо ушей твои умные рассуждения, склоняют тебя к тому, чтобы ты разрешил им сесть тебе на шею.
Ну а потом, как я уже отмечал в письмах, нас перевели в Военную Академию, заново созданную, бронетанковую. Так что мы все надели военную форму, затянули ремни, перекинули через плечо портупеи, и от этого наша неотразимость в глазах женского пола, естественно, возросла, и активность того же пола также. Но появилась необходимость ездить вместо Благовещенского переулка в центре Москвы – в Лефортово; это намного дальше и отнимало больше времени. И еще – пришлось носить головной убор (фуражку – для отдачи приветствий на улице), чего я не любил. Не терплю никакой тяготы на голове и руке, даже наручные часы дома всегда снимаю.
Из нас, ломоносовцев, был организован промышленный факультет, который опекал Наркомтяжпром. Зато по окончании Академии мы должны были стать снова гражданскими и идти работать на гражданку, а не по военному ведомству. Несколько студенток, которые с нами перешли, также стали при портупеях, ремнях и сапогах, из-за чего, в наших глазах, потеряли женственность. Так что за ними, в свободное от учения время,
ухлестывали не мы, а слушатели военных факультетов – командного и эксплуатационного.
Например, слушатель командного факультета Черняховский (да-да, тот самый, будущий полководец на войне) дежурил в коридоре около нашей группы, поджидая слушательницу Майку Топоркову. А слушательница из другой группы умудрилась выйти замуж за начальника эксплуатационного факультета генерала Илюхина. Уж не помню, по ком страдал слушатель командного факультета красавец Орловский, потом ставший зам. начальника Академии и генералом, но кого-то выстрадал, это факт.
Нас теперь называли слушателями, а не студентами (считая, очевидно, что именовать академиками преждевременно). А вообще учиться в нашей Академии (позже – имени Малиновского, а тогда – имени Сталина) считалось почетным. Так, вместе со мной ее закончили сыновья Осинского и Свердлова, а когда я уже кончал, поступил сын Ворошилова (приемный, как будто). Для него в раздевалке, вернее, для его шинели, чтоб не спутали, вбили специальный гвоздь, и рядом сидел охранник (стерег шинель).
Кое-кто из наших штатских педагогов также перешел в Академию. Но будучи всю предыдущую жизнь гражданскими людьми, они выглядели в военной форме нелепо. Она сидела на них, по нашим неприхотливым остротам, «как лошадь на седле коровы». За качество шутки не отвечаю – общественное изделие.
На преподавательниц, слава богу, форму не надели, и они на общем фоне от этого только выиграли. Некоторым удалось даже свершить матримониальную карьеру: выйти замуж за генералов из руководства Академии.
Я не утерпел и стал публиковать фельетоны под прозрачным псевдонимом «Некотляр» в нашей многотиражке. Это хоть и дало мне популярность, но вызвало повышенную требовательность педагогов. Однако я учился с удовольствием и по предмету «тактика», которую вел военный преподаватель, единственный на всем промышленном факультете (гражданском!) получил «5».
Окончил я Академию вторым, и мой дипломный проект так одобрили, что пришлось показательно его по-
вторить перед командующим бронетанковыми войсками Халепским. Он специально приехал на наш выпуск в 1935 году. Причем отвечал я, по его указанию, по-английски.
После чего мне сделали предложение остаться в кадрах, сразу получить повышение в звании (две «шпалы» – майора; а я и так уже имел одну «шпалу» – капитана, это получили немногие, остальные – «кубари») и высокий по тем временам оклад – 200 рублей. Место работы – танковый полигон в Кубинке.
Но я отказался. Воспользовался правом вернуться в штатское состояние. На меня уже была заявка по линии Наркомтяжпрома – в НАТИ, Научный Автотракторный институт, на оклад 90 рублей.
В мозгу у меня сидело только одно: максимум свободы, чтобы писать! В Академии мне предлагали остаться на кафедре и рисовали чарующее будущее: адъюнкт (одно слово чего стоит!), кандидат, доктор и звания, звания. При условии, разумеется, в погонах. Но и тут я отказался. Свободы хотел, свободы!
Что-ж, попав в НАТИ, я ее получил. В той мере, в какой это у нас было возможно. А вот в какой именно, будет видно из дальнейшего.
4. Лихие борыНАТИ находился в Лихоборах, и поездка туда – метро, электричка, переход от станции по полю в Институт – отнимала полтора часа в один конец. Итого три часа на дорогу. Чтобы не терять время, я брал в голову задачу: обдумывал ту или иную ситуацию для очередного рассказа. И, вернувшись вечером домой, сходив в магазин купить продукты и поев, мог сразу сесть за стол – вывалить все, что накопилось и наработалось в голове.
Я чуть не забыл сказать, что умудрился в 1936 году жениться. Очень, очень милую девушку я заприметил, когда вечером работал в Ленинке. Она стояла на хорах, очевидно, отдыхала, а я, находясь внизу и оторвавшись от книг, понял, что мне тоже необходимо немедленно отдохнуть, причем, само собой, также на хорах.
Ну, а остальное, как говорится, было делом техники. Девушка вблизи оказалась еще милей. Когда она собралась домой, мне вышло с нею по дороге. Так я сказал. Только проводив ее аж до Банного переулка, а это тогда был самый конец проспекта Мира, у Рижского вокзала, только тогда я открыл ей, что живу в самом центре, на Пушечной. И топать мне потом пришлось не менее часа хорошим ходом. И в дальнейшем не один раз. Пока она не вышла за меня и не перебралась в нашу квартиру.
Но это так, попутно. Чтобы было ясно, почему у меня до женитьбы после работы имелось два маршрута: домой (к маме) или к Тане – так ее звали.
Мама после событий, о которых пойдет речь ниже, стала прихварывать. Ее начала одолевать болезнь Паркинсона, дрожали руки и ноги. А потому необходимые покупки стал делать я. Так вот, чтобы не терять времени в очередях, я и там старался использовать его для дела. Проверял свое умение угадать живую речь. Я думал: спрошу-ка этого о том-то. Судя по его виду, он должен ответить так-то. И постепенно, все чаще, начал угадывать ответы почти дословно.
После ужина я садился писать (если не шел в библиотеку) и работал до двух ночи. Потом спал до семи утра. А в семь мама с трудом будила, и не дай бог, если она делала это без пяти семь. Я с алчностью вырывал эти пять минут и, представьте, тоже спал! Ну, а потом завтрак, бегом в метро и – все было рассчитано по минутам – попадал как раз к отходу электрички.
Вы можете спросить, а почему бы ни записать все, что накопил по дороге, в НАТИ, севши там за стол? Ведь никто ко мне в бумагу не заглядывал, мало ли что я пишу. Однако я не поступал так не столько из порядочности, сколько из пижонства – сам перед собой держал фасон. Даже не позволял себе на работе о литературных делах думать.
А работа в Институте шла своим чередом, и я стал сначала руководителем группы, а затем образовал собственную лабораторию.
Не буду морочить вам голову наукой, скажу лишь, что это было создание теории и расчета пространствен-
ной несущей системы автомобиля. То есть, попросту говоря, его корпуса. Перед войной первые автобусы вагонного типа и джипы нашего производства были сделаны уже с учетом моих расчетов.
Литературная работа тоже двигалась. В том смысле, что я писал ежедневно, с перерывом разве что на один вечер в неделю. Но мне захотелось понять, чего стоят мои рассказы. Поэтому я подал заявление в Вечерний литературный институт, который находился на Тверском бульваре, 25. Написал зачетную работу, и меня приняли. Я попал на семинар профессора Тимофеева Леонида Ивановича, и это стало одной из самых больших удач в моей жизни. Более талантливого педагога я не видел. Его лекции было наслаждением слушать. А критические замечания на мои рассказы он делал с такой точностью и юмором, что я выходил от него не только не раздавленным, а с желанием немедленно сесть за исправление, пока не улетучился прилив сил.
Через некоторое время на нашей очередной встрече Леонид Иванович сказал: «Знаете что? Вам не нужен этот литинститут. Он ведь дает только образование. А писателем, у кого нет дара, сделать не может. У вас дар есть, образование тоже, а времени из-за научной работы мало. Вам просто надо писать и писать. И приходите ко мне домой – мы живем рядом. Буду читать и отмечу, что, с моей точки зрения, не удалось. Как вам это подходит?»
Подходит ли это мне?! Да я буду счастлив так поступить! С тех пор так и повелось. Я приносил ему написанное, общался с его славной женой Софьей Ивановной и детьми, Олей и совсем маленьким Леней, или Лютиком, как его все звали. А главное, выслушивал разносы Леонида Ивановича.
Один из секретов его метода, как я позже понял, заключался в том, что в каждом моем рассказе он, кроме уймы недостатков, находил обязательно что-то хорошее. И всегда конкретно говорил, почему то плохо, а это лучше. Подозреваю, что и отмеченное с плюсом тоже было не ахти каким, а Леонид Иванович выделял его из педагогических соображений. Но – действовало. И постепен-
но мои рассказы стали его удовлетворять. Л.И. был стиховедом, а потому особенно чувствительным к слову, к музыке речи и, хочу надеяться, привил эту требовательность и чуткость мне. Так или иначе, я стал регулярно носить ему мои работы, и это продолжалось с перерывом на войну, когда я был на фронте, до самой его смерти в 1984 году. То есть почти 50 лет.
Пришло время, когда Л.И. посоветовал начать толкаться с рассказами в печать. Как стиховед и ученый, Л.И. не мог оказать мне тут поддержку, да я бы таких его хлопот и не допустил: мой единственный и любимый учитель был инвалидом. С детства, после полиомиелита, у него были парализованы ноги, и он передвигался либо на костылях, либо в коляске.
Да и вообще я считал, что всего должен добиваться сам. Вот и начались мои хождения по редакциям, которые продолжались пять лет.
Однажды – в конце 1940 года – Л.И. мне сказал, что в «Огоньке» появился новый редактор, талантливый Евгений Петров – попробуйте-ка к нему. Я попробовал. И – успешно. Рассказы начали печатать.
Пошли рассказы и на радио. Их стали читать отличные артисты: Каминка, Плятт, Осип Абдулов и другие.
Но я взял псевдоним, чтобы эти публикации не помешали пребыванию в НАТИ.
А там все шло своим чередом. Пока неожиданно для нас, зайдя утром воскресного дня 22 июня 1941 года в Мосторг и поднявшись на 4-й этаж, я, как и все толпившиеся в магазине, не услышал по радио запинающийся голос Молотова.
Война!..
И хотя я как научный работник имел броню, но на следующий же день отправился в военкомат и получил назначение в Орел. А жену отправил в НАТИ с заявлением, что ухожу на фронт.
Попрощался с мамой, с Леонидом Ивановичем, послал письмо Ноле, и Таня проводила меня на вокзал. Ну а дальше – для меня – из Орла в Майкоп, из Майкопа в Сталинград, где я умудрился написать свою первую пьесу «Мефистофель», из Сталинграда в Москву. Для
мамы и Тани – эвакуация в Уфу. А для всех – ужас, потеря близких, разруха, ну и все прочее, что терпит страна, когда война происходит на ее территории.
Чтобы не прерывать повествования, я прошелся от 35-го года до 41-го. А теперь вернусь к 36-му году, когда в очередной мой летний приезд к брату в Сталинград, в отпуск, произошло событие, ударившее по нашей семье.








