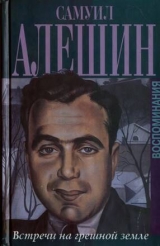
Текст книги "Воспоминания "Встречи на грешной земле""
Автор книги: Самуил Алешин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
Успех спектаклей Варпаховского в ермоловском театре поднял популярность актеров, и, как это нередко бывает, они, приписывая все заслуги только себе, стали съедать режиссера. (Театр это такое место, где взаимные обиды всегда в избытке.) В результате, если режиссер умеет отбиться, все приходит в норму. Если нет – ему лучше уйти. Варпаховский ушел. Вот тогда я и предложил Малому театру пригласить Л.В. на постановку «Палаты».
После этого наши отношения стали теснее, мы подружились домами. Ида Самуиловна, жена Л.В. – милейшая женщина, которую все почему-то звали Дусей, была человеком гостеприимным и полным юмора. Ее знакомство с Л.В. состоялось в лагере, куда она попала совсем юной. Она пела в лагерном театре, где он ставил спек-
такли, а потом они поженились. Ей, как и Л.В., было что рассказать о лагерной жизни. А я, в свою очередь, мог поведать им о войне и про жизнь по эту сторону решетки.
Взаимная симпатия наших семейств росла, и мы даже стали проводить вместе лето в приморском эстонском городке Пярну, где, кстати, эстонские режиссеры тоже ставили мои пьесы.
Дальнейшая совместная работа с Л.В. хоть и сопровождалась иногда спорами – без этого не обходится – укрепляла нашу дружбу.
Тем болезненней оказался разрыв наших отношений, возникший в последние годы его пребывания в Малом театре. Правда, незадолго до смерти Л.В. примирение формально состоялось, но общение уже не восстановилось.
Теперь о причине разрыва. Лагерь, как я уже упомянул, сказался, очевидно, и на характере Л.В., навсегда напугав Варпаховского. Так, например, после читки «Палаты» на труппе Малого театра, когда ее все приняли единодушно, Л.В. счел нужным «сигнализировать» руководству театра, что, на его взгляд, пьеса рискованная. Об этом вспомнила как-то завлит театра З.Апухтина в ответ на какое-то замечание Варпаха. Он метнул на меня косой взгляд, смешался и, ничего не сказав, сильно покраснел.
Пьеса эта шла долго и дожила до времени, когда при Брежневе начался отбой критики Сталина. И что же? Л.В. возобновил свои опасения, прося меня снять реплики, осуждающие сталинизм. Якобы этого требуют зрители. Я, разумеется, отказал. Но меня поразило, что человек, немало пострадавший от беззаконий сталинщины, продолжает бояться критики этого периода.
Я тогда объяснил себе его страх тем, что Л.В., потерпев от ермоловцев, опасается, как бы Министерство культуры СССР не помешало ему укрепиться в Малом театре. Ладно, подумал я, будем надеяться, что, войдя прочно в штат театра, он почувствует почву под ногами и станет смелее.
Но ситуация, возникшая с пьесой «Куст рябины», вызвала уже с моей стороны разрыв отношений. А дело было так.
Читка пьесы на худсовете Малого театра превратилась, по существу, в читку на труппе. Большой кабинет тогдашнего директора театра А.В. Солодовникова был заполнен артистами. О пьесе разнесся добрый слух, и на читке присутствовали даже режиссеры из Болгарии и Чехословакии. Когда я кончил, все, после долгих аплодисментов, стали твердить только одно: немедленно приступать к репетициям. Варпаховский тоже выступил «за», но как-то уклончиво.
На следующий день едва ли не все актрисы старшего поколения подали заявки на главную роль – Старушки. (По сюжету ей, 80-летней женщине, приходит приглашение из США от сына. Ну, а далее следуют все перипетии, связанные с этой поездкой и пребыванием Старушки в Америке.)
Тогдашние редакторы Министерства культуры СССР, которые определяли репертуар театра, получив пьесу, забросали меня вопросами, смысл которых подспудно сводился к одному – какой национальности Старушка? (Не еврейка ли? В те годы отъезд евреев из Союза яростно осуждался.) Я же говорил им, что суть пьесы в том, что Родина для человека означает тем больше, чем больше он сделал для Родины, а не наоборот – урвав от нее. Все же прочее не имеет значения. Но редакторы не успокаивались.
В канун заседания худсовета театра, который должен был уточнить сроки постановки, ко мне приехал на дом Варпаховский – «поговорить». И оказалось, что его, как и редакторов, также волнует вопрос о национальности Старушки. Причем он считает, что если Старушка еврейка, то спектакль не разрешат, если же иной национальности, то это никому не будет интересно.
На это я заметил, что прохождение пьесы по Инстанциям беру на себя, тем более имея поддержку театра и директора Солодовникова. Что до успеха у зрителей, то на него, как мне кажется, можно надеяться, судя по тому, как приняли пьесу артисты на читке.
Но Л.В., выслушав это, обнял меня, поцеловал и добавил, что все же, по высказанным соображениям, он ставить пьесу не берется.
Что же вы скажете завтра на худсовете театра? – спросил я.
И оказалось, что ответ у него уже был готов:
Скажу, что приглашен ставить пьесу о Ленине во МХАТе. (Это соответствовало действительности.)
Так на следующий день и заявил. Худсовет от неожиданности был в шоке. Решили немедленно пригласить другого режиссера. Такой режиссер нашелся и захотел ставить пьесу. Но тут уже редакторы министерства, узнав об отказе Варпаховского, начали тормозить пьесу всерьез. Подключили министра, и пьесу зарубили. Только спустя несколько лет ее поставили, да и то на периферии.
Потом мне сказали, что истинная причина отказа Л.В. была в другом. После смерти Рубена Симонова в вахтанговский театр вернулся Евгений Симонов и освободил пост главного режиссера в Малом. У Л.В. были основания претендовать на этот пост, и он, возможно, боялся, что министерство культуры не утвердит его, если он поставит «Куст рябины». Так это или нет – не знаю. Главным в Малый все равно был назначен не Л.В., а Борис Равенских. Обиженный Л.В. ушел к вахтанговцам, но успеха там не имел и стал кочевать по разным театрам. И умер. Кто знает, может, если бы он поставил «Куст» и имел серьезный успех, то Инстанциям как раз и пришлось бы назначить его в Малый главным? И это, возможно, продлило бы ему жизнь. Кто знает?
...Мне неизвестно, какими качествами надо обладать, чтобы выдержать семнадцать лет сталинской каторги. Бог миловал и пронес мимо меня это испытание. Но не мимо моей семьи. Брату пришлось перенести его полностью. Однако он вышел из этого страшного испытания хоть и с подорванным здоровьем, но не напуганным. Значит, можно и так.
Я, конечно, буду всегда благодарен Леониду Викторовичу Варпаховскому за то хорошее, что он сделал для меня. Но из песни слова не выкинешь.
Алексей Арбузов Человек-спектакль
Перебираю сборники пьес Арбузова с дарственными мне надписями:
«...Дорогому соседу – в прошлом по квартире, нынче по алфавиту, в будущем по вечности. Ведь все же наследили мы».
«...милому человеку, соратнику и сопернику с чувством глубокой симпатии».
И еще, и еще – добрые, неожиданные, шутливые.
А след Арбузов в нашей и современной зарубежной драматургии оставил значительный и достойный. Сложные времена наши он прошел так, что стыдиться ему нечего. И судьба его была завидной: самый знаменитый из наших нынешних драматургов. Как ему это удалось?
Арбузов был очень умным человеком. Он, полагаю, понимал, что высказать все, что хочешь, в упомянутые времена, без существенных потерь – дело неподъемное. А потому проявлял свой ум не впрямую, не так, как это бывает, когда все говорят: вот – умница! А иначе: через странность, забавность, театральность поведения.
Это пришло к нему – понимание – не сразу. Поначалу он был умным открыто, и в пьесах, и в выступлениях. Помню, например, его давнюю речь в Колонном зале с рефреном «Служение муз не терпит суеты». После него тогда должен был выступать я. Но ко мне подошел один из устроителей и спросил: «Вы, надеюсь, будете возражать Арбузову?» «Наоборот», – ответил я. «Тогда немного после», – сказал устроитель, пристально взглянув на меня металлическими глазами. И на трибуну сразу же выпустили другого весьма темпераментного драматурга, который с места в карьер стал кричать: «Я люблю тебя, Алеша, но
зачем же так?!» И стал поносить его, сдабривая все объяснениями в любви. А мне так и не дали слова.
За первые пьесы Арбузова также руганули. «Жестокий романс» – так называли «Таню» в одной из критических газетных статей. Какие-то упреки были и потом. Реакция Арбузова оказалась неожиданной. В его пьесах зачастили чудаки, с которых, как говорится, взятки гладки.
Одну из своих пьес Арбузов назвал «Сказки старого Арбата». Мне же думается, что хоть и не про все, но про многие его пьесы можно сказать: «Сказки нестареющего Арбузова».
Нет, в них не было чудовищ, королей, рыцарей, фей и всяческих ужасных и чудесных превращений. В них, в этих пьесах, действовали вроде бы обычные люди в реальной, подчас будничной обстановке. Но говорили и поступали они не так, как люди в жизни, а обязательно неожиданно. И, в результате, если (как и полагается в сказке) мечта сбывалась, зло наказывалось, а добродетель награждалась, то возникало впечатление, что для этого нужно совсем немногое: говорить чуть-чуть необычно и поступать несколько странно, чудаковато. Это подкупало, а потому казалось вероятным. Но это только казалось. Ибо быть чудаком совсем непросто и небезопасно.
А сюжет Арбузов любил строить мелодраматически. И в ответ на упреки в склонности к мелодраме не только не оправдывался, а, наоборот, охотно подтверждал это свое пристрастие, умело используя ее действенные стороны.
– Алексей Николаевич, – спросил я его как-то, – а почему ваши персонажи обязательно говорят не так, как люди в жизни?
И не надо! – воскликнул он. И тут же заговорил точь-в-точь, как его персонажи. Это стало уже его второй натурой. Ибо он создал не только театр Арбузова, но из самого себя – тоже театр. С течением времени он выработал у себя язык, манеру поведения, даже внешний вид (челочка, чуть экстравагантный костюм), сходные с иными его героями. Это было забавно, симпатично, придавало ему определенное очарование. И, кстати, в какой-то мере избавляло от необходимости следовать обычным нормам поведения. (По слухам, он даже опоздал на свадьбу собственной дочери из-за футбола или хоккея, —
такой-де, мол, был болельщик.) А потому, если меня спросят, какая из пьес Арбузова кажется мне наиболее интересной и значительной, я отвечу – он сам.
В связи с его 70-летием мы, драматурги, собрались в гостиной ЦДЛ и поздравляли его. Каждый говорил несколько слов, сопроводив его имя каким-либо лестным прилагательным. Помнится, я сказал ему: «Очаровательный Алексей Николаевич».
Это обращение, казалось бы, уместное к женщине, тем не менее вполне подходило к нему, хотя ничего женственного в нем не было. Как истинный мужчина, он любил все, что и полагается любить мужчине. Но это была правда. В его театральности было безусловное очарование. Для меня, во всяком случае. Общаясь с ним, я словно присутствовал на спектакле, где действующее лицо, автор и режиссер – все совмещалось в одном человеке. Трудно сказать, был ли он эгоистом или альтруистом – он был таким, какую роль ему хотелось в данную минуту играть.
С огромной симпатией я наблюдал, как он в течение многих лет, что я его знал, оттачивал, формировал свой образ. Он был умен настолько, что всегда знал, с какой неожиданной странностью этот ум проявлять. Известен случай: молодая авторша запальчиво обругала его и еще двух достойнейших драматургов на их встрече-беседе с молодыми драматургами Ленинграда. Достойные драматурги справедливо возмутились и не скрыли своего негодования. А Арбузов засмеялся и сказал: «А мне нравится, что она нас так. Я сам был таким в молодости». И вот таких трюков за ним числилось немало. Умница! И очаровательнейший человек.
Кругом слишком часто стали употреблять прилагательное «замечательный». Ну, если еще так говорит обыватель – туда-сюда. Но для человека искусства важна деталь, конкретность – чем замечательный? Вот я и попытался понять это, вспоминая Алексея Николаевича.
Удалось ли? Не знаю.
Леонид Вивьен «Стало быть, скамеечку пониже!..»
Почему «стало быть»? А потому, что это была его постоянная присказка.
Большой лоб. Очень большой лоб. Спокойные, внимательные глаза. Чуть полноватый, крупный, неторопливый. Вроде бы мягкий. Но определенный, точный. С юморком, но не назойливым, а как бы между прочим.
Таким запомнился мне Леонид Сергеевич Вивьен, с которым судьба свела при постановке им моей пьесы «Все остается людям» в Ленинградском академическом театре имени Пушкина, главным режиссером которого он тогда работал (1958—1959 годы).
Режиссером он был превосходным – конкретно об этом ниже. Говорили, что и актером тоже отличнейшим. К сожалению, на сцене мне его увидеть не довелось. А вот его режиссерские работы – булгаковский «Бег», уже упомянутая моя пьеса, да и другие – это я видел и могу подтвердить: отменные работы.
За всю свою театральную жизнь (а мои пьесы идут у нас и за рубежом уже полвека) я могу по пальцам пересчитать постановки, которые пришлись мне по душе. Его – среди первых.
И все это без крика, истерии, без припадков, которые у некоторых режиссеров обозначают творческий экстаз. Наоборот – тихий, успокаивающий голос, речь, перемежающаяся непременным «стало быть».
– Вы только, голубчик, не суетитесь, и все будет хорошо. А то станете волноваться и, глядишь, вскорости, стало быть, холмик.
И руками показывает этот самый надмогильный холмик.
На приемках спектаклей (был такой неизбежный полицейский обычай: начальственная комиссия при пустом зале заставляла играть, во все глаза всматриваясь, во все уши вслушиваясь, не проскочит ли где крамола, нет ли повода потребовать купюры или внести какие-либо поправки), – так вот на этих приемках, когда все с трепетом ждали, к чему придерется комиссия, Вивьен сидел обычно спокойно, полузакрыв глаза, и неторопливо вертел сцепленными пальцами. А тот, кто находился рядом, иногда мог бы услышать, что Леонид Сергеевич во время самых жгучих проработок даже что-то тихо-тихо мурлычет.
Был случай, из Москвы приехала специальная министерская комиссия во главе с начальником уж не помню чего запрещать «Бег». Постановка удалась, комиссия это знала, была послана вдогонку, и всю ночь в «Красной стреле» начальник пил и хныкал: «Вот – еду хороший спектакль запрещать! Но ничего не поделаешь – надо!» Это был уже тот «либеральный» период, когда начальство избегало запрещать спектакли от своего имени, а предпочитало душить их руками кого-либо из театра. На что исполнители всегда находились – а иначе зачем партком?
Так вот, вызвали «на ковер» по поводу «Бега» директора театра, главрежа и секретаря парткома. Стали пугать: дескать, апологетика белогвардейщины, принижение роли красных, возвеличивание таких аполитичных понятий, как честь, ну и так далее.
А затем должно было последовать самокритичное выступление секретаря парткома с просьбой дать доработать спектакль в правильном направлении до полной кондиции, что по существу означало либо его изуродовать, либо вообще спустить на тормозах.
Однако обычно флегматичный Вивьен неожиданно упредил партсекретаря и произнес задушевным тоном следующее:
– Стало быть, Владимир Ильич Ленин в свое время сказал, что деятелей искусства надо не принуждать, а убеждать. А вы нас, стало быть, не убедили. И вот почему.
После чего разбил доводы комиссии в пух и прах. А так как начальство у нас к возражением не было приуче-
но, а привыкло к бессловесному подчинению, то, за отсутствием контраргументов, приезжая комиссия в растерянности замолчала. Но, по накатанной колее, передала дело в обком. И тогда ту же тройку вызвали уже на обкомовский «ковер», где нажимали так, что директор и партсекретарь вообще лишились дара речи и только согласно кивали головами.
Но не лишился Вивьен. С полузакрытыми глазами, он проникновенно заявил, что внимательнейшим образом выслушал сказанное и «в свете указаний товарища Ленина» обещает над этим подумать. Но не более.
После чего тройка покинула обком; двое на полусогнутых, а Вивьен свежий как огурчик, и, обращаясь к своим спутникам, потирая руки, произнес: «Ну-с, так куда бы нам сейчас, стало быть, пойти перекусить?» На что коллеги, к которым вернулся дар речи, воскликнули: «Как вы можете?! И что это вы все время напевали? И потом, вы слышали, что они нам вменяли?!»
– А я их никогда, стало быть, не слушаю. А мотивчик вот какой. Прелестная, знаете ли, вдруг вспомнилась шансонетка начала века. Что-то вроде: «Поедемте кататься, я вас люблю, не смейте прикасаться, не потерплю». Так куда, стало быть, направимся?
И он действительно не бывал напуган. Объяснял это тем, что сразу после революции был арестован и приговорен к расстрелу. «Как французский шпиен, стало быть. Из-за фамилии. Но потом Горький подсуетился, и нас несколько человек выпустили. Так что хуже не будет. И не такой испуг я уже, стало быть, пережил».
Что до спектакля «Бег», то его продолжали играть. Самоудушения не состоялось. Вивьен на запросы из обкома отвечал, что продолжает внимательно все сказанное обдумывать. Успех спектакля нарастал, и, в конце концов, начальство, поняв, что откровенное запрещение прозвучало бы скандально, сочло за лучшее приписать успех тому, что к начальственным замечаниям прислушались и учли.
Так что Вивьен был мягкий, мягкий, но твердый.
Однажды произошел все-таки случай, когда проявленная Леонидом Сергеевичем твердость чуть не вышла ему боком.
А дело было так. В репертуаре театра существовала инсценировка «Дворянского гнезда», где роль Лаврецкого исполнял действительно заслуженно популярный артист, который, увы, страдал алкоголизмом. С этим приходилось мириться, так как за ним стояло высокое начальство. Он пил и на спектакле – без этого не мог играть. Но порядок был заведен такой: первый акт он играл трезвым, а в антракте выпивал свою порцию, после чего мог доиграть второй акт. Его постоянная гримерша знала это и, как бы он ни настаивал, раньше второго акта выпить ему не давала. Ну, а уж после второго акта он лыка не вязал.
Но случилось так, что постоянная гримерша заболела и ее заменила другая, молоденькая, которая была не в курсе этого распорядка. И артист обманул ее, сказав, что без выпивки не сможет играть первый акт. Мол, такой всегдашний обычай. Девушка, конечно, знала об его пристрастии и колебалась, но он ее убедил. Выпил, первый акт сыграл, а в антракте его так развезло, что ни о какой дальнейшей игре говорить не приходилось.
Зрители сидят, антракт длится сверх всякой меры, и тогда Вивьен решился. Он вышел перед занавесом и хорошо поставленным голосом отчеканил:
– В связи с тем, что народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий, такой-то (тут Вивьен полностью назвал имя, отчество и фамилию артиста) пьян, спектакль продолжаться не может!
Публика, разумеется, разошлась в шоке. А Вивьена вызвали в обком и еще кой-куда. Обвинили в намеренной дискредитации не только артиста, но и высоких государственных званий. А также в глумлении над святыми чувствами и так далее и тому подобное.
Требовали раскаяний, угрожали санкциями и хотели, чтобы он подал в отставку. Но Леонид Сергеевич не признавал себя виновным. И не собирался сам покидать пост, на котором достойно руководил театром. А снять не посмели, ибо опять скандал, повод для которого слишком всем известен, – громкое было бы дело.
Так что пришлось начальству этот финик, как говорится, выкушать. Но нервы Леониду Сергеевичу Инстанция, разумеется, потрепала.
Не знаю, был ли временно уволен из театра провинившийся артист, но некоторое время он не играл. Может быть, лечился? Затем вернулся на сцену, ничего заметного после этого не сыграл и умер. Жаль, конечно, талантливого человека. Увы, он не первый и не последний, которого пьянство сгубило. Кто-то винил Вивьена – дескать, опозорил человека и нанес ему удар. Но мое мнение – Леонид Сергеевич был прав. Достоинство зрителей тоже надо оберегать.
Теперь перейду к воспоминаниям, связанным с постановкой моей пьесы.
«Все остается людям» начали репетировать почти одновременно во МХАТе и у Вивьена. Однако в журнале «Театральная жизнь» появилась статья главного тогдашнего редактора, осуждающая пьесу (даю трибуну попу, и еще какие-то обвинения). Факт такой публикации противоречил правилам печати и этическим нормам – нельзя критиковать неопубликованное произведение и непоставленный спектакль, и порядочный человек никогда бы себе этого не позволил, – но статья достигла поставленной цели: репетиции были приостановлены. А меня вызвали для объяснений в ЦК КПСС, хотя я был беспартийным. Как я отбояривался от них – об этом можно рассказать в другом месте, здесь не о том речь. Усилиями умнейшего и опытного директора МХАТа Александра Васильевича Солодовникова удалось как-то, через пень в колоду, все же репетиции продолжить. В Ленинграде же, где начальство всегда старалось быть святее Папы Римского (колыбель революции!), дело застопорилось, и Вивьен попросил меня приехать для объяснений.
По приезде выяснилось, что начальство на этот раз не постеснялось напрочь запретить работу над пьесой (раз еще ничего не состоялось), считая, что к Октябрьской годовщине нужен праздничный спектакль. Моя пьеса для этого никак не годилась. И навязывают ему другую пьесу. «Пьеска дрянь, – сказал Вивьен, – но я займу там всех
народных, устрою апофеозик и тогда, стало быть, выторгую у начальства право поставить вашу».
Пришлось с этим примириться. И я, признаться, подумал, что постановка пьесы в Ленинграде вряд ли вообще состоится.
С «апофеозиком» они, естественно, провалились. Но начальство было довольно: юбилей отмечен. Однако шансов на постановку моей пьесы не прибавилось.
Во МХАТе же медленно работа продолжалась, и, наконец, хоть и не первыми (первым стал Южно-Сахалинский театр), но премьеру сыграли. Нападки на пьесу было возобновились, однако спектакль с каждым разом набирал число сторонников, что давало мне силу противостоять всяческим требованиям Инстанций.
И тут вдруг я получил сообщение от Вивьена, в котором он просил приехать в Ленинград на репетиции. И хотя я, как правило, не хожу на репетиции, но мне очень захотелось посмотреть, как работает Вивьен.
Не знаю, может быть, ранее он и давал актерам какие-нибудь смысловые разъяснения, но я был свидетелем того, как он находил и подсказывал им удивительно точные, необходимые физические состояния. И я еще, в который раз, получил подтверждение того, что даже самый талантливый артист обязательно нуждается в режиссуре.
К примеру, Николай Черкасов произносит один из монологов. Следы самостоятельной темпераментной домашней работы очевидны. Но результат таков, что я почти в панике гляжу на Вивьена. Однако Вивьен спокоен и одобрительно кивает головой. А затем говорит: «Принесите-ка нам вон ту низенькую табуреточку. А ты, Коля, стало быть, садись на нее, как кучер на облучке. Это хорошо, что у тебя коленки к ушам подъехали, это, стало быть, так и надо. А теперь давай-ка весь монолог на выдохе».
После чего Черкасов, весь зажатый, с трудом произносит монолог, – и получается великолепно. Ибо сдавленный Черкасов только об одном и может думать – как договорить текст до конца. Ему не до того, чтобы что-то еще и изображать. То есть он почувствовал себя физичес-
ки именно в том состоянии, в каком такой монолог мог возникнуть.
К чести Черкасова, он это состояние не только закрепил, но уже потом на спектаклях органично ощущал. Без помощи табуретки. Но придумал-то приспособление все-таки Вивьен.
Спектакль имел такой успех, что его даже привезли в Москву и играли в Кремлевском театре. Черкасову дали Ленинскую премию. И хотя автор и режиссер оказались обойденными, но я не внакладе. У меня осталась добрая память о встрече с Вивьеном. А это, знаете ли, дорогого, стало быть, стоит.








