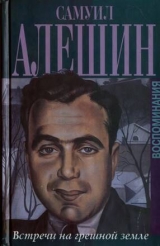
Текст книги "Воспоминания "Встречи на грешной земле""
Автор книги: Самуил Алешин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Отец Киприан Путь владыки
Дело было в 1955 году. Собирал я тогда материал для своей пьесы «Все остается людям». И в сцене спора академика Дронова со священником отцом Серафимом запнулся. Понадобилось поговорить с квалифицированным духовным лицом. Около Переделкино, где я тогда работал, находилась резиденция патриарха. Я туда и заглянул. Вышел ко мне почтенного вида священник. Я представился, сказал, зачем пришел. Поговорил он со мной любезно. Но, чувствую, беседуем, а в глазах у него: «На кой ляд этот тип сюда привалился? Может, пасквиль какой-нибудь собирается написать?» И хотя я самым убедительным образом постарался его заверить, что никакой статьи писать не собираюсь и никак порочить церковь не стану, но основания для подозрений у священника, прямо скажем, в те времена были. В газетах нет-нет да появлялись то отказы от сана, то разоблачительные статьи, где духовенство представляли пьяницами, мздоимцами и развратниками, эксплуатирующими невежество народа. Да и основоположник соцреализма, сам Максим Горький приложил к тому свою могучую руку. Так что, повторяю, глядеть на меня с подозрением, как я ни клялся, основания у священника имелись. И откровенного разговора, увы, не получилось.
Сделал я еще одну-две попытки и вижу – пустой номер. На беседу соглашаются, но с опаской, и ведут себя настороженно, отделываются формальными ответами. Что и следовало ожидать.
А мне как быть? Бросил я тогда клич среди знакомой театральной братии. И вот тут Александр Семенович Менакер, прелестный человек и умница, мне подсказал:
Миша Зернов, вот кто вам нужен.
– А кто такой Миша?
Ну, как же! – и рассказал мне начало истории, развитие которой пойдет ниже.
А именно – на улице Горького (ныне опять Тверская), там, где сейчас театр имени Ермоловой, был некогда театр Эстрады и Миниатюр. (Кстати, там до него находился театр имени Мейерхольда.) И служил в нем администратором Михаил Зернов. Дело знал, но иногда почему-то отпрашивался в самое рабочее время. Однако ему шли навстречу – хороший работник. Но вот как-то руководству театра пришлось вызвать Зернова и сказать:
Послушайте, Миша, странная вещь. Кто-то из артистов был в Елоховском соборе и там среди служителей видел человека, как две капли воды похожего на вас. Сходите, посмотрите.
– А мне ходить нечего, – заметил Зернов. – Это я.
После чего возникла немая сцена, вроде той, что венчает гоголевского «Ревизора». (Прошу учесть то время, когда посещение церкви, уж не говоря о службе в ней, рассматривалось как криминал.)
То есть, как вы? – наконец выдавил из себя тогдашний руководитель.
– А я там служу. Я верующий человек.
Тогда, Миша, вам придется выбирать между церковью и театром. Подумайте об этом.
– Тут и думать нечего.
А потом пошли слухи, что Миша принял монашество и его жена стала у него зваться домоправительницей. А еще через какое-то время, – что Миша пошел в гору (человек-то толковый, администратор умелый), и он уже там кем-то вроде управделами.
Короче, когда я бросил свой клич, то знающие люди согласились с Менакером: к Мише Зернову и больше никуда. Без опаски. Миша знает – мы его не обманем. Да и о вас, возможно, уже слышал. Только учтите, он уже не Миша, а Михаил Викентьевич.
– Это я понимаю. Отнесусь с полным почтением. Хоть и атеист, но с понятием.
И вскоре мне действительно сказали, что Миша меня ждет. То есть Михаил Викентьевич.
И я отправляюсь по адресу то ли в Мертвый, то ли в Чистый переулок, где-то в районе Кропоткинской – там была тоже какая-то резиденция или что-то в этом духе.
Захожу в просторный двор и вижу – стоит там рослый мужчина средних лет в рясе, с большим крестом на груди и отдает властно распоряжения: машину послать туда-то, а эту туда-то. Проследите за тем-то, а это сделать тогда-то.
Почтительно подхожу: – Михаил Викентьевич? – Оказывается, угадал. Представляюсь и добавляю: – С вами говорили...
Он гостеприимно берет меня под руку и ведет к себе в апартаменты. Широким жестом предлагает сесть, сам усаживается напротив, и я вижу перед собой приятное лицо, окаймленное бородой и увенчанное длинными волосами, причем в меру, как у художников или композиторов. Его глаза смотрят на меня доброжелательно, с интересом, и я слышу бархатистый голос: – Чем могу быть вам полезен?
Объясняю свои нужды, перечисляю встреченные трудности и получаю в ответ примиряющую улыбку – дескать, сами понимаете причину. Киваю и я: претензий никаких, знаю, в каком королевстве живу. После чего начинается наша беседа.
Ну, конечно, это был уже совсем другой разговор. Атмосфера полного доверия. Я – вопрос, он – ответ, и так далее. А в конце он даже предложил мне ознакомиться с его магистерской диссертацией и передал объемистую рукопись. Я с благодарностью ее принял, после чего наша деловая часть закруглилась и он спросил меня, не хочу ли я с ним откушать.
Я было заикнулся, что меня дома ждет обед, но вовремя сообразил, что особенно-то упираться нет смысла, да и он эту причину так ласково отвел, что мое согласие как бы получилось само собой. Затем он встал, снял рясу, и я увидел, что на нем темно-синяя рубашка и серые брюки, а от кистей до локтей – нарукавники, как у чертежников в конструкторских бюро. Потом он снял большой крест, положил его в ящик письменного стола, запер, а ключ – в кармашек брюк. Повесил рясу в шкаф, вынул оттуда пиджак, надел и превратился в того само-
го художника или композитора, о котором я упоминал выше. Потом надел пальто и шляпу, и мы вышли во двор, где нас уже ждало такси.
Сели и поехали в «Савой», что на Рождественке. (Конечно, тогда «Савой» был «Берлином», а Рождественка – улицей Жданова, но ныне все вернулось к старому варианту.) Подъехали. Смотрю, на счетчике 10 рублей (были тогда такие цены). Но мой Михаил Викентьевич дает шоферу радужную тридцатку (была тогда такая банкнота), и тот, выбежав и обогнув машину, открывает дверцу. (В последний раз я видел этакое в Стокгольме, а по телевидению лишь когда президенты подкатывают куда-нибудь для своих нескончаемых встреч.)
Вышли мы, а швейцар «Савоя», смахивающий на адмирала, распахнул перед нами дверь, и гардеробщик принял у Викентьевича пальто, словно вазу, наполненную нектаром, после чего мы вплыли в зал.
А тут уже к нам подлетел метрдотель, ловко огибая кресла, и – весь улыбка – произнес: – Прошу к вашему столику, Михал Виккеньч-ч-ч...
Столик у окна. Викентьич сел и, заговорщицки потирая руки, спросил:
– Ну-с, так что мы будем пить?
И хотя, друзья мои, я человек непьющий, но тут... И упустить такой сюжетец? А потому мы опрокинули с ним одну, а может... впрочем, я не считал... рюмашечку этого самого... забыл чего, и разговор, сами понимаете, у нас пошел уже скорее на театральные темы. Потому что передо мной сидел, как ни кидай, а в прошлом театральный человек. А театр это, доложу я вам, такая штука, что кто его хлебнул, тому эта отрава уже на всю жизнь. Возможно, даже на загробную, с учетом специфики.
Теперь уже Зернов меня расспрашивал, кто и с кем сейчас в театре... короче, о репертуаре. Рассказал мне, кстати, про один эпизод, который имел место, в свое время, в театре Вахтангова. Был у них в труппе артист – красавец и талант. Ну – всем взял. И актрисы, конечно, его... очень уважали. А тут выпали театру зарубежные гастроли, редкая штука по тем временам. Ну и анкеты, разумеется – кто, где и все прочее. Если женат, то зачем, то есть на ком? Вот наш актер и написал – холост. А
восемь актрис назвали его своим мужем. И соответствующие органы засекли – несовпадение. Потребовали: разберитесь, иначе всей поездке капут. Наш герой – ни в какую. Ну и пришлось актрисам свои претензии снять. Временно. До возвращения на родину.
Чем же дело кончилось?
– А ничем. Вернулись. Война. И погиб, бедняга.
В общем, расстались мы с Михаил Викентьичем почти по-родственному. Верующий, неверующий – какая разница, была бы совесть. А его магистерская диссертация тем более убедила меня, что он человек искренний и думающий.
Короче, сцену в пьесе я написал, а уж какой она вышла, не мне судить. Одно скажу, сцену эту зрители всегда принимали, затаив дыхание. (Из-за нее, кстати, у меня были самые большие неприятности в Москве: вызывали в ЦК и требовали, чтобы я либо убрал священника, либо, на худой конец, ослабил его аргументы. Но я стоял насмерть.) А священники ходили на спектакль и благодарили театр – знаю это из первых уст, ибо одну из ролей играл артист Колчицкий, сын протопресвитера. Так что слова своего я не нарушил. Но об этом как-нибудь в другой раз, а сейчас вернемся к Зернову, ибо о нем главная речь.
Как мне стало известно, он рос в чинах, достиг сана архиепископа и принял имя – владыка Киприан. Представлял русскую православную церковь в Израиле, в ФРГ и ведал внешними сношениями. В общем, стал крупным церковным деятелем, оставшись при этом добрым и простым человеком.
А недавно я узнал, что он умер.
Что же, мир праху твоему, владыка Киприан, а в миру Михаил Викентьевич Зернов. Хорошим ты был театральным администратором, достойным духовным лицом, истинно верующим человеком, прекрасным собеседником, доброй душой и настоящим театралом. Что еще? Да, пожалуй, достаточно.
Станислав Ежи Лец Без промаха
В декабре 1964 года я приехал в Польшу на премьеру своей пьесы «Палата», которую поставили в Белостоке. До этого в Польше уже шли мои пьесы, так что для поляков я не был новым автором. К моему приезду «Палату» уже сыграли несколько раз, а значит, спектакль, который предстояло мне увидеть, можно было счесть премьерой условно. Но так бывает, – приглашают, когда есть зрительский успех и хорошая пресса. После спектакля предполагалось обсуждение его, на которое в Белосток прибыла группа ведущих столичных театральных критиков.
Меня пригласили на десять дней, вот я и жил в отеле в Варшаве, ожидая, когда меня отвезут в Белосток.
Пока же бродил по улицам, заходил в кинотеатры. Заглянул я и в кафе «Телимена», названное так, очевидно, по Мицкевичу. Кафе находилось неподалеку от моего отеля и днем почти пустовало. В кафе было два этажа, но на второй я не пошел, а расположился на первом, где почти все столики оказались свободными.
Ко мне тут же подошла официантка и спросила, что хочет пан. Понять ее моих знаний польского языка хватило. Но вот сказать, что пан хочет чаю без сахара покрепче и пирожное желательно без крема, но с миндалем, оказалось затруднительным. Я пытался компенсировать нехватку слов жестами, но чем больше старался, тем с большим опасением официантка глядела на меня.
В свое время, в Токио, зайдя в лавочку с писчебумажными товарами, я постарался телодвижениями изобразить, какой именно флакончик клея с резиновой пробкой хотел бы приобрести. Внимательно глядя на меня, японка, с непроницаемым для европейца лицом, быст-
ро поняла суть дела, и флакон был куплен. Однако польская официантка либо обладала меньшей сообразительностью, либо моя жестикуляция была недостаточно выразительна, либо сказалось, увы, исторически сложившееся чувство настороженности между Польшей и Россией. Так что чем я был более энергичен, тем желаемый результат становился менее достижим. Во всяком случае, на хорошеньком лице официантки возникло что-то среднее между соболезнованием и неприязнью.
И тут сзади раздался голос, произнесший по-русски с легким польским акцентом:
Не могу ли я быть вам полезным?
Я обернулся. За столом сидел лысоватый мужчина средних лет, с полным лицом, приподнятой правой бровью и глазами, которые смотрели на меня с доброжелательным любопытством. Перед ним лежало несколько листков бумаги, стояла чашечка кофе, а около нее на тарелочке кренделек, усыпанный чем-то загадочным и привлекательным.
Ох, спасибо, – простонал я. – Мне хотелось бы два стакана чая, без сахару и покрепче, только не сразу, а один немного попозже. И два вот таких кренделька, как у вас. (Шут с ними, с миндальными, я решил, что не промахнусь, если возьму те, что у этого любезного пана.)
Мужчина обратился к официантке по-польски, та с улыбкой выслушала его и тут же принесла заказ.
Она, конечно, вас понимала, – сказал мужчина. – Но в Польше человеку из России лучше говорить по-польски.
– Я так и думал. В беспокойстве, с которым она взирала на мои эволюции, был некоторый элемент наигрыша. Что до языка, то я тут всего на несколько дней, так что вряд ли успею в нем продвинуться.
Откуда вы?
Из Москвы.
Турист? Командировка?
– Нет. На премьеру своей пьесы.
– Ах, так вы драматург? Может, я знаю ваше имя? – Я назвался. Он из вежливости заметил: – Да-да, слышал. А что за пьеса и где?
Я сказал. И добавил: – Мне повезло, что вы как раз оказались здесь и были так любезны...
– А я тут часто бываю. Я здесь работаю. – И он кивнул на свои листки.
То есть?
– Пишу. Я тоже литератор. Однако вы вряд ли знаете мое имя.
– А все же?
Станислав Ежи Лец.
– Ну, вот вас-то я на самом деле очень хорошо знаю!
– Что-нибудь слышали обо мне?
Не слышал, а читал. Ваши афоризмы.
Странно. Меня печатают всюду, кроме Советского Союза.
– Мне переводили. – И я выразил ему свое восхищение. – А откуда вы знаете русский язык?
Каждый поляк моего возраста и старше говорит по-русски. Да и потом, я был в России. Знаете что, переходите за мой столик.
Не помешаю?
– На сегодня – все. Будем считать, работу закончил.
Но почему вы пишете именно здесь?
– А где? Дома, в кабинете? Нет. Такие вещи дома, в одиночестве, не пишутся. А вот когда сидишь среди людей, пьешь кофе с крендельками, поглядываешь вокруг, перекидываешься с кем-то словцом или, например, видишь, как человек заказывает себе два чая и пирожные без крема, то что-то в голову приходит.
Например?
Ну, скажем: «Если бы ухо могло говорить!»
Здорово!
Спасибо. Иногда я сижу на втором этаже. Если тут много народа. Там нечто вроде писательского клуба. Но когда тут как сейчас, здесь работается лучше. Там могут помешать. Здесь – никогда. А вообще, не пойти ли нам прогуляться?
Мы поднялись, и стоило позавидовать тому, каким мерцающим взглядом проводила официантка Леца. На прощанье он ей царственно кивнул.
А далее мы пошли по улицам Варшавы, и тут я увидел, что такое настоящая слава.
Мы шли, и варшавяне разных возрастов узнавали Леца. Люди постарше церемонно снимали или приподнимали шляпы, а студенты в каскетках радостно помахивали Лецу руками. Он был их достопримечательностью, которой они гордились, – это было ясно.
И вдруг нам повстречался также немолодой мужчина, который еще издали приветствовал нас, вернее, Леца. Лец ответно взмахнул рукой и шепнул мне:
Это Збигнев Ленгрен. Известный художник-карикатурист.
Я знаю, – сказал я. – У меня дома даже есть два его альбома.
Ленгрен подошел, Лец представил нас друг другу, и они перекинулись несколькими польскими фразами, извинившись передо мной.
Да, ради Бога! – заметил я и отошел в сторонку, чтобы дать им возможность поболтать. Но прохожие... О, прохожие словно получили двойной подарок, глядя, как два их любимца, чтобы не сказать сильнее – обожаемые знаменитости! – беседуют.
А эти? О, они, конечно, все чувствовали и чуть-чуть работали на публику, картинно хохоча, похлопывая друг друга и жестикулируя. Чтобы прохожим было что рассказать, когда они придут домой. Или не домой. – «Ты знаешь, кого я сегодня встретил? Вот так они были рядом со мной, как ты сейчас. Я мог бы до них дотронуться, как до тебя!» – «Даже так?» – спросит, поеживаясь, паненка, щуря свои завлекательные глазки. – «Ну, не совсем так, но...» – Ну и так далее.
Мне как человеку театральному, сами понимаете, доставляло удовольствие наблюдать, как они разыгрывали для прохожих свой маленький спектакль.
Через день мы опять встретились с Лецом, снова погуляли, а затем обменялись адресами, и я уехал в Белосток. Посмотрел там спектакль по своей «Палате», отбанкетовал и поднасытился комплиментами на совещании театральных критиков. Дома никогда так не похвалят. Дома я привык к тому, что все, кому не лень, поучают. Но ведь и об этом сказано у Леца:
«Всегда найдутся эскимосы, которые разработают для жителей Конго указания, как вести себя во время жары».
А тут... А когда критики узнали, что я родился в расположенном неподалеку городке Замброве, то их похвалы сразу же приобрели научную базу: «Все ясно! Сразу видно, что пан родился в Польше. Значит, пан – поляк!» – «Нет, – заметил я, – пан не только не поляк, но и не русский. Пан – еврей». Но они были неумолимы: «Главное – где родился. Чей воздух вдохнул при рождении. А от кого – это уже дело десятое. А иногда темное», – добавили они, подмаргивая мне со значением. Но тут я уже был тверд, не желая подвергать сомнению репутацию моей матери. И отца. Но они даже не сделали вида, что приняли это во внимание.
И лишь когда узнали, что я собираюсь посетить Замбров (всего час езды), чтобы разыскать дом, где я родился, то высказали компромиссный вариант: «А что мы говорили?! Пан все же в душе поляк!»
Несколько человек решили меня сопровождать, чтобы помочь найти искомую улицу, дом и квартиру. И представьте мое волнение, когда я, приехав в Замбров, нажал кнопку у двери.
Да, разумеется, там теперь жили другие люди, а не мой отец, не моя мать, не мой пятилетний старший брат и не крохотный комочек плоти, которым я тогда был. Но посмотреть на стены и потолок, который видела моя семья, походить по полу, по которому ступали они и, наверное, ползал я, – для этого стоило приехать в Замбров, даже если бы он находился на другом конце планеты.
После чего мы покинули этот дом на углу Базарной площади (теперь площадь Сверченского) и Водной улицы, причем вход в квартиру с Водной, а затем на втором этаже повернуть направо и, войдя, увидеть синенькие обои...
Потом, через Варшаву я вернулся в Москву и скоро получил от Леца его очередные «Непричесанные мысли» с дарственной надписью. Послал ответно сборник своих пьес. Затем мы обменялись письмами. А вскоре его афоризмы стали публиковать наши журналы.
И вдруг он умер. Пятидесяти семи лет. Говорят, он был тяжело болен. Но я помню его веселым, любезно отвечающим на поклоны встречных.
Он умер, и это значит, что уже не удастся посмотреть с его помощью свежими очами, как сказал бы Гоголь, на те немыслимые глупости и обычаи, которые мы принимаем как должное, к которым привыкли, и о которых он и только он мог сказать так кратко, изящно и наповал:
Не подпиливай сук, на котором сидишь, разве что на нем хотят тебя повесить.
– Пусть не бросает перчатки тот, у кого грязные руки.
– Уничтожая памятники, сохраняйте цоколи. Могут пригодиться.
– Я не согласен с математикой. Я считаю, что сумма нулей – грозная цифра.
Об эпохе больше говорят слова, которые не употребляют, чем те, которыми злоупотребляют.
А вот это нам, театральным людям:
Каждый зритель приносит в театр свою акустику.
– Драматург, чревовещатель души.
И не только нам:
Время делает свое дело. А ты, человек?
– Все имеет свой конец. Надо только до него дожить.
И наконец:
Нелегко жить после смерти. Иногда на это нужно потратить всю жизнь.
Что же, Станиславу Ежи Лецу это удалось.
Соломон Михоэлс Секрет величия
Как известно, Михоэлс – театральный псевдоним великого еврейского артиста. Вернее, великого артиста еврейского театра в Москве. Настоящая его фамилия была – Вовси. Соломон Михайлович Вовси.
У меня было с ним несколько встреч в конце войны и чуть позже. Но, конечно, я видел его на сцене и до войны, просто не был знаком лично. Он снимался и в кино – например, эпизодическая роль в картине «Цирк». Там он играет одного из зрителей, который, взяв на руки негритенка, поет ему куплет песенки по-еврейски. Затем передает мальчугана другим, а те продолжают ту же песенку по-украински, по-русски и так далее. По замыслу авторов фильма, эта сценка должна была символизировать дружбу народов, их равенство и, попутно, отсутствие дискриминации негров. Что происходило в те времена в стране на самом деле – все знают. И хорошая игра Михоэлса в эпизоде не могла поколебать лживость всей картины. Увы, к сожалению, использовалась даже в укрепление.
Действительно свободными от спекулятивного вмешательства были работы Михоэлса в Государственном еврейском театре (ГОСЕТ). Этим театром руководил сначала А.М.Грановский, а затем, после гастролей за рубежом в 1928 году, когда Грановский и часть труппы там остались, с 1929 года театр возглавил Михоэлс. В нем он блистательно сыграл заглавную роль в «Путешествии Вениамина III» Менделе-Мойхер-Сфорима, да и в других спектаклях. Но самой значительной работой Михоэлса стал король Лир.
То был 1935 год, объявленный годом Шекспира. Московские театры подготовили к этому событию велико-
лепные спектакли: «Отелло» с Остужевым в Малом театре, «Ромео и Джульетта» с Бабановой в Театре Революции и «Король Лир» в ГОСЕТе.
Эта работа Михоэлса сразу же стала событием не только в творческой жизни артиста, но и театральной Москвы, да и театральной шекспириады мира.
Михоэлс был мал ростом, с приплюснутым носом и далеко выдающейся нижней губой. Он был некрасив. И уж ничего королевского и традиционно лировского в нем не было. Лир величественный, прекрасный, с развевающейся бородой и гривой. Лир, грозно возвышающийся над всеми. И вдруг...
Не король, а мелкий ремесленник из черты оседлости, с голым подбородком и явным дефицитом роста и волос.
И все же это был король. Более того – истинно неопровержимый король, власть которого над всеми, как только он появлялся на сцене, становилась безусловной.
Как это достигалось? Нет, не котурнами. Не тем, что его подданные были подобраны еще ниже ростом. И не тем, что они подчеркнуто выказывали ему особое раболепие – это в банальном исполнении короля играют придворные.
Михоэлс решил задачу по-своему. Иначе он не был бы великим режиссером, актером и человеком, что редко встречается порознь и уж совсем исключительно редко в совокупности, за что он и был зверски убит. Но об этом – потом.
Как же поступил живой Михоэлс? А вот как. Сначала на сцене появлялись придворные короля Лира. И среди них две его дочери – Гонерилья и Регана. Но третьей дочери, Корделии, не было. Придворные, все как один рослые, то, что сейчас называют представительные, роскошно одетые, и держались они сановито, как метрдотели в фильмах из заграничной жизни. Они медлительно поворачивались друг к другу, так что было видно – каждый считает сам себя королем.
И вдруг даже не вошел, а почти суетливо вбежал Лир – Михоэлс. (Я где-то читал, будто он вошел сгорбленный и неторопливо, но в том спектакле, что видел я, было
именно так, как я пишу.) Лир не блистал одеянием, а об его внешности я уже сказал – она была при нем, никуда не денешься. Да он ее и не прятал, почти не было грима. Короче, Михоэлс собственной персоной и без каких-либо приукрашиваний. (Позднее, в фильме Козинцева этот облик Лира—Михоэлса в какой-то мере повторил в роли Лира Ю. Ярвет, кстати, хороший актер. Но сколь велика разница между повтором и открытием, столь же, на мой взгляд, отличалось и исполнение Ярвета от Михоэлса.)
Итак, Лир—Михоэлс (или Михоэлс—Лир, как хотите) почти вбежал, остановился как вкопанный и, постояв среди высоких, стройных словно корабельные сосны придворных, начал пересчитывать их небрежным движением пальца. Он считал, а они стояли именно как сосны или даже, скорее, как строевой лес, а может, как столбы, словно пригвожденные неряшливым движением его державного пальца.
Затем Лир скороговоркой спросил: «А где Корделия?» И все придворные немедленно засуетились. Стало ясно, что они не более чем слуги, а он, и только он один – король. Да, с лысиной во всю голову, маленький, с выдвинутой нижней губой и голым подбородком.
А далее уже все пошло своим истинно шекспировским ходом.
Чем дальше, тем яснее мы видели, как все это рослое и внешне значительное обнажало свою ничтожность рядом с маленьким человеком, которого они предали. Сцена с шутом, которого превосходно играл Вениамин Зускин, где он позволял себе даже вскочить на Лира с криком «Фатерл!» (Папочка), потрясала своей достоверностью. Эту сцену им пришлось как-то сыграть перед Сталиным – захотел увидеть, что это за Михоэлс и Лир, о котором так восторженно все говорят и пишут. Но ничего опасного для себя в этой сцене не усмотрел. (В этом смысле более непосредственной была реакция на гастрольном спектакле в Одессе одной из зрительниц. В конце представления она воскликнула: «Ну! Вот и имей после этого детей!»)
Сцена сумасшествия Лира была и сценой прозрения.
А в финале происходило невероятное. Маленький, щуплый Лир свободно и легко нес на руках тело мертвой Корделии. И было видно, что силы этого несчастного немощного старика рождены только великим горем.
Да, то был спектакль. То был Шекспир. И, я полагаю, если бы этот спектакль видел другой великий старик, который до того отказывал Шекспиру в логике, а потом, по жестокой иронии жизни, повторил судьбу Лира, – то даже он, Лев Толстой, убедился бы, что у Шекспира все имеет смысл. Хотя и не тот смысл, по которому земля совершает свои рутинные обороты, а тот, из-за которого наша планета когда-то возникла и устремляется куда-то...
То была трагедия. Но я видел Михоэлса и в спектакле «Путешествие Вениамина III». Мне кажется, он играл и в комедии «Гершеле Острополер». Но тут я могу ошибиться. Помню только – я был очень молод, – что весь зал, и я в том числе, катался со смеху, хотя я и, наверное, немало людей в зале не понимали идиш. Это, к сожалению, постепенно приводило к тому, что при сильной в ГОСЕТе труппе и интересном репертуаре зрители все же начали убывать. Трансляции тогда еще в театрах не было, а потому синхронный перевод обеспечить не представлялось возможным. Естественно было бы, казалось мне, играть этому театру, раз уж он в центре России, также и на русском языке, знакомя зрителей с еврейской классикой. Но театр так не делал, хотя все артисты отлично говорили по-русски. Почему? Этот вопрос я потом задал Михоэлсу, когда встретился с ним. Он мне ответил. Но об этом, как и о встречах с ним, я расскажу чуть дальше.
А теперь еще немного о том, что я о Михоэлсе слышал.
Мне рассказывала еврейская писательница Ревекка Рувимовна Рубина, что Михоэлс придавал весьма серьезное значение жесту. И действительно, жест у него был необычайно выразительный. (Об одном из них, пересчете придворных небрежным движением пальца, я уже говорил.) Но вот в чем секрет этой выразительности, я понял, лишь когда Рубина сказала, что у Михоэлса был принцип: жест должен предшествовать слову. Не сопро-
вождать слово, суетливо его иллюстрируя и отвлекая на себя внимание зрителя, не восполнять косноязычие речи, как это мы часто наблюдаем в обыденной жизни да и на сцене, а именно предшествовать. Причем так, чтобы слово потом дополняло смысл жеста.
Любопытно, что и великий реформатор театра – Мейерхольд, тоже понимал высокую цену жеста. Мне говорил об этом Леонид Викторович Варпаховский, который работал вместе с Мейерхольдом и изучал его методы. Так вот Мейерхольд считал, что жест должен сначала обозначить нечто противоположное цели. Например, перед тем как протянуть руку, оттянуть ее назад. То есть, сперва как бы – отказать.
В обоих случаях поучительно то, что оба мастера полагали: жест должен не сопровождать, не иллюстрировать событие, а готовить его. У Мейерхольда – через отказ, а у Михоэлса – через предварение. Это заставляло исполнителя задумываться над тем, как придать жесту точность и выразительность. Только потом, у знаменитого мима Марселя Марсо, в его показе с объяснениями, которые он давал в Центральном Доме литераторов в Москве, я увидел столь же точный, отобранный, лишенный всякой приблизительности и случайности жест. И теперь часто ловлю себя на том, что жесты многих даже хороших актеров (я уж не говорю о жестикуляции людей, не причастных к актерскому искусству) поражают меня своей неряшливой и бессмысленной суетливостью. (Взгляните хотя бы на жесты даже некоторых популярных ведущих телевидения.)
Но вернемся к Михоэлсу.
Со слов Александра Крона, Михоэлс, выступая на одном из театральных совещаний на тему о правде в искусстве, рассказал о своей беседе с драматургом Николаем Погодиным во время войны. Тот хотел написать пьесу о Ферапонте Головатом, колхознике-пасечнике, пожертвовавшем 100 тысяч рублей на самолет. Михоэлс спросил Погодина: «Для кого пьеса?» – «Для МХАТа».
Михоэлс: – А они не сыграют.
Погодин: – Почему?
Михоэлс: – Они, со своими правилами доискиваться правды, станут выяснять: Почему подарил? Откуда у него деньги? Не потому ли дарит 100 тысяч, чтобы спасти остальные и чтобы не спрашивали, откуда деньги? И так далее, тому подобное. Не сумеют они сыграть. А если сыграют, то никак он у них героем не выйдет.
Погодин: – Как же быть?
Михоэлс: – Отдать в другой театр.
И добавил на этом совещании: «Я представляю себе, как это все у Головатого получилось. Предположим, он был просто скупцом. Каждую копейку зажимал. Вся семья трепетала перед ним – тиран. Родная жена заболела, а он на лекарства, на доктора жалел тратить. И жена померла. Накопил сто тысяч. И вдруг – немцы! Все летит прахом. Тогда он решает: пожертвовать. И вот я вам сейчас могу показать, – сказал собравшимся Михоэлс, – как он понесет свою кубышку с деньгами жертвовать».
После чего Михоэлс ушел за кулисы. И вдруг появился оттуда. Он шел как сомнамбула, яростно глядя вперед невидящими безумными глазами, и нелепо нес двумя руками поставленную на голову кубышку. Прошел в другие кулисы, как маньяк, и исчез. Зал грохнул аплодисментами.
В другой раз, опять-таки выступая на совещании, Михоэлс сказал: «Вот нам все время твердят, что надо учиться у МХАТа. Я спрашиваю: почему? – Мне отвечают: потому что МХАТ учится у жизни. – А если я тоже хочу учиться у жизни? Что, МХАТ у жизни – родное дитя? Так я тоже не племянник».
Покоряли не только остроумие Михоэлса и его дар артиста, но и единственно верная, плодотворная позиция в искусстве. А именно: путей к истине столько, сколько художников. Вот пусть каждый и выбирает свою дорогу. Тем более, что МХАТ в те годы был далеко не в лучшей форме, имея в своем репертуаре «Зеленую улицу» Сурова и публикуя восторженные интервью артистов, занятых в этом спектакле.
Ну а теперь, пожалуй, я могу себе позволить поделиться воспоминаниями о личных встречах.
Вернувшись с войны в Москву, я начал ходить по театрам со своей первой пьесой «Мефистофель», кото-
рую написал в 1942 году в Сталинграде. Стоит ли говорить, что на меня, прочтя пьесу, смотрели, мягко говоря, как на чудака. После великих Гете, Гейне, Пушкина, да и других – о Фаусте и Мефистофеле вдруг – кто? Какой-то инженер? И когда? В послевоенные годы, когда театрам нужно, как полагали, совсем другое.








